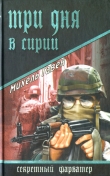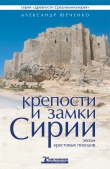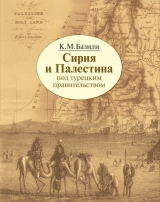
Текст книги "Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и политическом отношениях"
Автор книги: Константин Базили
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Ибрахим не был вправе коснуться духовного закона империи; по крайней мере облегчил он участь христиан воспрещением тех оскорблений, которые не постановлены законом. Гражданским властям было приказано избегать по возможности разбирательства в мехкеме спорных дел между христианами и мухаммеданами и соблюдать правосудие к подданным без различия вероисповеданий. Воспрещение ярких цветов платья и езды на коне, без сомнения, не столь обидно для народа, как закон о свидетельстве. Но подобные воспрещения служат выражением постоянной обиды, пятном отвержения на целом народе и тем самым питают в мусульманах обычную их спесь. Ибрахим приказал христианам надеть белые чалмы и любое платье и разъезжать верхом в самом Дамаске, в этом святом граде ислама, где ежегодное стечение поклонников, идущих в Мекку, возжигает периодически фанатизм в правоверной черни, в толпе нагих дервишей и изорванных сеидов, потомков Мухаммедовых, этого многочисленного и пестрого народонаселения базаров дамасских. В таком нововведении толпа видела осквернение заветных прав святого града Дамаска, преддверия Каабы и сада райского [207]207
Шам-эш-Шериф, Баб-эль-Каабе, Бустан-аль-Дженне – обыкновенные эпитеты этого города, которому только в истории и в литературе восточной дается древнее имя Дамаск, сохраненное в Священном Писании. В обыкновенном языке арабы и турки именуют Дамаск Шамом, или Шам-эш-Шериф, а всей Сирии дается название края Дамасского – Бериет-эш-Шам.
[Закрыть]. Но первый дервиш, который в исступлении гнева бросил грязь и проклятия на голову христианина, одетую в белую чалму, получил по повелению Ибрахима сто ударов плетью по пятам, и чернь утихла. Улемы и законники дамасские, оскорбленные не менее черни белой чалмой христиан, осмелились спросить у Ибрахима, каким образом отличать теперь правоверного от гяура, чтобы не согрешить по неведению заветным приветствием «алейкюм селям» («мир с вами»), которое по закону не подобает гяурам. Ибрахим, который мало заботился об этих богословских тонкостях, но основательнее улемов знал историю ислама, отвечал наотрез, что первые халифы, проповедники закона, сами надевали простую черную чалму вместо тех причудливых и разноцветных зданий, коими красятся теперь головы толкователей закона, и что мусульманина подобает узнавать только в мечети, христианина в церкви, а вне мечети, вне церкви в его глазах нет различия между ними.
И улемы, и чернь, и все сословия были принуждены покориться непреклонной воле Ибрахима, которого снисходительность к христианам усугубляла общее негодование мусульман на рекрутство и на налоги. С другой стороны, мусульмане со злобой видели, что в службе египетской почести и власть были доступны христианам. Правда, и при Джаззаре, и при Абдаллахе, и при других пашах бывали саррафы (банкиры), уполномоченные от своих повелителей для управления всеми их делами, но влияние этих саррафов было только влиянием раба, пресмыкавшегося во прахе пред своим властелином, осужденного переносить самые грубые оскорбления от последних его слуг и действовать только впотьмах.
Теперь же при Шериф-паше дамасском первым лицом [после него] был христианин, возвеличенный титлом бея и независимо от паши управлявший хозяйственной частью по всем сирийским пашалыкам. Новое устройство хозяйственной части, перемена системы налогов, строгая отчетливость и взыскание казенных доходов – все это становилось еще более ненавистным именно оттого, что орудием служил христианин, презренный райя, родом сириец.
Веротерпимость, эта лучшая и бескорыстнейшая черта египетского правления в Сирии, раздражала массу мусульманского народонаселения. Но заметим, что самая веротерпимость Ибрахима помрачалась отъявленным, циническим безверием. И сам он, и Шериф-паша, и, по их примеру, все почти высшие сановники египетские, питая в душе глубокое презрение ко всему арабскому племени и попирая его предрассудки, попирали в то же время коренные законы ислама. Ибрахим публично в Дамаске и во всех городах Сирии упивался шампанским. И здесь, как и в Константинополе, суждено, кажется, вспрыскивать веселой пеной шампанского все эти начинания нового политического быта. К этой страсти присоединял Ибрахим другие пороки турецких пашей, и его оргии не укрывались от народа… Редко показывался он в мечети, в часы молитвы он не творил законных омовений, предписанного пророком поста (рамадана) он не соблюдал; его окружающие детски хвалились своим вольнодумством, в войске не было имамов; безотчетно перенимая французскую военную систему, Мухаммед Али упускал из виду различие элементов и чувства народного между французскими и арабскими племенами. Вместо того чтобы ограничиться мудрым укрощением фанатизма народного, паша бесполезно оскорбил самое религиозное чувство народа. Многим европейским путешественникам было позволено в Иерусалиме посетить Омарову мечеть, которая почитается вторым святилищем в исламе после храма Мекки. Ничто не могло произвести более соблазна в фанатическом народонаселении Иерусалима. Старые служители Омаровой мечети рыдали над этим осквернением, не слыханным дотоле в мусульманском мире, и каждый раз при посещении мечети иностранцами местные власти должны были окружать себя и посетителей военной командой, чтобы предупредить порывы фанатизма в зрителях.
Если Мухаммед Али и Ибрахим этими мерами имели в виду укрощение фанатизма сирийских мусульман, если они надеялись ослабить в народе религиозное чувство, основу политического влияния султана, и тем упрочить свое владычество, то они очевидно ошиблись в своем расчете и достигли результата совершенно противоположного. Они призвали на свою голову народную анафему и еще более воспламенили в сирийских племенах оскорбленное религиозное чувство и преданность султану. При огромной армии, которой постоянно была занята Сирия, при страшных казнях, настигших Набулус, Иудею и Хауран, при неусыпной деятельности гражданских и военных властей эти расположения проявлялись в народе одним ропотом и унынием; но тем более ожесточалась народная ненависть, выжидая только минуты общего взрыва. Таким образом Ибрахим, который в походе своем в Сирию был предшествуем славой победителя богохульной секты ваххабитов, поборника святых мест ислама от осквернений раскольнических, коего имя покрывалось благословениями богомолов на открытом им пути из Дамаска в Мекку, успел в немногие годы пребывания своего в Сирии прослыть в народе гяуром, еретиком и бунтовщиком против законного государя и духовного главы ислама. Обиженное религиозное чувство служило отголоском политических страстей, вскормленных вековой анархией. В сочувствии своего унижения племена сирийские не могли ласкать себя утопиями об арабской самобытности, которыми еще воспламенялись в то время западные мечтатели. Никогда с таким остервенением племена эти не боролись против прежних своих пашей. Изнемогая в борьбе, они устремляли взоры к своему законному государю, ибо они видели себя беспрекословно осужденными опеке турецкой и ограничивали свои желания только тем, чтобы опека эта была снисходительнее и небрежнее.

Мечеть Омара на Храмовой горе в Иерусалиме. Гравюра В. Г. Бартлетта, 1820-е гг.
Этим достаточно поясняется замеченное уже нами любопытное явление контраста народных мнений на севере и на юге от Таврийского хребта и странного сочувствия малоазийских племен к Мухаммеду Али, а племен сирийских – к султану во весь период египетского владычества в Сирии. Это послужит равномерно к пояснению другого явления, еще более удивительного – этого быстрого разрушения египетской власти при 70-тысячной армии Ибрахима в 1840 г., после победы под Незибом, среди внутреннего кризиса Османской империи, предвещавшего, по-видимому, новые торжества египетскому паше.
С первых годов завоевания Сирии Мухаммед Али мог удостовериться в том, что завоевание это только материальной силой могло упрочиться за ним. Вместо сочувствия народного, лучшей поруки в прочности каждого завоевания, он навлек на себя только ненависть покоренных племен. Каждое его усилие к развитию военной системы было сопряжено с новыми притеснениями; ему оставалось действовать страхом, обычным средством восточных владык, и поражать воображения, когда сердца были недоступны ласке. Сирия была покорена 20-тысячной армией, можно даже сказать, что только сопротивление Абдаллаха за стенами Акки и ошибки осаждавших и необходимость разрушить чары, которыми владетель аккской твердыни оковывал народные умы в Сирии, продлили завоевание края и потребовали столь значительных сил и времени. Без Акки нет сомнения в том, что Ибрахим с 10-тысячным войском торжественно бы понесся до ущелий Тавра, прежде чем Порта успела бы выслать на него войско. Между тем после легких своих побед, когда Порта не была уже в состоянии бороться, когда султанским манифестом было освящено в глазах народа право, добытое саблей, Мухаммед Али, вместо того чтобы отозвать войска свои из Сирии, вместо того чтобы дать своему сыну отдохнуть под лаврами, видел себя осужденным каждый год усиливать свою сирийскую армию и держать Ибрахима неусыпным стражем над покоренным краем. Ибрахим кровными трудами и лихорадочной деятельностью целых восемь лет оплачивал легкие торжества первой своей кампании, а Мухаммед Али вместо барышей, которых он домогался распространением своих владений, тратил ежегодно значительную часть египетских доходов, чтобы только не выпустить из рук своей разорительной добычи.
Кроме армии, постоянно занятой усмирением мятежей и рекрутскими наборами, Мухаммед Али был принужден в обеспечение от вторжения турок укрепить ущелья Тавра. Ущелья эти были окопаны бастионами, двести пятьдесят орудий большого калибра послужили к довершению чудных работ, которыми сама природа укрепила ущелья Колек-Богаза и Гяур-Дага. Все это производилось прочно, поспешно и не щадя миллионов, под руководством европейских инженеров. С другой стороны, Акка, по своему местоположению и по народным о ней поверьям, служила залогом покорности сирийских племен. В Европе почли эту крепость ключом Сирии с моря. Мнение это основано, кажется, более на историческом предрассудке и на народном поверии, чем на топографическом изучении местностей.

Вид Акки с моря. Гравюра XIX в.
Без сомнения, Акка представляет большие удобства для укреплений, город лежит на возвышении у взморья, а кругом простирается гладкое поле, между тем как почти все другие города сирийского берега стиснуты соседними возвышениями, затрудняющими систему фортификации. Зато Акка по самому своему местоположению между морем и заливом, на краю мыса, с двух сторон доступна атаке с моря. Глубина допускает даже стопушечные корабли свободно подходить на ружейный выстрел, и уже одно это обстоятельство осуждает крепость, ибо флот, располагая произвольным числом орудий против известного пункта и подвергаясь только ограниченному действию береговых батарей, как бы они ни были сильны, может их разломать. К тому же сирийский берег по всему своему протяжению доступен с моря, хотя бы и устояла Акка. Палестина представляет много удобных пунктов и для высадки войска, и для сообщений с внутренними округами; Сур и Сайда открывают путь в сердце Сирии, в самый Дамаск; затем Бейрут, бухта Джуния, приморский замок римской постройки, Джубейль и город Тараблюс дают доступ в Ливан. На севере Латакия, Искендерун и Суэдия открывают сообщение с Халебом. По этим соображениям мы вправе, кажется, назвать предрассудком военную важность Акки; и примечания достойно, что предрассудок этот длится от Средних веков и поныне. Крестоносцы истратили лучшую свою кровь под стенами этого города, а по падении Иерусалима еще целый век оставались в Акке бессильными зрителями разрушения одного за другим основанных ими царств. В наше время Акка опять прославилась предприятиями Дахира и неудачей французской армии, а затем крепость эта переходила от одного паши к другому, будто залогом повиновения сирийских племен.
Ибрахим, который слишком высоко ценил семимесячную осаду, обратил в свою пользу народный предрассудок, сделавши из этой крепости главный военный пункт Сирии и оплот египетского владычества. Около 50 млн пиастров (до 3 млн руб. серебром) было израсходовано на сооружение бастионов и казематов, на постройку казарм, пороховых магазинов, цистерн и проч. Работы не прекращались во все время египетского владычества; Акка была вооружена 230 пушками. Впрочем, все эти работы имели тот основной порок, что они были последовательно приноровлены без общего плана к старым работам Дахира, Джаззара и Абдаллаха. В этой крепости было равномерно [также] главное депо полевой артиллерии и всех потребностей для армии сирийской. Происшествия 1840 г. доказали, как ошибочны были расчеты Ибрахима и его отца и как напрасны [были] все эти огромные расходы на укрепление Акки и ущелий Тавра.
Глава 9
Укрощение феодальных прав в Сирии. – Преследование дворянства. – Сила местных элементов. – Величие эмира Бешира и система его управления. – Начало льгот ливанских. – Взаимные отношения паши и эмира
Если нововведения египетские возбудили вопль народонаселения, то еще более ненавистным было для сирийского дворянства общее направление системы, клонившейся к ограничению его преимуществ, к укрощению его старинных бесчинств. Хотя никакого постановления об этом предмете не было обнародовано, однако по всем отношениям можно почесть главнейшим и основным преобразованием внутреннего устройства Сирии укрощение феодальных прав, беспрекословно существовавших и укоренявшихся под прежними пашами, но уже несовместных с новым правительственным устройством края и с введенным в управление единством. Приведение в ясность системы податей, непосредственный взнос их в казну, присутствие армии, всегда готовой поддерживать гражданские власти и содержать народ в повиновении, избавляли правительство от пагубного содействия этого класса людей, которого наследственное влияние было необходимым орудием в руках прежних пашей. Шейхи и эмиры, наследственно управлявшие округами, содержали в своей службе ватаги наездников как для угнетения народа по воле пашей, так и для сопротивления пашам в случае попытки с их стороны к укрощению буйства вассалов. Тогда во всем внутреннем устройстве власти проявлялось необходимое развитие основных отношений пашей к самой Порте, и коренное зло этих отношений между властями более и более проникало в политические нравы края.
Паша требовал от своих вассалов тех же условий, каких требовала от него самого Порта: исправного взноса условленной подати и содержания края в повиновении, не входя в разбирательство средств, какими взималась подать и обеспечивалось повиновение народа. С другой стороны, паша употреблял в отношении к своим вассалам те же средства, какие употребляла Порта для содержания в повиновении пашей и для взимания государственных доходов. Порта наказывала строптивого пашу другим пашой или назначала ему преемника с поручением идти войной на соперника и завладеть пашалыком. Паша в свою очередь обуздывал строптивых вассалов одного другим и всего чаще, как мы уже видели тому много примеров в делах ливанских и антиливанских, избирал в том же семействе другого претендента, поддерживал его своим влиянием и своим войском, пока удавалось одним братом погубить другого, племянником – дядю и т. д. Пути и средства тайной мести, кинжал и яд, ласка и измена были те же между Портой и ее наместниками, между пашами и их вассалами.
Таким образом, основная система управления областями проявляется тем безнравственнее, тем чудовищнее, чем далее будем вникать в ее развитие, распространяя семейные вражды, братоубийства, козни, образуя класс удалых людей, готовых и способных на самые дерзкие покушения, класс, из которого вербовалось, можно сказать, сословие пашей и которому предоставлялось по всему пространству империи править народом. По мере изнеможения султанов среди окружающих их сплетен более и более усиливалась власть местных правителей, облеченных всем деспотическим полномочием султанов.
Взглянем еще раз на состояние Сирии в эпоху вторжения египтян: прибережная Палестина едва была освобождена от Мехмет-бея Абу Набута, который, очевидно, домогался роли Джаззара и замышлял сделать из Яффы свое гнездо. Семейство шейхов Абу Гошей занимало Иудейские ущелья. Шейхи Амр владели южными ущельями Палестинских гор и крепостью Халиль Рахманом (древним Хевроном). Шейхи Самхан были главами конфедерации небольших племен, занимавших северные отрасли Иудейских гор. Набулус и вся Самария пребывали в открытом бунте, как только ее шейхи из семейств Джерар, Токаи, Беркауи и Абд эль-Хади забывали свои внутренние вражды или отлагали на время расчет семейной мести. В низменной Галилее бродили заиорданские бедуины, сгоняя земледелие с плодородных долин в горы. Абдаллах-паша сам безнаказанно бунтовал за стенами Акки, вел войну с горцами Набулуса и происками своими подстрекал к бунту жителей Дамаска. В Дамаске народонаселение умерщвляло своего пашу. Ливан был еще в смуте от междоусобий эмира Бешира с Джумблатами. Тараблюсский пашалык сомнительно повиновался преемникам бунтовщиков Мустафы Бербера и Али-бея. От Дамаска до Халеба, по всему прибережью пустыни, хлестали волны неугомонных бедуинов. Искендерун и Паяс признавали наследственный деспотизм семейства Кючук Али. Какой-то ага владел Антиохией. Племена ансариев не платили податей. В Джиср эш-Шогур, в Рихе и в других местностях Халебского пашалыка, в Белене, в ущельях Тавра – везде буйствовали наследственные беки или бродяги, которые, удальством захвативши однажды власть в свои руки, затем или торговались с пашами, или воевали с ними.
В несколько месяцев египетское правление успело укротить одного за другим этих мелочных владельцев, представителей феодальной аристократии, и подчинить их владения общей правительственной системе. Очевидно, Ибрахим-паша стремился к тому, чтобы разрушить в Сирии аристократию шейхов и эмиров, как его отец разрушил олигархию мамлюков в Египте; но не один раз также не бывал принужден уступать силе навыка племен или местностям и поддерживать феодальные права, при законных ограничениях, облекая властью людей, выбранных из туземного дворянства. Таким образом, могучие семейства Джерары, Токаны и Беркауи были обречены казням и ссылке по усмирении набулусского бунта, а для управления горцами Набулуса Ибрахим назначил шейхов Абд эль-Хади, в верности и преданности которых ручалось старое их соперничество с низложенными шейхами.
На этом же основании несколько новых аристократических семейств возникли при египетском правлении. Они не были облечены всеми правами прежней аристократии, но их влияние усиливалось, опираясь на центральную власть, тогда когда их предшественники должны были с ней бороться и остерегаться преследований и измены со стороны пашей. Обстоятельство это подтверждает сделанное нами замечание о том, что феодальное образование сирийских племен было не случайным последствием завоевания или анархии, но, можно сказать, коренным законом физического образования края и духа его жителей. В Египте вместе с мамлюками совершенно пала и вся их чудовищная система управления, основанная на праве сабли и на слабости султанов. В Сирии феодальная система не могла быть искоренена, но при благоустроенном и сильном правительстве она была принуждена отказаться от своих бесчинств и служить опорой и законным орудием власти.
При таком направлении правительственного устройства Сирии на Ливане происходило весьма любопытное явление. Мы обозрели уже различные периоды этого постоянного обуревания, которое со времен Фахр эд-Дина сделалось нормальным состоянием ливанских племен; мы следили также за семейными спорами, которыми наполнена вся хроника Шихабов, среди анархического хаоса, истомившего Сирию под турецкими пашами. Случилось, что в эпоху египетского правления, когда так усиленно разрушалось готическое здание старины, когда феодальное дворянство уступало свое влияние центральной власти, Ливаном правил вассал даровитый, честолюбивый и в то же время любимец египетского паши, издавна ему преданный. Влияние его на массы народные упрочилось сорокалетним его управлением и троекратным усмирением мятежей и безначалия; влияние его на дворянство было обеспечено всеобщим страхом после казней, настигших мятеж, и беспощадной опалой родственников и соперников. Огромные богатства были им нажиты конфискацией имений всех опальных шейхов, и много уделов, упраздненных при этих опалах, были в распоряжении эмира и служили наградами преданности и покорности членов его семейства или шейхов, возвеличенных взамен тех, которые были казнены или томились в изгнании.
При таких внутренних и внешних обстоятельствах дела Ливана принужденно приняли самый благоприятный оборот. Новая финансовая система и приведение в известность всех налогов и доходных статей отстранили старинные произвольные поборы, которыми паши обременяли местных владельцев. Подать с ливанских племен вместе с новым подушным окладом фирде, о котором мы уже упоминали, была определена в 6500 мешков (около 190 тыс. руб. серебром), а все косвенные налоги и доходные статьи, бывшие в остальной Сирии в прямом заведывании казны или же на откупе, были на Ливане вполне предоставлены эмиру. Эмир по своему усмотрению собирал и прямой налог без всякого вмешательства или контроля со стороны правительства. В известные эпохи он был обязан вносить в казну подать ливанскую, а мог в свою очередь взимать с народа несравненно более, по мере своего влияния.
Сумма прямых и косвенных налогов вместе с доходом имений, приобретенных эмиром покупкой или насилием, простиралась по крайней мере до 25 тыс. мешков. За уплатой казенной подати оставалась еще в пользу эмира огромная сумма на содержание его двора и стражи, на постройки в Бейт эд-Дине, и кроме того, по обычаю всех азиатских владельцев, эмир ежегодно откладывал на сбережение.
Богатая долина Антиливанская была в эпоху турецкого завоевания отдана в удел дамасским сипахи, обязанным выступать в поход на собственном иждивении по требованию правительства. При постоянных смутах этого края военная повинность сипахи сама собой уничтожилась, а доходами пользовались ленивые эфенди Дамаска, никогда не выступавшие в поход противу неприятеля, а занятые разве кознями противу своих пашей. Ливанские эмиры неоднократно занимали плодородную долину Антиливанскую и пользовались доходами с семидесяти ее деревень. Египетское правление не заботилось о сипахи, которые, отрекшись от военной повинности, не имели никакого права на сопряженные с ней доходы; оно допустило ливанского эмира укрепить за собой эту старинную феодальную льготу, сделать соседнюю долину житницей Ливана и дарить в ней поместьями своих родственников и любимцев. Округ Джубейль, состоявший дотоле в зависимости Тараблюсского пашалыка, вошел окончательно в состав владений ливанских.

Пользуясь этими благоприятными обстоятельствами, эмир по примеру египетского паши стал в свою очередь обуздывать феодальные права своих вассалов и сосредоточивать власть в своих руках. Ливанские владения стали мало-помалу принимать формы удельного княжества, состоявшего на особых правах, и это происходило под влиянием тех же обстоятельств, которые подрывали удельную систему во всей Сирии и подчиняли ее законным ограничениям. Почитая эмира Бешира надежнейшей опорой своей власти в Сирии, Мухаммед Али поддерживал его своим влиянием, вместо того чтобы по примеру прежних пашей и по основным правилам восточной политики поднимать на него соперников и раздорами горцев усиливать собственное влияние в горах. Все это мы должны приписать не столько личному благорасположению Мухаммеда Али к эмиру, сколько внешним политическим обстоятельствам, отношениям египетского паши к Порте с 1832 по 1840 г., непрочности Кютахийского договора, последовательным бунтам сирийских племен, очевидному стремлению султана к изгнанию египтян из Сирии при первом удобном случае.
Таким-то образом получили свое развитие те преимущества, которые впоследствии, при содействии пяти великих держав, были обеспечены ливанским племенам. Но никакого сомнения нет в том, что если бы Мухаммед Али владел Сирией на основании более прочном, то всего прежде права эмира ливанского были бы ограничены и племена горские подчинились бы общему гражданскому устройству Сирии. Все предшественники эмира Бешира со времени низложения Фахр эд-Дина и до завоевания края египтянами правили Ливаном в качестве наместников пашей турецких, по их произволу бывали свергаемы и казнимы и торговались с ними о подати при получении инвеституры. Ливан был управляем на том же основании, как остальные горные округа во всей Османской империи, в коих феодальные навыки племен и неверность сообщений заставляли пашей, вместо того чтобы назначать правителей из своих чиновников, вверять управление туземному дворянству и тем обеспечивать повиновение племен и казенные доходы. Никакими особенными льготами не пользовались горцы ливанские ни по основному праву, как княжества Дунайские, ни по султанским грамотам, как острова Архипелага.
Эмир Бешир искусно воспользовался благоприятными для него обстоятельствами под египетским правлением, обуздал мелочных тиранов, шейхов и эмиров, привязал народные массы к своему деспотизму, распространил по всем округам ливанским непосредственную свою власть и нажил богатства и славу. Совершенная безопасность водворилась в горах, и период этот ознаменован редким благоденствием и развитием торговли и промышленности. После запретительной системы и произвольной монополии прежних пашей свобода, дарованная торговле египетским правлением, придала новую жизнь поморским городам. Сайда, Бейрут и Тараблюс сделались вольными рынками для горцев, которые обменивали здесь свой шелк и деревянное масло на хлеб и на продукты европейской промышленности. Производительность усилилась по крайней мере одной третью на Ливане, а потребление заморских произведений удвоилось. Веротерпимость египетских властей возвысила христианские племена Ливана и в собственных их глазах, и в мнении соседственных племен. Семейства эмиров Шихаб и Абу Лама, о крещении которых мы уже имели случай говорить, стали открыто исповедовать христианскую веру.
Во всех действиях правительственной и частной жизни хитрая политика эмира клонилась к тому, чтобы постепенно укреплять свою власть на Ливане, содержать вассалов и родственников своих в почтительном повиновении, поддерживать в народе страх периодическими зрелищами казней, а главное, придавать такой оборот и такой вид всем делам по управлению, чтобы более и более распространять мнение о том, что один он в состоянии содержать в повиновении племена ливанские, но в то же время слыть в глазах своего народа его заступником от притеснений египетских властей. Все строгие меры, все эти умножившиеся в его время и для его обогащения прямые и косвенные налоги приписывал он воле паши, представлял себя покорным исполнителем, а в своем кругу, вслух своих горцев, не упускал случая роптать от имени своего народа.

Если, с одной стороны, благосклонность паши к эмиру была основана единственно на политическом расчете, зато и преданность эмира к Мухаммеду Али не менее того была личиной собственных его видов. Эмир не мог не предчувствовать, что с изменением обстоятельств властолюбивый паша не преминул бы разрушить это здание, которое с его ведома так тщательно воздвигалось на горах, наперекор общей системе политического устройства Сирии. Лет восемь сряду эти два старика, паша и эмир, хитрили таким образом друг пред другом; первый ждал только решения великой задачи о своих правах на Сирию, чтобы низвергнуть своего любимца, второй стремился лишь к тому, чтобы внушать своему народу недоверие к паше, его покровителю, и путать дела, чтобы оставаться лицом необходимым и утвердить на более прочном основании права свои и своего рода на Ливане.
Планы обоих в одно время созревали, и оба хорошо понимали друг друга; но оба продолжали по-прежнему обмениваться ласковыми речами и уверениями в преданности. Ибрахим-паша, во всем слепо покоряясь политике своего отца, не мог, однако, по вспыльчивому своему нраву терпеливо сносить проделки эмира, который умышленно угнетал свой народ, чтобы направлять общее негодование на пашу, а себя самого выставлять ходатаем и покровителем угнетенных. Однажды по поводу ропота народного на непомерные налоги Ибрахим стал упрекать эмира в сребролюбии и в том, что он не сообразовался с волей старого паши и по своему произволу облагал подвластные ему племена. «Светлейший паша, – отвечал ему эмир, – я принужден так действовать общего покоя нашего ради; жители наших гор имеют те же привычки, что и мулы ливанские, и с ними надо поступать как с мулами». «Как это?» – спросил Ибрахим. – «Не заметили ли вы, светлейший владыко (саадет-афендина), в ваших походах, что ливанские мулы тогда только идут спокойно от ночлега до ночлега, когда они навьючены ровно 80 батманами (13 пуд.) по местному обычаю? Убавьте вьюк, они во всю дорогу шалят и вьюки сбрасывают, и брыкают, и сами себя вдвое утомляют». Ответ был кстати, и Ибрахим расхохотался. Теория эмира была, по несчастью, оправдана и принужденным благоденствием горцев под его правлением, и последовавшим затем кризисом.
Приступим теперь к изложению политических обстоятельств, породивших этот переворот.