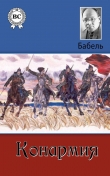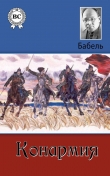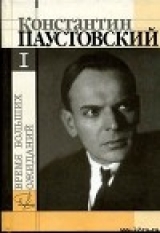
Текст книги "Время больших ожиданий"
Автор книги: Константин Паустовский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Константин Паустовский
Время больших ожиданий
ПОД ЗНАКОМ БАБЕЛЯ. Предисловие Вадима Паустовского
Впервые эта книга «Повести о жизни» была опубликована в № 3 – 5 журнала «Октябрь» за 1959 год.
Первоначально ее предполагалось поместить в «Новом мире», о чем имелась договоренность с Твардовским, в то время главным редактором журнала. Но затем возникли разногласия, которые привели к обмену резкими письмами между редакцией и автором. Паустовский потребовал вернуть ему рукопись. Об этом узнал главный редактор «Октября» Панферов и предложил для публикации свой журнал.
Яблоком раздора между «Новым миром» и Паустовским послужил ряд мест книги, в том числе страницы, посвященные Бабелю.
Отец вспоминал обстоятельства дружбы с Исааком Эммануиловичем Бабелем, возникшей в 1921 году, когда оба будущих писателя жили летом на даче, на Большом Фонтане. Годом раньше Бабель еще скитался по Польше и Украине с армией Буденного. До опубликования новелл из циклов «Конармия» и «Одесские рассказы» оставались месяцы и даже годы.
Но в воспоминаниях Паустовского Бабель представал уже как бы известным автором этих произведений. Более того, Бабель показывает отцу много вариантов рукописи рассказа «Любка Казак», который увидел свет лишь в 1924 году, то есть через три года после дачных встреч.
Все это объясняется довольно просто. Паустовский бывал в Одессе и общался с Бабелем и в последующие годы. Он сознательно объединил старые и новые впечатления, чтобы сделать воспоминания более полными. Прошло только два года после XX съезда, вскрывшего и осудившего культ личности. Как знать, может, все переменится снова и имя Бабеля опять будет изъято из обращения?
В литературно-чиновничьих кругах к имени репрессированного и расстрелянного Бабеля продолжали относиться настороженно. Это подтвердила и придирка редакции «Нового мира», которая для отца оказалась совершенно неожиданной. В письме редколлегии журнала, подписанном Твардовским, высказывались сомнения не только по поводу значительности места, занимаемого во «Времени больших ожиданий» образом Бабеля, но и вообще по сути самой направленности вещи, не соответствующей определенным «советским стандартам».
Отец посчитал тон авторов письма развязным. Его задело отношение не столько к нему лично, сколько и прежде всего – к Бабелю.
Поэтому он ответил довольно резко.
В дальнейшем Паустовский и Твардовский «помирились».
С Твардовским вскоре произошла значительная перемена. Он уже не смотрел на окружающее «с официального верха» (выражение из ответа отца на письмо Твардовского). Возможно, это было следствием публикации в «Новом мире» повести «Один день Ивана Денисовича» и общения с Солженицыным.
Этот эпизод подтверждает, что отец (в отличие от ряда писателей и поэтов) не позволял увлечь себя никакой официально-партийной риторикой. Он мог уклониться, промолчать, иной раз вынужденно с чем-то согласиться, и то отчасти, но всегда старался не поддерживать ложь.
Подчинялся по возможности лишь собственным правилам поведения. Такие правила он время от времени составлял для себя на отдельных листках бумаги. Он не был педантом, скорее всего эти правила были итогом его наблюдений и выводов за определенный период. В настоящем издании воспроизводится один такой листок относящийся уже к началу тридцатых годов. К сожалению, не сохранились листки начала двадцатых годов, периода активного общения с Бабелем. Может, тогда их и не существовало.
Хотя Бабель был несколько моложе отца, как писатель он созрел раньше. Он сумел создать удивительный цикл новелл о гражданской войне, в котором «не угодил» ни одной из сражающихся сторон, а только правде. И это – несмотря на крайне субъективное, «чисто писательское» восприятие действительности. Скорее именно благодаря ему.
Творческий путь Бабеля – пример того, как надо учиться «слушать все голоса мира», но подчиняться только «своему внутреннему голосу».
По словам отца, Бабель, чтобы оградить свой внутренний мир и не трепать нервы по пустякам, также предпочитал следовать определенным правилам. Записывал он их или нет – неизвестно. Заимствовал ли отец в этом отношении опыт Бабеля или же сам пришел к подобным мыслям? -сказать не могу.
Так или иначе, лето 1921 года, которое оба будущих писателя проводили вместе на Большом Фонтане под Одессой, очень много дало отцу в смысле писательского профессионализма. Они взаимно обогащали друг друга, хотя отец в своей книге в первую очередь подчеркивает роль Бабеля. В силу свойств своего характера.
Дачная жизнь располагает к тесному общению, тем более если это общение – семейное. Потому что не только Бабель, но и Паустовский, и Лившиц жили на даче не одни (как это можно заключить по «Повести о жизни»), а с женами.
Отец же в соответствии с замыслом этих глав сосредоточился на разговорах с Бабелем и «беседах с природой». Это соответствовало его настроениям и наблюдениям в тот период. Поэтому иные мотивы – семейные и прочие – он сознательно обошел.
Не раз говорилось, что «женская линия» всегда была исключительно сильна в творчестве Паустовского, но упоминалось, что и ее он подчинял своему субъективному построению материала. Так, все женские образы неизменно преображены и возникают только в тех местах книги, где это предусмотрено автором.
В описаниях дачного лета 1921 года женская линия отсутствует. Исключение сделано лишь для жены самого Бабеля – Евгении Борисовны. Может быть, потому, что без упоминания о ней повисла бы в воздухе колоритная история о бабелевской теще и ее внуке, мальчике Люсе. Откуда, спрашивается, они тогда могли бы взяться? Саму же эту историю отцу очень хотелось рассказать (глава «"Тот" мальчик»).
Лишь вскользь упомянута сестра Бабеля Мария Эммануиловна, по-домашнему – Мери. А ее роль оказалась весьма знаменательной именно в сближении Бабеля и Паустовского.
Сам Бабель по натуре был человек замкнутый, он раскрывался далеко не сразу и далеко не каждому. Мери, напротив, обладала характером открытым и отзывчивым. Как и мать Бабеля, она словно озаряла светом жизнь всей семьи. Мария Эммануиловна была на три года моложе брата, родилась в Николаеве, где жила вся семья до переезда в Одессу, умерла в 1987 году в Брюсселе. После замужества с 1924 года пребывала в основном в Бельгии, куда к ней вскоре, похоронив мужа, приехала и мать.
С тех пор все члены семьи обосновались в Европе. Может быть, это и сохранило им жизнь в отличие от самого Бабеля, который вплоть до середины 30-х годов навещал их.
В 1921 году Мери училась на биологическом факультете Новороссийского университета (так официально назывался университет в Одессе). Двумя годами ранее юридический факультет того же университета окончил Исаак Леопольдович Лившиц (Изя Лившиц по «Повести о жизни»). Он еще подростком сидел за одной партой с Бабелем в Одесском коммерческом имени императора Николая I училище. Возникшая дружба не прерывалась на протяжении всех последующих лет. Лившиц стал постоянным адресатом многих писем Бабеля.
Еще в студенческие годы с легкой руки Мери состоялось знакомство Изи с ее однокурсницей и лучшей подругой Люсей Верцнер. Это знакомство завершилось свадьбой как раз в начале 1921 года. Мери считала себя покровительницей брака подруги и стала инициатором проведения совместного дачного лета.
Изя Лившиц, окончив университет, юристом не стал. Его увлекла газетная работа в «Моряке», где он близко сошелся с четой Паустовских. И они стали третьей семьей своеобразного «дачного триумвирата». Тон задавала Мери Бабель, которая тесно сдружилась с моей матерью. У меня сохранились письма Мери к ней уже из заграницы, конца 20-х – начала 30-х годов.
Неистребимое южное жизнелюбие помогало мириться с крайностями блокадного голодного лета. На даче было немало веселья, розыгрышей, разговоров допоздна за обширнейшим чайным столом, который в хорошую погоду выносили наружу и располагали под старой разлапистой яблоней. Может, это и дало название своеобразному литературному клубу, рожденному в шутку, но, как хорошо известно, во всякой шутке неизменно заложено зерно истины. В бумагах отца сохранился ветхий листок, отпечатанный на разбитой пишущей машинке:
УСТАВ КЛУБА ЛИТЕРАТОРОВ «ПОД ЯБЛОЧНЫМ ДЕРЕВОМ»
Наши силы, наше знание, наши дарования и опыт были брошены в течение последних лет на всевозможные фронты. Один лишь фронт остался у литераторов совершенно забытым и заброшенным. Этот фронт – фронт литературы.
Ныне, демобилизуясь вместе со всей страной, мы невольно стали лицом к лицу с забытым нами плацдармом. Сбросив с плеч щиты и латы, мы возвращаемся к единственно родной для нас стихии борьбы и жизни -радости и творчеству. «Литераторы, назад к литературе!» -вот девиз наш сейчас.
Клуб «Под яблочным деревом» стремится стать олицетворением литераторов в Одессе.
§ 1. Членами Клуба могут быть только несомненно чистокровные, густопсовые литераторы (расклейщики газет, выпускающие, любители порнографических программ и одесские репортеры исключаются).
§ 2. Членом Клуба может быть только литератор талантливый или «подающий надежды» (женщинам-литераторам – 20% скидки, поэтессам – 30%).
§ З. Для вступление в Клуб необходима личная рекомендация двух действительных членов и одного общепризнанного гения (гением обычно бывает сам рекомендуемый).
§4. На собраниях Клуба литераторов запрещается вести беседы:
– о политике,
– о пайках,
– о предстоящей зиме,
– о дороговизне лука и о Шенгели.
§5. Каждому члену Клуба вменяется в обязанность носить в боковом (левом) кармане пиджака:
№ 1) членский билет,
2) книжку стихов Веры Инбер,
3) порцию сахара для чая на собраниях (сахар можно заворачивать в стихи Инбер)
4) и пропуск для хождения по улицам после 3-х часов ночи.
§ 6. Литературные беседы ведутся по заранее разработанному плану. Каждому члену Клуба вменяется в обязанность разработать «свой» план. Прения о планах воспрещаются…
Этот параграф устава, защищающий писательскую «субъективность», выдавал Паустовского и Бабеля как авторов всего текста. Среди других условий были пункты о казначее и почетном председателе, на пост которого почему-то выдвигался Семен Юшкевич, уже успевший эмигрировать. Правда, оговаривалось, что «из Америки его вызывать не следует». Заключительный параграф устава гласил, что «Евгений Иванов назначается плавучим доком Клуба для ремонта литераторов, получивших боковую течь или севших на мель». В списке действительных членов Клуба, кроме постоянных «дачников» – Бабеля, Паустовского и Лившица, – числились еще трое «приезжавших» – Иванов, Крути и Зоров.
Среди близких друзей Паустовский всегда слыл отличным «застольным рассказчиком». Для него это была даже неосознанная литературная работа – «обживались» подробности и образы, которые он затем нередко использовал в своих вещах. Точно таким же свойством отличался и Бабель. И только оставаясь наедине, они начинали вести те доверительные беседы, что отражены в центральных главах «Времени больших ожиданий», беседы о сокровенных особенностях писательского труда.
Правда, однажды беседа пошла по другому руслу. В книге отец приводит такие слова Бабеля:
«– Я не выбирал себе национальность, – неожиданно сказал он прерывающимся голосом. – Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никак не пойму – причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом.
Он замолчал. Я тоже молчал и ждал, пока он успокоится и у него перестанут дрожать руки».
Бабель признался, что не понимает причину антисемитизма. У отца же были твердые представления на этот счет. Его впечатления и наблюдения вобрали опыт и войны, и революции, и юных лет, проведенных в многонациональном Киеве.
Отец считал исходной причиной антисемитизма трусость. Ту животную изначальную трусость, что сопровождает людей с самых первобытных времен. Она в ладу с инстинктами, но не в ладу с разумом и человеческим достоинством.
Жизнь неизменно ставит перед нами много проблем – и социальных, и моральных, и материальных, – каких угодно… Порой они кажутся неразрешимыми, если идти путями разума и совести. Так рождаются погромы, войны, революции. Но в итоге это ничего не решает и мир по-прежнему – у разбитого корыта.
Выход, видимо, в умении проявить подлинно человеческую смелость, научиться объективно оценивать свои несовершенства, а не искать их постоянно у других. Кстати, это важнейший христианский принцип. Но это трудный путь, требующий мужества и чувства ответственности. Много легче – по-страусиному засунув голову под крыло, ничего не видя, предаться трусости и непрерывно повторять заклинания. Например, «все было бы прекрасно, если бы не евреи, они во всем виноваты» и т. д. Впрочем, в зависимости от географической широты и долготы место евреев вполне могут занять арабы, негры, англичане и даже русские (как например, у нацистов).
Помню, как мы с отцом однажды забавлялись, читая тоненькую брошюру дореволюционного издания. Это были небрежно переведенные мысли известного немецкого философа, возможно даже, с отсебятиной переводчика. Поэтому фамилию философа можно опустить, но нельзя пройти мимо рассуждений по «национальному вопросу». Они хорошо отражали изъяны массового сознания, хотя и претендовали на философскую объективность.
Автор прежде всего устанавливал, что чисто национальными качествами могут считаться лишь те, что свойственны представителям самых различных социальных групп – например, и крестьянам, и министрам. Скажем, так – «французы легкомысленны…» Затем он резонно утверждал, что каждая нация считает себя богоизбранной и преисполненной всяческих достоинств, тогда как недостатки – удел нации по соседству. Автор издевался над такими взглядами, утверждая, что все недостатки и достоинства одинаково свойственны всем национальностям в равной мере.
Но следом у философа возникал неожиданный пассаж начинавшийся словами: «Однако мы, немцы, лишены недостатков!…» Затем уже шли обстоятельные рассуждения о немцах как народе, преисполненном одних добродетелей и начисто лишенном хотя бы одного изъяна.
Вопреки этому философу отец считал, что высшее проявление национального самосознания – способность трезво судить о своем народе, уметь замечать не только его достоинства, но и, скажем так, не лучшие качества. Такой способностью всегда отличалась русская литература, исполненная, кстати, именно любви к народу.
Еврейский вопрос давно стал больным для таких сравнительно молодых стран, как Польша, Украина и Россия. И в этом, возможно, заключается специфика этого вопроса. Он резко обостряется во времена смут, войн и революций – словом, во времена «умопомрачений», как говаривал Паустовский.
Сам отец был полуукраинец-полуполяк, но считал себя русским писателем, и действительно был таковым. Поэтому еврейский вопрос был актуален также и для него, и ему было что сказать здесь. Отец любил выражение, якобы приписываемое Черчиллю:
– Почему у нас, в Англии, нет антисемитизма? Просто мы не считаем себя хуже евреев.
Речь здесь, по мнению отца, даже не в сравнительных достоинствах наций. Англия – давно уже свободная страна, и англичане привыкли уважать других, как и самих себя. Тем более у них есть что противопоставить евреям и в смысле «практицизма».
Впрочем, проявления антисемитизма и даже расизма все равно можно встретить в Англии, как и в других странах Запада. Отец объяснял это тем, что «умственно неполноценных людей пока везде хватает».
Все три «родины» Паустовского – Украина, Польша, Россия – длительное время испытывали внутренний гнет монархизма, бюрократизма, большевизма и т. д. Это неизбежно привело к искажению массового сознания, к стремлению проявлять амбиции по отношению к тем, кто стоит вровень или ниже тебя на общественной лестнице. Но главное, такой гнет убивает, способность критического отношения к себе, к своим реакциям и поступкам.
Отец не раз отмечал, что отношение к «еврейской теме» даже в просвещенных кругах – резко контрастно, почти без полутонов. Одни чуть не по-черносотенски всячески честят евреев, другие, напротив, считают неделикатным даже касаться этой темы. Паустовский не боялся затрагивать этот вопрос и порой делал это без ложной деликатности. Просто он был по-писательски объективен. В письмах отца того периода, так же как и в дневниках, встречаются саркастические фразы по адресу тех евреев, что стремятся поудобнее устроиться при новом режиме. Но эта ирония всегда носила у него социальный оттенок.
Отец считал, что сами народы ответственны за свои беды – и за плохую власть, и за национальную неприязнь. Причем положа руку на сердце следует признать, что эта ответственность равно раскладывается на всех участников конфликтов по разные стороны баррикад.
Паустовский никогда не придерживался «национального признака» при выборе друзей. Но жизнь его сложилась так, что многие близкие его товарищи оказывались евреями. И он считал это вполне естественным.
Все гимназические годы он сидел за одной партой с Эммануилом Шмуклером, ставшим художником. В этом друге юности отец всегда отмечал душевную чуткость и отрешенность от того, что принято называть «прозой жизни». Затем интеллектуально близким отцу человеком стал Бабель. Но самое длительное приятельство, по существу на протяжении всей дальнейшей жизни, у него установилось с писателем Рувимом Фраерманом, с которым он познакомился как раз в те ранние годы в Одессе, а последние годы его жизни были связаны с Самуилом Алянским, издателем Блока, основателем «Алконоста».
Хочу снова вернуться в одесское лето 1921 года. Тогда, во время дачного застолья, возникало немало тем, любопытных и веселых. Одна из них – и забавно, и всерьез – коснулась жизненного пути Бабеля и, как ни странно, рикошетом задела и меня в детские годы.
Начало эпизода следует отнести к пребыванию моей матери в Париже в 1911 – 1912 годах. Там она изучала французский язык на педагогических курсах «Альянс Франсез», общалась с русскими эмигрантами (в том числе с Луначарским и Лениным) и вынесла из этого общения много поучительного. Отец использовал кое-что из ее парижских впечатлений в незаконченном и неопубликованном романе «Коллекционер».
Здесь же речь о другом. Любопытства ради мама взяла в Париже несколько уроков гадания по руке в школе хиромантии мадам Ленорман.
Еще в конце XVIII века, когда никому не известный молодой офицер Наполеон Бонапарт плыл к своим родственникам на Корсику, на корабле к нему подошла гадалка. Посмотрев на его ладони, она предсказала ему императорский трон и владение всей Европой. Возможно, Наполеон не принял это всерьез, но стимул был получен. Когда пророчество начало сбываться, он разыскал гадалку и озолотил ее. К ней потянулась вся парижская знать. Позже мадам Ленорман (так звали гадалку) основала в Париже школу хиромантии. Дело продолжили ее потомки, у которых мама и «получилась».
Порой мама очень точно гадала по руке своим знакомым. Правда, не всегда охотно, так как очень при этом уставала. Отец, переняв кое-что у нее, тоже пытался гадать, но у него получалось неважно. Видимо, здесь дело не только в знаниях, но и в интуиции.
Однажды дачным вечером мама предсказала Бабелю в ближайшие годы крупный литературный успех и известность, если не мировую, то всеевропейскую. Как Ленорман Наполеону. Это вызвало взрыв восторга и град шуток в адрес Бабеля, все помыслы которого в то время были направлены на то, чтобы опубликоваться в одесских газетах и журналах, не говоря уже о московских.
В свое время для молодого Паустовского открытка, полученная от Бунина, стала своеобразным стимулом упорной работы и преодоления трудностей на тернистом пути писателя. Кто знает? Может, мамино гадание сыграло такую же роль в отношении Бабеля.
Во всяком случае творческий взлет его был стремителен. Уже через пять-шесть лет после памятного дачного лета он обрел всероссийскую, а вскоре и европейскую известность. Вот тогда-то, в конце 1920-х годов, находясь в Париже, Бабель узнал, что у супругов Паустовских в Москве родился сын. Он вспомнил о гадании (а скорее всего и не забывал о нем), немедленно отправился в самые фешенебельные магазины и купил множество детской одежды и игрушек, причем не только для младенческого возраста, но и на вырост, лет до шести-семи.
Для моих родителей это был действительно Подарок с большой буквы. Жили они в то время в подвальчике в Обыденском переулке весьма скудно, чтобы не сказать бедно. А я все раннее детство до поступления в школу щеголял в туалетах лучших французских фирм.
В результате получилась забавная история вполне в «отцовском духе», к тому же совершенно подлинная.
Что сближало Паустовского с Бабелем?
Призвание к писательству. Обычно люди приходят к писательству, уже имея немалый жизненный опыт. Более того, этот опыт и руководит выбором. Но бывают стимулы иного рода – изначальное внутреннее стремление к писательству, которое можно назвать призванием. Опыт приобретается потом, как бы подкрепляя призвание. Так было и на этот раз.
Бабеля «послал в жизнь» Горький. Паустовский сам понял необходимость этого. Горький был литературным опекуном Бабеля и в духовном отношении сыграл для него такую же роль, как Бунин для Паустовского. В этом «шефстве» двух крупных писателей над двумя начинающими тоже проглядывалось некое объединяющее начало. Только связь Бунина и Паустовского осуществлялась как бы пунктиром и на расстоянии, а Горький непосредственно влиял на писательскую судьбу Бабеля. Еще в 1916 году Горький поместил у себя в журнале «Летопись» его первые рассказы, затем отправил «в люди», в результате чего и родились «Конармия» и другие вещи. Общение Горького и Бабеля возобновилось по возвращении Горького в Россию и продолжалось до самой его смерти в 1936 году.
Горький активно защищал Бабеля от нападок Буденного, заявив, что писатель имеет право на свое видение окружающего, даже если речь идет о доблестных героях Первой конной. Состоялся известный обмен письмами между Буденным и Горьким в печати.
В отличие от Буденного многие бойцы и командиры – прототипы героев «Конармии» всегда относились к Бабелю с теплотой, независимо от того, как они «выглядели» в его рассказах. Отец, со слов Бабеля, пояснял «кто есть кто», где сейчас эти люди работают, чем занимаются. Но их фамилии мало что говорят современному читателю. Поэтому упомяну лишь об известном военачальнике – маршале Семене Тимошенко. Он послужил прототипом одного из самых колоритных героев «Конармии», знаменитого начдива-шесть – Савицкого.
От гражданской войны у Бабеля осталась сильная страсть к лошадям. Он не случайно старался чаще ездить на Северный Кавказ. А отправляясь на подмосковную дачу Горького, неизменно посещал расположенные неподалеку конные заводы. Своей страстью он заразил и Лившица, у которого она воплотилась в любви к конным бегам. Оба стали постоянными посетителями ипподромов.
Особенно же связывало Паустовского с Бабелем то, что можно назвать «чувством языка». Это не только любовь к русскому языку как образному средству выражения мыслей, но и ко многим другим его особенностям, вплоть до его звучания…
В статье «Несколько слов о Бабеле» Паустовский писал:
«Впервые рассказы Бабеля я читал в его рукописях. Я был поражен тем обстоятельством, что слова у Бабеля, одинаковые со словами классиков, со словами других писателей, были более плотными, более зримыми и живописными. Язык Бабеля поражал, или, вернее, завораживал необыкновенной свежестью и сжатостью. Этот человек видел и слышал жизнь с такой новизной, на какую мы были неспособны».
Положа руку на сердце можно сказать, что для Паустовского Бабель был таким же открывателем богатств русского языка, но уже в иную историческую эпоху.
И точно так же Паустовский и Бабель вслед за Буниным именно здесь, в Одессе, в самом начале 20-х годов наблюдали и обратный процесс – начало вырождения русского языка под влиянием политической жизни. В первую очередь это коснулось газет и журналов, затем художественной литературы. Рождалась серость, угодная начальству, но не читателю. Об этом писал Бунин в «Окаянных днях», а Паустовский еще в 1919 году в Киеве записал в дневнике: «Жадно, нервозно читаю газеты – изуверские, писавшиеся в каком-то тихом бешенстве. Сплошная истерика… Какая-то "мертвая вода"…»
В глазах Паустовского русский язык являлся объединяющим, общечеловеческим началом, той «живой водой», что в народных сказках всегда противостоит «воде мертвой».
Он не раз подчеркивал, что процветанию этого языка способствует товарищество писателей разных национальностей и, напротив, обособление их друг от друга («почвенники» и т. п.) приводит к убогости не только языка, но и содержания.
Именно отцу принадлежит известный в свое время афоризм о положении в нашей литературе. Сравнивая писателей с рыцарями, которые в средневековой Англии вели войны между приверженцами орденов Алой и Белой Розы, он говорил: «В литературе, как всегда, идет война между Алой и Серой Розой!»
В одной из глав «Повести о жизни» автор говорит: «Подлинная жизнь, описанная мною, как это ни кажется странным, сама по себе сложилась в те годы по законам драматургии…» И затем добавляет, что центральные части повествования – «Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий» -соответствуют наибольшему напряжению действия, его кульминации.
Сами названия этих частей как бы таят в себе тревогу, которую автор и не скрывает. Он словно задается вопросом: что ждет нас впереди?… И в то же время не перестает надеяться на лучшее, на то, что Россия преодолеет хаос и бесправие, порожденные бурными потрясениями начала века.
Поэтому, подобно Горькому, Паустовский не торопился расставаться со своими «большими ожиданиями», полагая, что разум и человечность возобладают над звериными проявлениями политического сознания, что крайности нового режима сведутся лишь к болезни роста.
Такими были его настроения одесского периода 1919 – 1922 годов, времени работы в газете «Моряк», когда он сошелся со многими интересными людьми – моряками, писателями, рабочими, журналистами…
Характерно, что все эти люди, как и Паустовский, жили надеждами, то есть настроением «больших ожиданий».
При всем различии «творческих лиц» было у Бабеля и Паустовского одно несомненное сходство. Каждый обладал сильным даром воображения, а если сказать точнее – преображения. Все мы верим в достоверность Молдаванки, нарисованной Бабелем, и в то же время знаем, что подлинная Молдаванка имеет с ней мало общего. То же самое можно сказать по поводу многих рассказов Паустовского, в особенности ранних его рассказов с экзотической окраской.
В своем предисловии к маленькому сборнику рассказов семи молодых одесситов (Семен Гехт, Лев Славин, Константин Паустовский, Илья Ильф, Эдуард Багрицкий, Осип Колычев и Гребнев), к сборнику, так и не увидевшему свет, Бабель подметил: «Паустовский, попавший на Пересыпь, к мельнице Вайнштейна, необыкновенно трогательно притворяется, что он в тропиках».
Паустовский в свою очередь постоянно подчеркивал специфическое любопытство Бабеля как важнейшее его качество, уже чисто писательское. Это как будто невинное качество часто ставило Бабеля в ситуации самые «чрезвычайные». Он порой устраивал «наблюдательные пункты» в самых невероятных местах, вплоть до бандитских притонов, откуда приходилось уносить ноги с риском для жизни.
Еще в 30-е годы Бабель подарил моим родителям один из вариантов рассказа «В щелочку». Много позже ему удалось также «в щелочку» подглядеть жизнь верхов власти и убедиться, что и там процветают нравы бандитской малины. Это и ускорило его конец.
И вот находятся ныне люди, упрекающие Бабеля за «высокие знакомства». Они забывают, что писательское любопытство – это чувство особого рода, за которое порой приходится расплачиваться и жизнью. Бандиты не любят соглядатаев.
Характерно и то, что годы спустя многие из тех, кто окружал отца в те годы, подобно энтузиасту-редактору газеты «Моряк» Евгению Иванову, будут репрессированы. Такова оказалась участь «надеющихся».
Самого Паустовского подобная судьба миновала, может, даже случайно. Я как-то начал вспоминать людей, которых отец повстречал за свою жизнь, с которыми работал, наконец, просто общался. И затем проследил их судьбы. В «сталинскую мясорубку» попало не менее половины из них. Не исключая и Бабеля.
Отец как и многие его сверстники и единомышленники, считал, что слову «социализм» исконно должно быть присуще «человеческое лицо». Иной социализм людям не нужен. То, что он на практике оказался удобен для эгоистических политиков, а в дальнейшем – для бюрократов с приобретательским звериным сознанием, – не его вина, а беда. Вспомним, что Горький в период Октября называл ведущих большевиков не иначе, как «нелюдь».
Паустовский поначалу с подозрением относился к большевизму, но это вовсе не поколебало его веру в необходимость социализма как более свободного и справедливого государственного строя.
Но большевизму, по мнению отца, так и не удалось освободиться от недостатков прошлых государственных структур – алчности, пренебрежения к личности, глухоте к чужому мнению.
Он считал, что неумение большевизма преодолеть «традиционные недостатки» и превратило его в систему, получившую название «тоталитарной». К сожалению, такие системы возникали и в других странах. И они также нередко клялись термином «социализм».
Однако в те ранние годы этот термин оставался залогом иных возможностей, иных трансформаций. К лучшему, а не к худшему. Поэтому слово «надежда» не теряло своей власти над умами.
Все это объясняет, почему «Время больших ожиданий» не ограничилось для Паустовского одесским периодом. Оно продолжалось значительно дольше и завершилось созданием «Кара-Бугаза» и «Колхиды» уже в начале тридцатых годов. Некоторые особенности работы над этими вещами освещены им самим в «Книге скитаний», последней книге «Повести о жизни».
И хотя после успеха «Кара-Бугаза» и «Колхиды» перед Паустовским открылась широкая дорога преуспевающего советского писателя, он делает резкий поворот. Решительно впредь отказывается от темы социалистического строительства, чтобы, как он говорил, не превратиться в «индустриального дрозда» и не потерять себя как писателя. Так, лишь в середине тридцатых годов он уже окончательно расстается с «большими ожиданиями».
Прервав работу над экранизацией «Колхиды» (фильм так и не вышел на экраны), отец уезжает в Севастополь собирать материал для книги «Черное море». Он опять погружается в столь любимую им обстановку приморского города, вспоминает Одессу начала 20-х годов, подарившую ему дружбу с Бабелем.
Через двадцать лет после их встречи Бабель был арестован и пропал, и Паустовский считал своим долгом рассказать о нем при первой же возможности. Этой возможности пришлось ждать еще двадцать лет.