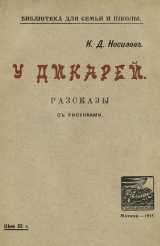
Текст книги "У дикарей (Рассказы. Совр. орф.)"
Автор книги: Константин Носилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)

В КИРГИЗСКОЙ СТЕПИ
Рассказ
В Киргизской степи у меня есть один знакомый переселенец, к которому я всегда заезжаю по пути, отправляясь в эту степь.
Это – хохол из Киевской губернии, такой добродушный старичок, и с такою радушною семьей, что всегда заезжаешь к нему, как в родную или очень уж знакомую семью.
Я помню этого переселенца еще тогда, когда он только что переселился в эту степь и устроился своим хутором в земляной избушке. Эта избушка его меня поразила своею чистотой и какою-то особенною уютностью, свойственною только хорошему крестьянину: глиняный пол без соринки, с чистыми, киргизскими цыновками из травы, стены белые, вымазанные только-что известью, печка такая опрятная, аккуратная, с занавесочкой, из-за которой выглядывали дивчата, а в переднем углу – столько старинных образов, так все оклеено разноцветными бумажками, что я удивился, что нужно было все это привезти сюда из далекой Киевской губернии. Около земляной избушки загорожен садочек с какими-то саженцами; на задах двора, обнесенного плетеною изгородью и умазанного саманною глиной, разбит огород с высокими подсолнухами, а на маленьких окнах избушки какие-то немудрые цветочки.
Оказывается, люди, ехавшие сюда, на новую родину, не забыли ровно ничего из своих обычаев и привязанностей, даже семян цветов, чтобы не расставаться с ними там, где они совершенно еще чужды.
Такими же цветочками выглядывали и дети этой многочисленной переселившейся семьи, – веселые и жизнерадостные, кудрявые и загоревшие, но в чистеньких рубашечках и платьицах…
Невеселою была в этой семье одна бабушка, которая все охала и вспоминала свою деревню, все качала головой так неодобрительно и все упрекала «старших», что они вытянули ее на старости лет из родной деревни. Ей не нравилась эта степь пустынная, она очень не хотела тут помереть без покаяния, потому что церковь, к которой приписали их, была чуть не за сотню верст. Она все плакалась, чтобы ее отвезли домой, к родным ее могилкам.
И это было только одно печальное явление во всей этой только что переселившейся семье, которая была довольна выбранным местом, черноземом не паханной земли, в восторге от простора, в котором она очутилась. Добрый дед жаловался, что ребята его отбились от обычного труда, ухватившись всеми силами за охоту: «поверьте, барин, – сетовал он с обычною своею ворчливостью, но вместе и с добродушием: – прямо сделались какими-то промышленниками, а не крестьянами; все со своими пищалями, все со своею охотой, промыслом зимой и летом, все где-то на озерах уток подстреливают… Страсть привозят сколько этого дичья, – приесть нет возможности, бабы уж подушки пухом их набили, – а хозяйство, смотришь, застаивается. Хорошо, что еще оно – все в малом таком размере!»
Действительно, его сыновья – уже взрослые, – попавши в эту степь и увидев богатства ее природные, как бы вновь, как когда-то в древние времена предки их, загорелись страстью к охоте и превратились в каких-то дикарей, все время отдавая охоте. И даже девушки как-то лихо начали скакать верхом на диком киргизском коне, гоняться за лисицами и пускаться за промыслами разной дичи в степи и в лесу, как бы дикарки. Но и сам старик, видимо, хотя и осуждал это естественное увлечение после Киевской губернии, радовался, видя детей занятыми и увлекшимися, видя, как их привязала степь, как увлекла она их своею добычей…
Только об одном он заботился, чтобы они не очень налегали на это: «Тихонько, ребятушки, детушки, не сильно озорничайте с ружьем и петлями; выбьете дичь, перепугаете больше ее, и она оставить эти места, благословленные Богом, предназначенные для человека».
Но всего этого было слишком достаточно: дикие утки и гуси водили своих детей прямо мимо их хутора на озеро, черные косачи садились на ближайшие к хутору березы, а на озере плавало и перекликалось такое множество диких птиц, что, казалось, этому богатству не будет конца на веки.
* * *
Через два года я не застал тоскующей по родине старой бабуси: она померла, так и не дождавшись возвращения на родные могилки, но зато я не узнал и хутора переселенца.
Просторный саманный дом с тесовою крышей, из нее выставляется не одна труба, белая, вымазанная известью, к голубому небу, оградка вся саманная, домашние постройки расширились на целый квартал, а огород разросся до такой степени, что сбежал окончательно к самому озеру и вошел в него высокими тополями. И тут же по берегу озера десятины, засеянные чудными арбузами в виде бахчи, тут же рядом поле просторное, которому, казалось, не было границ, как распахало его это многочисленное семейство.
Не хутор, а усадьба какая-то помещичья, только со скромными постройками, внутри которых уже появились новые предметы: почикивающие часики, такие ладные, веселые; картины, олеографии московского рынка, лампы висячие и стоячие, рекламы разных жатвенных, швейных и сельскохозяйственных машин иностранного произведения, и даже зеркало во всю высокую стену…
Вместе с обстановкой преобразились и сами ее обитатели.
Старик хохол еще держался прежней простой одежды, но сыновья его уже щеголяли какими-то тужурками, молодые женщины променяли сарафаны на новые модные платья, а девушки окончательно были нарядные, как барышни, и даже дети, уже народившиеся в этой степи, щеголяли какими-то кружевцами.
А на двор хоть не заглядывай: нужно целый час, чтобы обойти его со стариком – хохлом и выслушать, что он завел.
Я, помню, удивился, каких он вырастил тут волов киргизской породы. Это были громадные чудовища с покорностью человеку, ходячая сила, заменяющая паровой двигатель, благодаря которой эта семья уже поднимала столько земли, что ее не хватало уже по наделу.
Чувствовалось, что семья эта окрепла тут, пустивши на веки свои корни.
Можно было только радоваться этой новой России, поселившейся на этих привольных степях. Можно было только гордиться тем, что русский человек всюду со своею деятельностью и предприимчивостью находил себе место. И я, помню, уехал от этого старичка-хохла с такою уверенностью в будущности его заимочки, хутора, что в будущий свой приезд найду ее еще в лучшем состоянии.
* * *
Надежды не заставили долго ждать этого случая: мне пришлось всего чрез два года побывать снова в этих местах, и я, действительно, нашел заимку его разросшуюся в маленький веселый поселок. Рядом с домом старика стоял как будто уже настоящий городской, деревянный домик с веселыми окнами; немного далее, по другую сторону, тоже выросла какая-то жилая постройка, хотя более скромная по внешнему виду; напротив были какие-то еще новые скромные мазанки, и образовалась уже улочка, и на улочке этой красовалась хорошенькая зелененькая часовня.
Совсем новый поселок на берегу громадного озера, которое блестело, казалось, в той же прелести, что и раньше, своими тихими водами среди темно-зеленых камышей степи.
– Поздравляю! поздравляю! – встречаю я деда-хохла, вышедшего ко мне, казалось, с радостью, – только – что ему доложили обо мне его бойкие внучки.
– С чем поздравляете, господин? – спрашивает он, как бы не понимая, о чем я говорю.
– С поселком поздравляю, дед, с часовенкой! Любо посмотреть издали, какой выстроился поселочек. Совсем настоящая русская деревня.
Ничего не ответил мне на это старик, поторопившись меня принять в своей уютной, знакомой мне комнатке.
Там все было по – старому, только как – то гордо смотрела его сноха и не так одолевало его внучек любопытство.
Расспрашиваю старика про житье. Отвечает.
– Некорыстно что-то стало житье: как-то скучно стало мне ныне, ничего уже не радует, и вот такая тоска по родине, что бросил бы все и ушел, хотя посмотрел бы, как цветут у нас яблоньки, и лег бы рядом в могилу с родными…
– Это от старости, – утешаю его, – на старости лет вечно кажется как-то неинтересно и скучно… нет той деятельности, что раньше, нет того ко всему интереса…
– Не знаю. Не знаю, – уклончиво отвечает дед, – может быть, и от старости, только говорю, что скучно. Да вот пойдемте после чайку, покажу я вам наше селение, сами увидите, чему тут радоваться и о чем горевать.
* * *
После чаю мы, действительно, отправились с ним в поселок, и прямо к большому, пятистенному раскрашенному домику, который оказался домом его старшего сына.
Когда мы стали приближаться к нему, он заговорил:
– Это Никишеньки моего домик… Ничего себе, ладненький, даже внизу устроена лавчонка… Только не глянется мне, что он бросился наживать торговлей деньги: не наше дело это, крестьянское, пусть торгуют купцы, мы родились для земли и для ее богатства. Не знаю, в кого он вышел такой: все норовит в гору залезти, разбогатеть.
Я не узнал Никиту, которого знал еще чуть не мальчиком с ружьем на охоте, – такая окладистая, солидная борода, брюшко от излишнего чая и питания, и при этом какое-то высокомерие купеческое и задумчивость, как-будто у него в в голове происходили коммерческие расчеты.
В комнатах городская обстановка: венская мебель, диванчики, вязанные скатерти, олеографии на стене и даже граммофон.
Начался разговор, и как-то невольно сошел на торговлю.
Торговля оказалась очень заманчивою: киргизы брали товар очень бойко, за отсутствием ближайшего рынка; переселенцев тоже понаехало в степь, порядочно, и тоже был порядочный спрос, но только приходилось все давать больше в одолжение, до ближайшего хорошего урожая.
В то время, когда сын хвалил и объяснял всю выгоду торговли в степи, старик только покачивал головой. Я обратил на это внимание, и старик прямо ответил:
– Развешает он по кустам наши денежки, вот посмотрите ужо, и надуют его эти киргизцы!
– Зачем надуют, папенька? – возражал сын, – киргизы – народ состоятельный, со стадами.
Но старик, видимо, не соглашался и продолжал:
– Пахал бы, пахал землю-матушку; хоть богатства от нее большого не жди, в первую гильдию она тебя не возведет, но сыт и спокоен будешь.
– Да, ведь, я пашни не бросаю, – снова возражает сын, – вот и ныне десятин тридцать засеял хлебцем.
Но старик только вертел головой, продолжая:
– Какое это земледелие – чужими руками: нет, ты возьмись сам за соху, сам вспаши и посей, – тогда у тебя уродится что, а то выдумал тоже пахать поля чужими людями, – должниками и заложниками. Уж, по-моему, что-нибудь одно: или ты купец, или ты – крестьянин.
Сынок только побарабанил ногтями по столу, кусая губы. Видимо, он уже ушел от крестьянина, но еще и не пристроился, как следует, к купечеству, хотя об этом, видимо, мечтает.
Когда мы ушли от Никишеньки, старик уже вовсе разошелся:
– Не того я ожидал от старшего сынка: думал, он полюбит землю, а он отшатнулся от нее и пустился за богачеством. Он достигнет его, будет богат, но только потеряет свою жизнь и спокойствие, и довольство. А ведь как жить-то можно здесь землей: одно скотоводство чего стоит для крестьянина, маслоделие, сыроварня. Ешь, пей и веселись. Любо посмотреть на скотинушку, как она разгуливает сытая по степи, а тут вдруг какая-то торговля в голове, человек запутывается в ней и вечно тревожен.
Когда мы были со стариком на улице, нам попались навстречу с поля подводы. На волах и лошадях ехали киргизы, и старик указал на них, словно даже обрадовавшись этому случаю.
– Вон кто работает на пашне у моего Никиши – киргизцы, рабы! Ну, скажите, для этого мы ехали в степь, чтобы заводить рабов и наживать на спине их деньги? Сказано в Писании: «В поте лица своего ешь хлеб», а мы вместо того завели торговлишку, обман, и вот ловим в эту петлю бедных киргизов и заставляем их отрабатывать взятое. Дикарь, ведь, он, не понимает ничего, и его легко словить в эту петлю и затянуть ее, – этого вот никак не хочет понять Никиша. Потом это маслоделие. Кинулся заводить завод, скупать молоко, наживать этим деньги. Выгодное дело это – нечего говорить, но тоже как-то против совести простого человека. Тоже и сыроварение. Не нравится мне эта жадность человеческая, выжимать изо всего только одну копейку. Жаден стал народ до копейки этой, ныне особенно: все норовит поставить в нее, все делает не для собственного существования, как жили мы ранее, а для капитала. По моему мнению, капитал его погубит. Начнется вражда, найдутся завистники, устроят конкуренцию эту, которая теперь даже заметна и в деревне, и вот тебе хлопоты, убытки, порча крови. Нет, – заключил мой старик, – раньше жили мы как-то ладнее, что не гонялись за копейкой, – и было тише на душе, и спокойнее на сердце. Не об этом я мечтал, когда переселялся в эти степи!
– О чем же? – спросил я, видя, что дед мой сегодня особенно разговорился.
– А вот только и думал о том, чтобы было, что есть, и было, где преклонить свою голову: при бедности много не желаешь. И хорошо было я устроился: уютно так, и распахал чернозем, и разделал бахчу, и развел скота порядочного, и уж не думал никак, что все это поведет сынков моих к роскоши и наживе. За всем этим не угоняться, и если погонится наш брат, – тут ему крышка: все пропало, – спокойствие, мир на душе, даже вера в Бога. Какая уж вера тут, когда нужно человеку жить обманом при торговле!
Помню, эти мысли старика-хохла на меня произвели тяжелое впечатление, и я больше еще заинтересовался судьбой этого поселка.
* * *
Нынешний год я совсем не застал в этом поселке старика: он уехал на родину, как бы убегая от этой степи. Но зато поселок застал таким разросшимся, что едва узнал.
Понаехало много переселенцев; обстроилась быстро целая улица по ту и другую сторону часовенки зелененькой; в поселке видны были киргизы и русские в достаточном количестве, и даже пел и шатался кто-то пьяный.
У самого озера стояла паровая мельница. Подальше ее краснелся своими крышами маслодельный завод. Видимо, начиналась новая жизнь, совсем какая-то промышленная, а не деревенская, которая, вероятно, и выжила старика своею суетливостью и тоской по прежней жизни.
В голой степи паслись уже не одинокие волы и рогатый скот маленького поселка, разгуливали целые стада коров для маслодельного завода, тут же паслись стадами свиньи породистые, а на озере плавали такие белые стада домашних гусей, что можно их было принять за перелетные стада лебедей, какие бывали здесь в старое время.
Природа уступала свое место промышленности, и человек уже не охотился, а вел животноводство, не наслаждался природой, а выжимал из нее копейку.
Девушки не скакали лихо на степной дикой лошади, а сидели у окошек, нарядные и скучные, и молодые люди не пропадали на охотничьем промысле, забросив даже ружья, а ходили с гармониями и пьяным разгулом.
Деревня превратилась в завод, земледельцы – в каких-то фермеров, озабоченных сложными работами; руки заменились машиной. И я уже не нашел в этом поселке той доброй, радушно встречающей прежде меня души, как не нашел в нем и того благодушия и довольства, ясного своею жизнью.
Это была новая Россия. Даже изменился резко самый язык, наречие. Хохол выродился в какого-то жадного и не особенно приветливого сибиряка.
Я пожалел, что не вижу более доброго деда.









