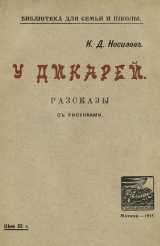
Текст книги "У дикарей (Рассказы. Совр. орф.)"
Автор книги: Константин Носилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Константин Носилов
У ДИКАРЕЙ
Рассказы


НА ШАРАПОВЫХ КОШКАХ
I
Это было в последнее мое путешествие по Карскому морю.
Я тихонько пробирался из Мутного залива к Шараповым Кошкам на маленькой самоедской шлюпке, какие только и делают они для промыслов в этом море. Расстояние было что-то около 60 верст, и, признаться сказать, было жутко пускаться в такое далекое плавание.
Но день был такой тихий, и как-то невольна хотелось попытать счастья.
Нас было трое в этой шлюпке и пара собак. Собаки, казалось, были совершенно лишними; но уж так созданы самоеды, что они никогда не расстаются, даже в море, с своими друзьями-собаками.
Впрочем, на Шараповых Кошках может встретиться белый медведь и представиться редкая охота, которая без собак ровно никакого интереса не представляет. И умные псы, казалось, даже предчувствовали это еще на берегу: как только мы уложили свои ружья, они вскочили в шлюпку и быстро и ловко устроились на самом ее носу.
Как этим псам, так и их счастливым хозяевам море было совершенно нестрашно: они равнодушно оттолкнулись от берега, взяли свои весла и выгреблись на простор залива; а как только набежал первый ветер, поставили мачту, развернули парус, как настоящие спортсмены.
Не спеша были вынуты из-за пазух трубки, не спеша были набиты табаком, и в чистом воздухе моря до меня донесся запах махорки. Самоеды торжествовали; легкий ветер легко нес шлюпку по желательному направлению, и начались их радушные, довольные разговоры.
Эти дикари – те же путешественники-исследователи: вся их жизнь проходит в таких рискованных поездках; их любимое привычное дело заключается в подобных розысках нового и неизвестного, вместе с удалой охотою, промыслом, вместе с тем, что только и красит их бродячую жизнь.
Кроме того, это лучшие проводники нашего Севера, и, кажется, скажи им завтра, что вы отправляетесь к Северному полюсу, они и тут не отстанут от вас, даже не подумав об опасности, лишениях и семье.
Выходим из Мутного залива в открытое море; оно сегодня немного волнуется, но парус шлюпки прекрасно поддерживает ее на высоких волнах, осторожно спускает ее в пропасти и словно перышко поднимает снова на высокий, грозно накатывающийся взводень. И только порой, вследствие полного равнодушия к этим волнам нашего смелого кормщика, на борт шлюпки вдруг набежит бойкая волна, поднимется над ней на секунду с шипящею пеною, словно только заглянет туда, чтобы в следующий же момент остаться за бортом. Да еще немного жутко становится, когда наша шлюпка, накренившись на бок от небольшого набежавшего шквала, вдруг словно осядет, в водную пучину, скатится с крупной волны, зароется на секунду-другую в эту синюю пропасть; но смело, быстро, во-время вдруг выпрямится, подхватит ее парусом, и она поднимется из пропасти, словно гордясь, что несет на себе человека.
Боязнь живо пропадает у вас; вам нравится даже такое захватывающее дух ныряние между высокими, пологими морскими волнами, и вы гордитесь этой шлюпкой, готовы плыть на ней весь день, управляемой умелою рукою человека.
Вам не страшно даже тогда, когда вдруг, словно шутя, заглянет к вам в самую шлюпку какая-нибудь шаловливая волна и брызнет вам в лицо и в колена, словно заигрывая с вами своими солеными брызгами.
Недовольно поворачиваются на море только псы, когда их особенно обдаст солеными брызгами, и им приходится потом долго облизывать свой пушистый костюм, приводя его в порядок.
Но через какой-нибудь час плавания мы выходим за мыс; волнение сразу стихает; на воде попадаются первые одинокие льдинки – вестницы морского льда, – и вдали показывается темный занавес тумана.
Самоеды говорят, что скоро будут льды, и даже оживают при их появлении, предвкушая охоту.
Еще немного времени, и мы незаметно входим в область льдов, которые нас теперь окружают со всех сторон.
Совсем другая картина. Совсем другое плавание. Совсем другая обстановка.
Кажется, что вы не в море, а у берега, кажется, что вы плывете, пробираетесь на шлюпке какими-то проливами, озерами, полыньями, с белыми ледяными берегами, что вы в каком-то лабиринте словно неподвижных льдов, на совершенно гладкой поверхности тихой воды, с островками из льдов на ней, в той красивой, разнообразной, оригинальной обстановке полярного моря, которую только и можно встретить в этих северных широтах.
Вы плывете и забываете, что вы в море; вы плывете и любуетесь этими отдельными белыми причудливыми льдинками, с отражением в темной воде; вы плывете и не можете насмотреться на отражение этих льдин, на формы их, на игру их изломов при свете яркого солнышка; вы плывете и созерцаете все эти нежные краски, которые вам хочется перенести на фотографическую пластинку.
Как хороши эти высокие льдины! Как аквамарин, изумруд в изломах своих, причудливые, красивые, оригинальные, звенящие при сталкивании! Как хороши эти открытые полыньи, с отблеском солнца, раздробившегося на тысячи искр! Как хороши эти белые берега, неподвижные, с блестящими озерками стоячей, тихой воды, на которых бьется, гудит голосами своими, поднимается и перелетает при виде вас разная морская птица. Чайки – крикливые, белые, верткие на лету; бойкие нырки, зачем-то плавающие на этих ледяных озерах, что-то промышляющие там; белые, с длинными красивыми перьями в хвосте, ледяные аллейки…

Местами тут же тюлень, – жирный, ленивый тюлень, распластавшийся на теплом солнышке, греющий спину пятнистую свою, выворотивший брюшко свое серебристое, и даже похлопывающий по нему своими ластами в истоме неги.
Милая картина полярной природы! Вы спокойно наблюдаете ее минутами в сильный бинокль, близко подкрадываетесь к спящему животному, вам хотелось бы схватиться даже за ружье, если бы только впереди не дальняя дорога.
Как хороши морские полыньи, – темные, неподвижные среди неподвижных, белых, снежных берегов, отливающих на солнце! Вода – как темное зеркало. Берега – как белая рамка. И на этом темном, неподвижном зеркале, только нарушаемом нашими веслами, то тут, то там неожиданно – голова тюленя. Расходятся темные водяные круги; нам видны черные, любопытные, большие глаза животного; оно подплывает порою к самой нашей шлюпке, теперь остановившейся; показывается у самого нашего борта и вдруг кувыркается, обдавая нас брызгами и показывая нам круглую, гладкую спину.
Но мы стоим, зная привычки этого любопытного морского животного, тихонько постукиваем веслами о борт нашей шлюпки, посвистываем, застыв неподвижно на месте. И голова тюленя снова перед нами на поверхности воды; она поднимается, высовывается сначала осторожно, потом смелее и смелее показывается вся. Потом тюлень становится вертикально и показывает свою серую пышную грудь, затем плывет, сердито отдувая усы, как бы с намерением драться за то, что мы нарушили тишину этой полыньи, и снова шумно опускается в свои родные воды, рядом с бортом нашей шлюпки.
А сколько птицы морской носится над нами в воздухе, сколько криков, говора милого, непонятного в этой тишине полярной природы, сколько звуков и шелеста крыльев!
Как очаровательны эти белые аллейки, с белоснежным оперением, с хорошенькими головками уточек, с красивыми движениями смирной птички. Они нисколько не боятся человека, – подпускают его на самое близкое расстояние, позволяют рассматривать себя минуту времени, и только тогда, сами рассмотрев человека, шумно поднимаются с тихой воды, оглашая воздух звонкими голосами.
«Аллы, аллы, аллы», – словно приветствуют они нас; и эти странные крики тают в тихом воздухе. «Аллы, аллы, аллы» – долго еще слышится вдалеке, словно разнося весть о появлении человека.
А то вдруг налетит на нас стадо пестрых, красивых гаг, с таким милым задушевным говором, с таким чудным оперением, что, кажется, не налюбуешься ими. Большое, шумное стадо гаг, нарочно проносящихся над самою лодкою, чтобы рассмотреть, кто там плывет, поворачивает еще не раз из любопытства, когда помашешь ему рукою.
Жаль поднять ружье и выстрелить в такое стадо. Не хочется нарушать этой тишины. Не хочется обижать это доверие к человеку.
II
В созерцании этой картины незаметно проходит время; мы недалеко уже от мыса Салэ; самоеды говорят, прищуриваясь, что видны уже берега Шараповых Кошек, но над ними навис густой туман, и я ничего не могу рассмотреть даже в бинокль, кроме каких-то словно ледяных торосов, поднявшихся в воздух. Это не острова, а словно подводные мели, протянувшиеся длинной узкой косою в море, вдоль берега; быть-может, старые берега этого полуострова, давно уже смытые морем.
Это и есть место крушения славного «Ермака», на котором плавал в шестидесятых годах молодой штурманский офицер гр. Крузенштерн, потерпевший здесь крушение, и спасенный вот такими же самоедами, какие ехали теперь со мною на эти Шараповы Кошки.
Они хранят еще в этой полярной тундре самые живые о нем воспоминания; они рассказывают об этом событии, как будто оно было только вчера; они опишут вам не только его, но и его громадную сенбернардскую собаку; они подробно расскажут вам всю историю его спасения, где это было и как, словно это было на их глазах и не так уже давно, чтобы они могли это забыть.
Страна их так бедна событиями, что они сохраняются в их памяти целые столетия. Жизнь их так бедна, что эти события у них передаются как легенды, из поколения в поколение; страна их так бедна воспоминаниями, что они не могут удержаться, чтобы не передать своему случайному спутнику то, что знают.
И, слушая их рассказ, я был уверен, что они также живо будут передавать впоследствии и мое путешествие с ними на этой лодочке к Шараповым Кошкам, быть-может, через целые столетия – в виде легенды.
Живая летопись этих полярных, пустынных стран, в устах этих детей природы, не нуждается ни в пере, ни в бумаге: она правдиво, характерно, по-своему передает события, перемешанные с их взглядами, верованиями, суевериями, превращает их со временем в легенду.
Где-то тут, на этом мысу Салэ, по их словам, есть камень. Он называется ими уже камнем Крузенштерна, вероятно, положенным им для определения широты или места своего крушения; но камень уже превратился в священный камень и обоготворяется ими; они даже поклоняются и приносят ему жертвы.
Странный народ, связывающий решительно все с своим суеверием. Высокий курган, который поднялся на их плоской, однообразной тундре, поражает их воображение; оригинальное очертание берега объясняется ими по-своему, игрою злых и добрых богов; камень, случайно занесенный ледниковым течением в эту страну мхов и глины, появления которого они не могут иначе объяснить, они считают прихотью богов, которым обязательно нужно тут приносить жертвы.
Я скоро привыкаю окончательно к этому плаванию среди льдов; мне кажется, что мы у берега, мне кажется, что мы не в море, порою мне даже хочется выпрыгнуть на эти белые, снежные, ледяные берега, побегать по ним, согреться от сырости и холода, которые уже забрались под мою одежду.
Но мои проводники не позволяют мне этого, они говорят, что эти льды опасны, что они могут затереть нас и унести в открытое море и выбросить там, что нужно торопиться поэтому и скорее пробраться к проливу Шарапову, тем более, что там висит густой туман, и нужно попасть туда, пока он совсем не опустился на землю.
Я спрашиваю их, что будет с нами, если унесут нас льды, но и это, по-видимому, также им знакомо и ими испытано, как самое наше плавание.
Они говорят, что с ними есть ружье и припасы; они уверяют, что трудно человеку умереть с голода, даже носясь неделями по морю, так как в нем, среди льдов, много разной птицы и зверя морского, съедобного; а быть захлестнутыми волнением они не боятся, потому что их спасете – эти же самые льды, которые вечно кружатся в этом море и когда-нибудь да вынесут человека к берегу, если не перебросят и не поднесут куда-нибудь к Новой Земле или к острову Вайгачу.
И они говорят об этом ровно с таким же спокойствием, как о плавании среди льдов к Шараповым Кошкам.
Они не боятся даже самой бури в этом ледяном море, когда льды набрасываются друг на друга с грохотом, осыпая друг друга обломками и снегом; когда льдины качаются, как в люльке, на этих волнах, стонут и скрежещут своими ледяными краями и трещинами, и словно грозят смерть. Нужно только терпение и смелость, чтобы в подобном случае выбраться на большую льдину, втянуть лодку и укрыться от сильного ветра за крепким высоким торосом льда.
А там, Бог даст, утихнет буря, льды снова будут повиноваться только одному течению и ветру; море необширное, окружено чуть не со всех сторон берегами; все куда-нибудь вынесет лед и прижмет к берегу, чтобы можно было найти человека.
III
Но нужно торопиться к Шараповым Кошкам, они уже недалеко, и если бы над ними не этот густой туман, который в тихое время вечно сопутствует льдам Карского моря, то можно было бы их видеть. Но у самых Шараповых Кошек – маленькое затруднение: мы никак не можем приблизиться к ним; льды затерли их, загромоздили их низкие берега громадными ледяными торосами; мы нескоро находим проход к ним между льдами, но проникаем наконец в их маленькую бухту, чтобы остановиться.
– Вот и Шараповы Кошки, – говорят мне мои проводники, и я выскакиваю на лед, выхожу на берег и вижу под ногами, – вижу, как признак земли, беловатый песок, выкинутые высохшие водоросли и массу раковин, которые так и хрустят под ногами.
Впереди как будто земля, только занесенная еще глубокими снегами. Но дальше, действительно, уже остров, с темными проталинами земли, с невысокими песчаными холмами, с тем знакомым ландшафтом тундры, который так характерен для этой пустыни севера.
Вытаскиваем на берег лодку, закрываем ее парусом, чтобы в нее не проникли песцы – эти полярные воришки, поедающие решительно все, и отправляемся, захватив легкий завтрак на случай долгой ходьбы, на Шараповы Кошки.
Это какие-то дюны песчаные, глинистые, размытые морем или уже смытый берег земли, с невысокими холмами, с жалкой травой, с следами зверя и птицы, отпечатанными на гладкой глинистой почве, с многочисленными бухтами, заливами, которыми их изрезало море. Оно и посейчас еще замывает его во время подъема воды или сильной бури. Кое-где видны следы человека и зверя: кости выброшенного морем кита, белые, пористые, громадные; замытое дерево, принесенное разливом рек из Сибири; доски разбитого судна, с незаржавевшими еще гвоздями; следы жилья человеческого – стоянки самоеда – с углями и обгорелою красною глиною, с следами копыт оленя.
Странное впечатление производят они здесь, на этом необитаемом островке, словно мы открываем следы первобытного человека. И удивительно кажется, что следы эти не уничтожены временем, не смыты волнами и ветром. Это можно только объяснить тем, что в продолжение всего года все здесь закрыто снегами и льдами.
* * *
На одном низменном, открытом к морю, берегу мы неожиданно находим целый скелет кита; кое-какие кости и громадные толстые позвонки его уже растащены, кое-что поедено песцами и медведями, но в общем он прекрасно представляет это чудовищное животное, вероятно, выброшенное сюда морем. А в песке, которым замыло его, еще посейчас видны мясо, высохшая кожа и остатки его поместительного желудка.
Громадное животное протянулось по берегу как разбитое судно. Его ребра прекрасно сохранились, но белые пористые кости уже обглоданы начисто бурями и ветрами и выщелочены водою; а в одном месте, среди костей, уже свито жилище полярной лисички. Вероятно, она целые годы, если не десятилетия, жила тут с своим многочисленным семейством, питаясь громадною тушей, посланной ей на этот голодный остров самим морем.
Самоеды, как дети, в восторге от этой находки; они измеряют длину животного по берегу, они говорят о его величине, они наглядно представляют его себе в родной стихии; с живостью рассказывают о своих встречах с этими животными в открытом море; они говорят о том, как находили таких же китов на берегу и даже жили около них, чтобы охотиться на белых медведей и лисиц, которые стеклись к туше за добычей и с берега полуострова и с самого ледяного моря.
По их словам, это – самая дорогая находка: песцы тысячами устремляются к ней в голодные, холодные зимы, тут же застраиваясь на зимовку в занесенной снегами туше, делая глубокие норы, скрываясь между костями; они тут же плодятся и живут до тех пор, пока не сглодают снаружи и изнутри все мясо. И тут же с ними, этими маленькими хищниками, около туши поселяются и чайки, морские разбойники, и белые медведи, навещающие ее с моря, не говоря о массе паразитов, которые устраивают тут целые колонии, сильно размножаются и затем погибают, рассыпаясь в прах вместе с костями.
Посидев на костях животного и наговорившись о нем, мы трогаемся далее и натыкаемся на вторую находку.
Это борт какого-то неизвестного, разбитого морем судна. Под облезлою краскою виден еще посиневший от времени и сырости дуб; в дубе этом заметны заржавевшие гвозди; вон там заметна еще железная скоба, тут видны следы топора. Но все уже наполовину закрыто песчаною дюною, все полуразрушено сыростью, гниением.
Обломки эти как-то вдруг переносят нас в другой мир, совсем непохожий на окружающую обстановку, – в мир мореплавателей; мы представляем себе человека, быть может, погибшего на этом судне во время бури, быть может, хватавшегося за эти доски, когда их носило по морю. Тут же лежит стеклянный шар, замытый мерзлою глиной. Мы с трудом выкапываем его, обмываем в воде, рассматриваем с любопытством какие-то непонятные буквы, нацарапанные на нем, быть может, погибавшим человеком, чтобы дать знать о себе другому человеку. И тут же, у разбитого судна, масса раковин, разбитых клювом птицы, которая ныряет в море, когда открыта вода, находит их на дне и выносит на поверхность, чтобы лететь сюда с своей добычею и сесть, сидя на досках, их живую вместимость.
Мы долго бродили, помню, по этому берегу и всюду находили следы самой разнообразной жизни, следы, рисующие жизнь птиц, человека, зверей, следы, говорившие без слов, о картинах полярной природы. Эти следы останавливали наше внимание, возбуждали наше воображение, словно мы читали очень увлекательную книгу, от которой не могли оторваться. И мы смело шли вперед и вперед, бродили часами по берегу, всматриваясь в эти остатки жизни, благо тут нет закатывающегося солнышка, благо тут круглые 24 часа дневной свет в это светлое полярное лето.
* * *
И вдруг я заметил на одном из низких холмов как будто жилье человека в виде избы. Да, как будто что-то в роде хижины маленькой, низенькой, в виде сруба, какие устраивают промышленники по берегам наших северных морей из наносного морского леса. Спрашиваю самоедов. Они самым равно душным образом объясняют, что это – действительно хижина, только старая, разрушенная уже, в которой когда-то давно-давно зимовали наши поморы.
Бывают такие сюрпризы в полярных путешествиях, когда думаешь, уж Бог весть куда забрался, где и нога не бывала человеческая, как вдруг оказывается, тут уже был русский человек и все это видел и знает.
Направляюсь туда, заинтересованный открытием, и, действительно, вижу следы русской зимовки: полуистлевшие, словно просоленные морским воздухом толстые бревна, неровно срубленные топором углы с следами пакли, размокшие кирпичи, следы какой-то первобытной каменки, разбитые черепки глиняной посуды. Не то жилище доисторического человека, не то, действительно, старое жилье-зимовка.
Между тем самоеды уже начинают рассказывать о ней историю, из которой я догадываюсь, что это хижина тех самых поморов – жителей Пустоозера, Колы на Мурмане и Холмогор, которые лет триста тому назад плавали на полуостров Ямал, пробираясь к самоедскому городку Мангазея.
А самоеды рассказывают о их плавании, как будто это было только вчера, описывая их уродливые шняки, с высокою кормою и носом, пестро-раскрашенными, с резными и позолоченными конями и лебедями, с развевающимся длинным тонким вымпелом, с крестом на верху мачты, с прямым парусом, который самоеды заимствовали у них, с многочисленными длинными веслами, которыми они пользовались в тех случаях, когда не мог помочь им ветер. Самоеды словно видели сами своими глазами эти маленькие флотилии с бородатыми лохматыми матросами, называемыми «русь»; они словно переживали тот страх дикарей, на долю которых выпадало счастие видеть первобытных наших мореплавателей, которых они и недолюбливали и вместе с тем боялись, но которых решительно не могли отвадить от этих берегов ни своими меткими стрелами, ни громкими криками с берегов, когда они заходили в реку Мутную и становились там на якорь.
Они рассказали мне даже про столкновения с этими отважными моряками, когда они гурьбой нападали на них во время плавания вверх по реке. Но нападения эти были безуспешны, так как им приходилось пускаться на оленях прочь от берега, как только раздавался первый оглушительный ружейный выстрел.
Об этих столкновениях у них до настоящего времени сохранились рассказы и легенды; про этих бородатых русских людей в мохнатых папахах у них до настоящего времени остались воспоминания, как о пришельцах из каких-то соседних стран, как о представителях сильных племен, которые, приходили, однако, к ним не воевать, а заводить торговлю. Самая торговля эта была какая-то странная, необыкновенная. Поморы выкладывали на берег товар и уплывали на лодках обратно. Дикари приходили тогда на берег и клали меха свои рядом с тем, что они облюбовали. И тяжелые железные топоры и ножи оплачивались темными лисицами и голубыми песцами, а яркие материи домашнего производства ценились как золото, заставляя любую красавицу этих тундр мечтать о необыкновенно-роскошном наряде.
Я попробовал было искать следов русской письменности на бревнах, но их не оказалось, потому что дерево уже распадалось на слои от сырого и соленого морского воздуха. Я попробовал было сделать раскопки, но в хижине ровно ничего не нашлось на земляном полу, кроме черепков и размокших кирпичей, которые разваливались от одного прикосновения моего ножа.
Только в стороне была могилка какая-то неизвестная, с холмиком, где, быть может, лежит еще и теперь в сохранности, в этой вечно мерзлой земле, труп отважного помора.
* * *
Помню, мы с час, по крайней мере, сидели в стенах этой полуразрушенной временем хижины, переживая старое, давнее время, и просидели бы, вероятно, еще долее, если бы тишину наших воспоминаний не нарушили какие-то неизвестные странные звуки.
В первый момент мне показалось, что это голос какой-нибудь птицы. Но наши собаки тревожно наставили уши, в следующий момент они бросились уже к самому берегу; еще момент, и они запели обычную песню:
«Ав-ав, ав-ав, ай-яй-яй-яй!» Начался под берегом гон. Мы бросились туда с ружьями наготове и увидали следующую картину.
На припае льда сидел белый медведь с медвежонком; кругом них подскакивали, такие же белые, наши собаки; медведи, кажется, не ожидали нападения, бродя по этим льдам, но собаки их уже атаковали. Они с ловкостью хищного зверя набрасывались на них, когда медведи хотели двинуться и скрыться, собаки с отчаянной отвагою хватали их за пышные белые гачи, и бедняги-медведи только повертывались, удивляясь их смелости и не зная, что делать.

Но взрослый медведь начинал уже сердиться, в свою очередь, шерсть его грозно поднялась на изогнутой спине; и в следующий момент, когда одна собака бросилась на него, он смял ее широкими лапами. Но в тот же момент он должен был повернуться: другая собака висела уже на его спине. Медведь, не ожидавший ничего подобного, с силой стряхнул с себя вторую, но в то же время почувствовал зубы первой в правом своем ухе.
Раздался оглушительный рев взбешенного зверя, он встал красиво-грозно на дыбы, но собак уже не было около него, они торопливо отбежали, выжидая удобную минуту.
А пестун, бедный пестун, только озирался во все стороны – так поразило его это нападение собак, так все это было для него неожиданно и странно.
Ясное дело – предстояла редкая охота; мы уже рассыпались было, окружая белых медведей и выбирая себе лучший прицел, когда вдруг картина травли изменилась.
Рядом была открытая вода, звери быстро и незаметно этим воспользовались, и в тот момент, когда мы считали уже охоту начатой, она сразу прекратилась.
Медведи с шумом и плеском бухнули в море. Собаки остановились в недоумении на краю льда и, подбежав к нему, мы только заметили одни круги, – медведи нырнули в глубокую воду.
Только сажен за сто, если не более, показались вслед за тем их белые головы. Увы! они уплывали от нас в открытое море.
Только там, чувствуя себя в безопасности, крупный медведь решился выбраться на лед и посмотреть, кто его так потревожил, и мы с минуту видели редкую картину. Медведь спокойно поднялся на торос пловучего белого льда, взошел на самую вершину остроконечной глыбы и там встал на дыбы, как бы высматривая нас и удивляясь тому, откуда взялись тут люди.
Как он хорош был в бинокль, сколько непринужденности, гордости было в его стоящей на дыбах фигуре. Он – царь этих льдов. Он видел другого царя – человека.
Мы не удержались и приветствовали его салютом из ружей, и громкое эхо раскатилось по морю тихому, разбудив спящую полярную природу.









