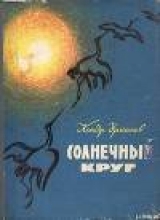
Текст книги "Пора забот"
Автор книги: Кондратий Урманов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
– Сашки нет… – открылся Гена.
– А почему его нет? – спросила Анна Федоровна.
Ребята не знали.
– Он ведь далеко живет от нас, – сказал басовито Ваня. – Может, дома что случилось… После уроков сходим…
– Обязательно сходите, он ваш товарищ… А сейчас выйдите хоть на крыльцо, дверь откройте, пусть классы проветрятся. Сегодня тепло…
…После уроков ребята забежали домой, оставили сумки с книгами и отправились к Саше. Он жил почти на краю рыбачьего поселка. Маленькая избушка их стояла окнами на полдень и казалась веселой. На углу, под крышей, был прибит скворечник – это Сашина работа, – и поселившийся в нем хозяин распевал на все лады, надувая искристую шейку и поднимая нос кверху. Ребята с завистью посмотрели на скворца, в их скворечниках еще не поселились гости.
– А ну-ка по-петушиному… – обратился Ваня к скворцу.
Ребята постояли, послушали, но певец не выполнил их просьбы. Он заливался соловьем, кричал по-галочьи, стрекотал сорокой, свистел иволгой, рассыпал трели жаворонка, а по-петушиному петь не хотел. Ребята вытерли ноги о солому, брошенную у порога, и пошли в избу.
Саша лежал, разметавшись на кровати, и тяжело дышал. Сестренка Маша и братишка Коля сидели за столом и ели жареную рыбу.
Показав на Сашу глазами, Ваня спросил, что с ним.
– Мама говорит: горячка… – шепотом ответила Маша. – Ему то жарко, то холодно бывает…
– А за врачом ходили? – приблизившись к ней, так же шепотом спросил Гена.
– Был… Сказал – пройдет… Саша только сейчас уснул, всю ночь не спал.
В избе было тесновато. При входе, налево, стояла большая кровать, и в простенке, между окон, обеденный стол; за печкой – вторая кроватка, и у окна маленький стол с горкой книг и тетрадей. Это уголок Саши. Жили Ореховы бедновато. Сам Федот Михайлович и старший сын Василий погибли на фронте, Матрене Марковне приходится одной поднимать ребят на ноги. Целый день она на работе, и многие заботы по дому ложатся на “маленького хозяина”, как она зовет Сашу.
Ваня осмотрел комнату и удивился чистоте. Саша второй день болен, но за порядком кто-то наблюдает.
– Пусть спит, – сказал он Гене. – Пойдем…
А за дверью сказал Маше:
– Пока Саша болеет, помогай маме. Вас трое, а она одна…
– Я и то сама все делаю… – бойко ответила девочка.
– Проснется, скажешь, что мы приходили проведать…
Ребята долго шли молча, потом Гена сказал:
– Поправится Сашка, надо ему помочь с уроками…
– Ясно… – подтвердил Ваня. – А ты знаешь, отчего он заболел?
– Я, что ли, доктор? – недоуменно посмотрел Гена.
– Тут без доктора все видно… Не примечательный ты, вот что я тебе скажу. Все надо примечать… Ты сапоги его видел?
– Ну, видел.
– Какие они?
– Сапоги как сапоги…
– Значит, ты ничего не видел… Сапоги у него худые, «каши» просят… Промочил ноги, а весна – не лето, вот и простудился… Ему сейчас надо сапоги, это самое главное…
– У меня нет вторых сапог, а ботинки старенькие, – сказал Гена.
Солнце уже свернуло с полдня. В переулке, по которому они шли, у плетня, еще лежал снег, и ребята слышали тихий говор незримых ручейков. Ваня остановился и посмотрел на родное «море». Лед на озере стал синий-синий, и по этому простору темной лентой пролегала зимняя дорога к далеким островам. У камышей, по заберегам, где скопилась вешняя вода, летели стайки уток, метались чайки.
Гена тоже смотрел на озеро и первый высказал совсем неосуществимую мысль:
– Если бы у нас с тобой были ружья, настреляли бы уток, сдали бы в сельпо, вот и деньги на сапоги…
– «Если бы»… – передразнил его Ваня. – Если бы у нас были ружья, да порох, да дробь, да если бы умели стрелять… Что пустое говорить!.. Проще – если бы у нас с тобой были деньги, пошли бы и купили…
Гена смолчал. Задача была сложной и казалась непосильной. А Ваня вдруг сорвался с места и решительно сказал:
– Идем к сапожнику…
Дядя Яков обедал, когда пришли ребята. Они поздоровались и остановились у порога. Сапожник удивленно посмотрел на них и спросил, что им нужно.
Из-за кухонной перегородки вышла хозяйка со сковородкой жареной картошки и, увидев ребят, пригласила:
– Проходите, садитесь…
Ребята сели на скамейку. У сапожника лицо было строгое, и Ваня подумал, что ничего не выйдет из его затеи, но присутствие хозяйки ободрило его.
– Мы пришли просить вас, дядя Яков, – несмело сказал он.
– О чем? – сапожник отодвинул от себя тарелку и, вытирая полотенцем большие продымленные усы, пристально посмотрел на ребят: – Если кому сапоги починить – не возьмусь. Вон видите, какая гора в углу. Все это надо сделать в срок, люди собираются на пахоту…
Рядом с низеньким столиком, на котором стояли коробочки со шпильками, гвоздочками, лежали куски дратвы, несколько шильев и молоток с клещами, – горой были свалены старые сапоги и ботинки разных размеров. Ваня даже испугался, увидев это старье. «Ничего, однако, не выйдет», – подумал он и сказал:
– Мы не о себе… Товарищ наш заболел, в школу не ходит. Сапоги худые, он и простыл…
– Когда сапоги худые, люди стараются обходить лужи, а вам-то все нипочем: река – не река, море – не море, – сказал наставительно дядя Яков. Голос у него был грубый, трескучий, и, глядя на его суровое лицо, Ваня потерял всякую надежду. – Ничего, ребятки, не выйдет. День и ночь сижу. Председатель колхоза сам часто наведывается, торопит – на полях вовсе мало снега осталось, скоро выезд, а босиком никого на посевную не пошлешь…
– Мы это понимаем, – сказал Гена, опустив голову, словно боясь колючих глаз сапожника. – Сашку жалко – на второй год может остаться. А учился хорошо…
Ваня обрадовался. «Молодец Генка, правильную линию взял…» – и торопясь, пока дядя Яков не сказал последнего, решающего слова, добавил:
– Мы за сапоги сами заплатим, хоть деньгами, хоть рыбой. Сколько скажете, столько и принесем. Вот лето придет, мы рыбачить будем, рассчитаемся. Обидно, дядя Яков, что Сашка из-за сапог на второй год останется во втором классе.
– А он чей, Сашка-то? – спросила хозяйка.
– Да Матрены Ореховой, – привскочил Ваня со скамейки, надеясь в хозяйке найти поддержку. – Трое их у нее.
– А-а-а, знаю, – протянула она. – Это вы про ее старшего говорите? Несчастная!.. Федор с Василием на фронте погибли, а ей одной приходится тянуть троих… Легко ли!
– Ей правительство помогает… – вставил дядя Яков.
– Правительство-то помогает, а мы что? Понимать надо чужую беду. Не в радость ей это… – горячо сказала хозяйка, глядя на мужа. – Великое ли дело – сапожонки изладить? Проговорим больше… Возьмись и сделай…
Ребята ликовали: хозяйка была на их стороне.
Сапожник кончил обед и, завертывая толстую цигарку, спросил уже более мягким голосом:
– Сапоги-то шибко поношенные?..
– Да, можно сказать, одни голяшки целые, переда и подошвы нужны, – сказал Ваня, все еще не веря в успех.
– Вот то-то и оно! Все равно что новые шить… Что ж вы не принесли? – почти сердито выкрикнул он. – Идете по такому делу – и с пустыми руками…
– Да мы только спросить пришли, – сказал Ваня. – Мы сейчас…
Ребята вскочили и, осторожно прикрыв дверь, убежали.
Обо всем этом мне рассказала Анна Федоровна и добавила:
– Сапоги для Саши были сделаны на неделю раньше, чем он встал с постели. Ваня и Гена помогли ему догнать класс.
Когда я стал прощаться, Анна Федоровна, как бы вспомнив о самом важном, сказала:
– Матрена Орехова потом приходила благодарить меня. А при чем здесь я?.. Ребят, говорю, благодарите да сапожника, а я тут не виновата…
Поздно осенью я снова побывал в колхозе “Моряк”. В полях уже все было убрано, нигде не шумели молотилки, не стучали веялки, только неустанные тракторы еще урчали на полосах, поднимая зябь. Колхозники-рыбаки переключились на осеннюю путину, и на улицах, как и летом, было мало людей, зато возле школы, во время перемен, закипала возня: ребята бегали, боролись, играли в лапту, гоняли футбольный мяч.
Перед вечером я зашел в правление колхоза. Председателя не было. За большим письменным столом сидел уже немолодой очкастый бухгалтер, а против него – Ваня Поярков. Я сразу узнал его, хотя одет он был в новый серый пиджачок, и летние выцветшие вихры были острижены под машинку.
Они о чем-то спорили, и я не сразу мог понять.
– Это ж уравниловка… – горячился бухгалтер. – У нас так не ведется, чтобы всем поровну: сколько заработал, столько и получай. Отошли времена для лентяев…
А Ваня стоял на своем:
– Ну и пусть по-вашему уравниловка! Мы же не колхозная бригада… Сами разделим… А лентяев среди нас не было…
– Да пойми ж ты, голова садовая, одинаковых людей не бывает. Ты добыл рыбы больше, чем твои товарищи, значит, и получить должен больше. За Сашкины сапоги ты носил рыбу сапожнику?
– Ну, носил. За работу обещал, вот и носил…
– Так Сашка Орехов мог сам это сделать. Вы ж его обули, чего же надо?
– Может, и он носил, я не знаю…
Пришел председатель. Поздоровавшись со мной и узнав, о чем спор, сказал бухгалтеру:
– Перестань ты крутить ему голову со своими выкладками. На эти деньги мы не имеем никакого права, они заработали, они и разделят… – Он подошел к Ване. Тот встал и, не зная что делать, вертел фуражку в руках. – Так вот, значит, Иван Павлович, дела твоей бригады теперь в шляпе: от рыбозавода получена бумага, в которой говорится, что вы за лето сдали государству почти девяносто центнеров рыбы: язей, крупных щук и окуней, и за это вам причитаются большие деньги. Расчет уже давно составили, а выдавать боятся, как бы вы не потеряли свой заработок. А вы сделайте так: заведите каждый свою сберегательную книжку, они и переведут… Арифметику-то знаете?
– Разделим… – улыбнулся Ваня.
– Вот тебе бумага, завтра сходите к директору и договоритесь.
Ваня взял бумагу, бережно свернул ее и спрятал в карман.
Я поздравил Ваню с хорошими результатами рыбалки, спросил, как идут занятия в школе и все ли члены бригады успевают…
– Пока ничего… – коротко ответил он.
Я передал ему моток сатурна для лесок и крупные крючки, обещанные еще при первом знакомстве.
– Надеюсь, эти крючки вам понравятся, – сказал я, развертывая бумажку. – А книги вы получите от Анны Федоровны…
Ваня поблагодарил и заторопился: то ли спешил рассказать членам своей бригады, как решился вопрос с заработанными деньгами, то ли хотел показать мой подарок…
– Хорошие рыбаки у вас растут, – сказал я.
– Это будущая наша смена… – отозвался председатель, глядя через окно в потемневшую даль озера…

В ТАЙГЕ
„Глухой, неведомой тайгою…"
Третьи сутки мы пробираемся тайгой, переходим мелкие, но бурные речки, отдыхаем, где застанет ночь, а с рассветом снова трогаемся в путь. Тропа не торная, иногда чуть приметная, особенно по береговым зарослям. Кто ее проложил? Может быть, дикие звери или такие же, как мы, редкие гости этих необжитых мест.
Мой проводник – щупленький старичок из притаежной деревни, Аверьян Евстигнеевич, чем-то похожий на высохший гриб, в порыжевшей войлочной шляпе домашней катки, в коричневой выцветшей рубахе, едет впереди меня на шустром молодом Пеганке и, задирая кверху клочковатую седую бороденку, не первый раз говорит:
– Благодать-то какая!..
Это он хочет подбодрить меня. Ему, вероятно, тоже наскучило ехать по долине, среди вековечных лиственниц, елей и пихт, ехать, как по ущелью, из которого совсем не видно горизонта. И, должно быть чувствуя мое нетерпение – скорее добраться к намеченному пункту, добавляет:
– Вот поднимемся на перевал – и свет откроется… Там уж рукой подать до твоих лесорубов…
Его Пеганка быстро перебирает ногами и весело несет на себе не только хозяина, но и весь наш «запас» в переметных сумах: хлеб, зажаренный кусок баранины, туесок с медом и прочую дорожную снедь. Конь, по-видимому, не часто бывает в таких переходах, зорко присматривается ко всему, прядает ушами и всхрапывает. А мой Вороной – в летах – спокоен и медлителен. «Этот не сбросит…» – говорил Аверьян Евстигнеевич, передавая мне коня. Кроме моего дорожного рюкзака и пустого котла, притороченных к седлу, – на нем никакого груза; и идет Вороной неторопливо, размеренным шагом, как на водопой. За плечами у нас ружья: мало ли что в дороге может случиться, говорил старик.
Иногда долина раскрывается широко, и тогда мы попадаем в буйное веселое разнотравье. Лошади начинают сходить с тропы, хватать нежную зелень, и Аверьян Евстигнеевич говорит:
– Ну что ж… Вам покормиться надо, да и нам не вредно перекусить…
Мы делаем короткий привал и пьем чай. Только здесь замечаешь, что, кроме леса, обступившего нас, параллельно с долиной улеглись высокие горы, часто с оголенными вершинами, и хочется взобраться на какую-нибудь скалу и осмотреться.
…На четвертый день, к вечеру, мы, наконец, поднялись на перевал. Я попросил старика задержаться на минуту.
– Можно и отдохнуть… Видимость-то какая отсюда! – восхищается старик. – Загляденье!..
Воздух здесь настолько чист и прозрачен, что далеко на востоке виднеются, словно белые облака, заснеженные отроги Саянского хребта. А на север и запад, куда только хватает глаз, разошлись зеленые лесные просторы, среди которых, как острова среди моря, выступают голые вершины неведомых мне гор Кузнецкого Алатау. Солнце уже клонилось к закату, и казалось, вот-вот потонет в этом неоглядном зеленом море. Могучими волнами улеглись косматые горы, а по долинам уже разливался синий вечерний сумрак.
Деревья на перевале низкорослые, изуродованные бурями и зимними вьюгами, но сейчас здесь такая тишина, что звенит в ушах; холодно, хотя и не ощущается никакого движения воздуха.
– Однако пора ехать, – говорит Аверьян Евстигнеевич, – на Пеганке шерсть задубела. Припотел, а тут холодок…
И мы начинаем спускаться.
Любуясь изумительной картиной вечереющей тайги, я потихоньку запеваю:
Глухой, неведомой тайгою,
Сибирской дальней стороной…
Аверьян Евстигнеевич долго слушает, потом говорит:
– Правильная песня, душевная… И до чего же силен человек! С Сахалину, подумать только, с Сахалину по таким вот дебрям да марям пробирался, ягодами да кореньями питался, все превозмогал. Вот она какая жизнь была! А за что? За свою правду переносил человек мученья…
Он смолкает, плавно покачивается в седле и, может быть, вспоминает то далекое, горькое прошлое, о котором у народа сложено немало тоскливых сердечных песен, потом поворачивается ко мне и продолжает:
– Теперь, друг мой, и тайга не та, и люди не те… Ты вот едешь к лесорубам. Эвон куда забрались люди! А почему? Государству своему богатства добывают. Стройка теперь у нас какая идет! Ого-го! Везде лес требуется… А вот отсюда, – он показывает рукою влево, – из Барнаула инженеры в эту тайгу железную дорогу прокладывают… Зашумит тогда тайга-матушка!..
Я знал об этом проекте, и напоминание старика заставило меня долго вглядываться в сумрачные долины. Хотелось увидеть широкую просеку и на ней вечерние костры строителей…
Неожиданно мой Воронко заторопился, стал «наседать» на Пеганку.
– Ты чего? – махнул на него рукой Аверьян Евстигнеевич. – Зимовье зачуял?
Действительно, у подножья горы, на широкой открытой поляне стояла избушка с навесом. Когда мы подъехали к ней, рядом оказалась небольшая горная речка, и лошади сразу же потянулись к прозрачной воде.
– Охолоньте маленько, – говорил им Аверьян Евстигнеевич, привязывая к столбам навеса и снимая переметные сумы. – Наглотаетесь холодной воды, потом с вами мучься…
Покончив с делами, он повел меня в избушку.
– Вот наше охотничье зимовье…
В избушке было темновато, свет попадал только через одно окошко, но, несмотря на вечер, я хорошо различал предметы. Справа от двери стояла низкая печка, сложенная из серого камня и покрытая чугунной плитой; за печкой – большие нары из тесаных осиновых плашек, по стене, над нарами, связки пялец для правки и сушки звериных шкурок. Слева, у окна, стол и две длинные скамейки, сделанные топором. У матицы на гвоздях висели берестяной туесок и черный закопченный котел.
Острые глаза старика сразу же заметили непорядок:
– Вишь, негодник, ночевал и пяльцами печку растоплял… Мало ему в лесу сушняка!..
– А кто это?
– Кто ж его знает. Ночь, видно, прихватила, вот он и давай жечь, что под руку попадет… – Он снял котелок с гвоздя, понюхал: – Уху варил, а котелок не помыл, негодник. Должно, и мордушки бросил на берегу, где рыбу ловил…
Он вышел и направился к берегу говорливой речушки. Я видел из окна, как он осматривал, а затем устанавливал свои ловушки, действительно оказавшиеся на берегу.
– Это не охотник был, – заявил Аверьян Евстигнеевич, возвращаясь в избушку. – У нас такой закон: уезжаем с охоты – оставляем котел, соль, ложку, спички. Мало ли что может с человеком случиться в дороге, а в избушке он все необходимое найдет. Даже сухари, если остались, подвешиваем на матицу, чтобы мыши не попортили… – Он снял туесок и, заглянув в него, показал мне: – Вот видите, спички, охальник, забрал. Ну, на что это похоже? А если бы нас непогодье застало, дождем промочило, – вот и кукуй всю ночь без огня…
Старик негодовал, и если бы этот непрошенный гость оказался здесь, он прочитал бы ему хорошую лекцию о нормах поведения человека в тайге.
Аверьян Евстигнеевич попоил лошадей, спутал их и тут же пустил пастись. На этот раз он не выстрелил из своей беранки для острастки медведя, как это делал на всем пути. Я думал, что он забыл, и взялся за свое ружье, но старик остановил меня:
– Не к чему портить заряды. Тут человечьим духом пахнет, зверю это не по носу…
Ужинали мы у костра и тут же устроили себе постель из мягких пахучих пихтовых лап. За ужином Аверьян Евстигнеевич рассказывал о своей колхозной бригаде охотников: как они промышляют всю зиму и только к весне возвращаются в поселок с хорошей добычей.
– Я и сам много лет ходил в охотниках, да теперь остарел маленько… – Он смотрит на затухающие дневные краски на вершинах гор и продолжает: – Далековато живем, а кедровники тут богатые. А где кедровники, там и бельчонка и другой зверь держится. Промашки не бывает… Осенями шишку кедровую бьем, орех вьюками переправляем. Масло-то первеющее из ореха получается…
Долго рассказывал Аверьян Евстигнеевич про колхозные дела, и под его негромкий говорок я незаметно уснул.
Ночь была теплая, утро подкралось незаметно, и я проспал.
Старик сварил уху из попавшихся в мордушку хариусов, нарезал хлеба и негромко окликнул меня:
– Пора, друг, вставать, уха стынет…
Я быстро вскочил, умылся кристально-чистой холодной водой из горной речушки и, когда вернулся, заметил, что рядом с котлом стояла дедушкина шляпа, полная зрелой дымчатой малины.
– Когда вы это успели: и уху сварить, и малины набрать? И почему меня не разбудили?..
– Спал ты хорошо, пожалел… А малина тут рядом, пошел за лошадями и набрал к чаю. Лесная-то ягода куда вкусней садовой… – И, разбирая рыбу, продолжал: – Харюзиш-ко-то дивно набился в мордушки, оставил я его в воде. К вечеру вернусь, присолю, а дома старуха пироги состряпает… Рыбка-то знатная, кушайте…
Солнце еще не показалось из-за горы, как мы тронулись в путь, и к полудню были у плотбища, на берегу бурной голубой Томи.
Нас заметили, и вскоре бородатый плотовщик, умело управляясь одним длинным шестом, погнал к нам лодку.
На плотбище
Простившись с проводником и переправившись на правый берег реки, я попал в довольно затруднительное положение, а в первые минуты оно показалось мне даже безвыходным.
Пробираясь девственной тайгой по еле приметным тропинкам к плотбищу, я надеялся достать здесь лодку и спуститься по Томи до города Кузнецка. Это была моя давнишняя мечта. Зимой, по вечерам, я долго просиживал над картой, чертил себе путь через тайгу, и, когда мой карандаш упирался в тонкую синюю линию реки, я облегченно вздыхал, словно уже совершил это заманчивое путешествие.
Выскочив из лодки на берег со своим небольшим багажом, я сразу же очутился в кругу лесорубов и, поздоровавшись, спросил:
– Смогу ли я у вас достать себе лодку?
– Лодку? – переспросил близко стоявший бородатый старик в накинутой на плечи телогрейке защитного цвета.
– Да, лодку?
Люди переглянулись, и я понял, что они в затруднительном положении.
– Мне нужно спуститься к городу. Я могу заплатить за лодку и, если нужно, оставлю ее там, где вы скажете…
Почти в один голос лесорубы ответили:
– Запасных лодок нет…
– Вот так попал, – говорю я, – теперь ни взад, ни вперед… Ну что ж, принимайте пока в свою семью…
Я не на шутку оробел, и было отчего: лошадей здесь я не достану, чтобы возвратиться назад, и вперед не могу двинуться без лодки: непроходимая тайга, бурные горные реки преграждали путь к городу.
Ко мне подошел молодой черноглазый мужчина, чем-то похожий на цыгана. Это был бригадир лесорубов, как я потом узнал.
– А вы не отчаивайтесь, – сказал он певучим голосом. – Нет такого положения, из которого нельзя было бы выйти. Идемте пока ко мне, чайку с дороги попьете, а там видно будет…
– Мне стало легче от его слов, и я спокойно зашагал за ним.
На берегу, в один ряд, стояли восемь домиков, на отшибе – большой барак и рядом с ним новый веселый дом с высоким резным крыльцом. В этом светлом доме, в семье бригадира Бориса Павловича, мне суждено было прожить немало дней.








