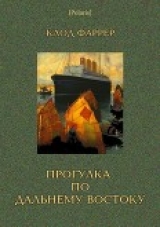
Текст книги "Прогулка по Дальнему Востоку"
Автор книги: Клод Фаррер
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
II В Индо-Китае
Вот я довел вас от Парижа до Сайгона. Раньше, чем следовать дальше, в Китай, сделаем здесь продолжительную остановку, бросим взгляд на самую богатую из колоний.
Итак, мы в Сайгоне. Пароход только что ошвартовался у набережной. Взглянем отсюда на город, самый старинный французский город на Дальнем Востоке; мне помнится, что французы пришли сюда в 1859 году!
Многоводная широкая река, пристани, бесчисленные суда. Наш пароход у набережной. Экипажи подъезжают за нами почти к самому трапу… Точь-в-точь, как «такси» Парижа у дверей Колизея… Там, на другом берегу реки, лес, настоящий лес и очень красивый; три этажа зелени один над другим! Внизу бамбук, тростник, кусты, над этим полоса темной зелени, усыпанной цветами, а еще выше величественные султаны бетелевой пальмы… Здесь – на правом берегу, наоборот, город, цивилизация. Впрочем, сначала нам покажется, что оба берега – и левый, и правый – одинаково покрыты деревьями; Сайгон действительно весьма тенистый город. Это довольно обширное поселение, – около ста или ста пятидесяти тысяч жителей. Кроме того, рядом с этим городом, английским, вырос другой – китайский, Шолон, еще более населенный. Индо-Китай населен аннамитами, тонкинцами, камбоджианцами или лаотийцами, – все племенами, весьма отличными от китайцев. Но, как и всюду, где приходится выполнить какую-нибудь тяжелую работу, довести до благополучного окончания какой-либо гигантский труд, – сюда пришли и китайцы.
Китайский рабочий действительно работает значительно лучше и прилежнее, чем какой угодно другой. – Но мы еще к нему вернемся…
А теперь, – на берег!
Для начала познакомимся с аннамитами. Те аннамиты, которых мы встречаем здесь, в Сайгоне, не похожи на подлинных аннамитов Аннама: Сайгон, в конце концов, – лишь колония Гюэ. В давно прошедшие времена он составлял часть камбоджийских владений, то есть царства Хмеров, которые корнями своими исходили от царств индусов, чистейших индусов. И обратно: аннамиты, пришедшие из Китая, как говорят, сорок пять столетий тому назад, были несомненно монголы. В те отдаленные времена Китай фактически состоял из трех провинций: Чен-си, Чан-си и Хо-нан. Тогда это была действительно Центральная Нация, по преимуществу, – Центральная Империя; с юга к нему прилегали владения народностей, которые, по-видимому, и являлись предками аннамитов. Эти аннамиты пришли в Индо-Китай; и, по мере того, как царства камбоджийцев сходили на нет, владения аннамитов расширялись: таким образом, мы встретим в Сайгоне смешанные племена и, вероятно, на первых порах станем путать их между собою – настолько климат сравнял их с течением времени по внешности. Но ко всем этим народностям я еще вернусь вскоре.
Сам город очень и очень «французский».
Существует три сорта французских колоний: старые, молодые и те, о которых я осмелюсь выразиться, – «среднего возраста».
Старые – это те, что восходят к временам старой монархии; так, например, наши индийские станции: Пондишери или Магэ, наш мыс Соединения, наш Мартиник или Гваделупа. Все это по большей части имеет вид страшно обветшалый, вид пережитка, старины милой. Обратно – в наших молодых колониях и в странах, находящихся издавна под протекторатом, – в Марокко, например, – мы находим чрезмерное изобилие энергии.
Индо-Кигай держится как раз посредине: в нем есть очарование мест с глубоким прошлым.
Сайгон, с его красивыми тенистыми улицами, осененными, по большей части, «пламенными» деревьями («пламенные» – деревья с сильно изрезанными, очень светлыми листьями, которые цветут великолепными красными цветами всевозможных оттенков), с маленькими, в большинстве случаев низенькими домиками, с террасами, – домиками, весьма благоустроенными, комфортабельными и прохладными, стены которых часто не доходят до потолка для того, чтобы малейший ветерок мог проникать туда беспрепятственно, – Сайгон имеет вид старинного французского города в колонии; только в этом старинном колониальном городе кишат автомобили и сияет электричество. Мне кажется, что в Сайгоне насчитывают не более пяти или шести тысяч европейцев. Но все эти европейцы являются владельцами, директорами, хозяевами, людьми, у которых есть экипаж и которые, несомненно, «преуспевают»; они создают здесь жизнь, почти равную жизни больших городов с двумя или тремя сотнями тысяч жителей.
* * *
С первых же шагов мы будем изумлены роскошью, элегантностью и красотой Сайгона, – экипажи, рикши, автомобили и толпы прогуливающихся… Особенно после шести часов вечера… (Не следует забывать, что мы находимся в стране с довольно грозным климатом).
В Сайгоне не слишком жарко, – термометр редко показывает больше двадцати восьми, двадцати девяти градусов, но зато еще реже опускается до двадцати семи, и так круглый год, зимой и летом. Первое ли января или первое августа, полдень или полночь, все равно: неизменно двадцать восемь, двадцать девять градусов; а ничто не действует в такой степени на малокровие.
Тяжелая и влажная жара давит здесь почти так же, как в Сингапуре. Прибавьте к этому солнце. Когда-то я рассказывал об африканском солнце, о солнце Сахары и Нубии, об ослепляющем, покоряющем, торжествующем солнце.
Но солнце Африки, на которое не осмеливаются глядеть даже орлы, не злое солнце: оно никого не убивает.
Оно лишь слегка утомляет, ошеломляет, но и только. Солнце Азии, солнце Индо-Китая, – таинственное, закрытое дымной вуалью, ужасное солнце.
По большей части его едва видно из-за беловатых облаков, а нередко оно скрыто совершенно. Но оно убивает и убивает мгновенно. Не вздумайте, встретив на улице вашу приятельницу, приветствовать ее, сняв шляпу, как вы привыкли делать в Париже, – это может стоить вам дорого, даже очень дорого, – стоить жизни!
Подобные вещи случаются, я сам был тому свидетель. Солнце Азии, – солнце, лучи которого действуют химически, и эти лучи способны вызвать в вашем мозгу какие-то пертурбации, убийственные и молниеносные!
А там… Кладбище, то самое сайгонское кладбище, слишком обширное и слишком населенное, о котором первые колонисты говаривали с беззаботной и добродушной усмешкой, – «наш акклиматизационный сад!». Они хотели этим сказать, что приучиться к климату Кохинхины можно только здесь…
Помимо пяти тысяч европейцев, мы познакомимся в Сайгоне с сотней тысяч аннамитов, населяющих этот город. У нас хватит времени оценить по достоинству и их искусно причесанные волосы, и замечательные головные уборы, темные округлые лица, длинные тонкие руки и их (не сумею точно выразиться) нежность, что ли, и шаловливую и томную в одно и то же время. Женщины носят украшения из золота и кораллов, что чрезвычайно идет к их матовой и тонкой коже. Мужчины бреют и усы, и бороды, за исключением разве древних стариков. Первые месяцы пребывания здесь вы, легко может статься, будете смешивать оба пола, что иной раз смутит вас немало.
Аннамиты – племя кроткое, бесконечно миролюбивое и в достаточной степени беспечное.
Все дальше и дальше идем мы по веселым и живописным улицам… И вот уже Сайгон позади, и мы входим в Шолон, – китайский город.
Обстановка меняется, как по волшебству! Другие улицы, другие дома, другие люди, другие нравы. Мы в Китае, в вечном, недвижном Китае. Вместо темнолицей, беспечной, смеющейся или, по временам, задумчивой толпы, которую мы только что наблюдали, вокруг нас кипит желтая, бурлящая масса, распространяя терпкий запах. Она все время стремится, вопит неумолкаемо и работает, работает с остервенением, какое трудно даже вообразить!
Я постараюсь дать вам некоторое представление о мощи китайца, как рабочего, мощи, являющейся его основной особенностью: три четверти ремесел в Сайгоне находятся в руках «жителей центральной империи»; вы не найдете ни сапожника, ни портного-аннамита: все они китайцы.
У меня был поставщик, который совмещал обе эти специальности; он жил на улице «Катина», как все уважающие себя сайгонские торговцы; его звали Ли-Куй. Само собой разумеется, это был чистокровный китаец.
Я заказывал по мере надобности ему все одеяния, что принято там носить, то есть блузки и брюки из белого полотна для ношения днем, смокинги из белого пике на вечер, а на ночь пижамы из тонкого перкаля. Здесь настолько жарко, что приходится, как общее правило, менять костюм раза три в день; а если вам вздумается отправиться на бал, то придется захватить с собой штук пятнадцать накрахмаленных воротничков, чтобы протанцевать семь-восемь часов (в Сайгоне танцуют до позднего часа); вы будете вынуждены отправляться в комнату для переодеваний после каждого фокстрота, вот и все!
Так вот, мой портной снял с меня мерку всего раз и, тем не менее, не испортил ни одной вещи. У него был паршивенький магазинчик и всего-навсего один помощник.
В один прекрасный день (то был последний из девятисот пятидесяти дней, проведенных мною в Китае) я отправился в обратное путешествие. Я сел на пароход в одном из японских портов. В Сайгоне мой пароход сделал остановку; он прибыл туда в десять часов утра и уходил дальше после полуночи. Я сошел на берег, отправился к Ли-Кую и сказал ему:
– Ли-Куй, я уезжаю сегодня с пароходом; мне бы хотелось, чтобы за это время ты мне сшил кое-что, – дюжину костюмов из белого полотна, дюжину пижам и дюжину ботинок на кожаной подошве с полотняным верхом, – все, разумеется, по мерке.
– Хорошо, каптэн.
(Было десять часов утра, прошу не забывать).
– Хорошо! Вечером все будет готово.
– Вечером? Я в котором часу?
– Пароход уходит после полуночи?.. Ну, вот! Значит, к двенадцати часам. Каптэн, наверное, пойдет в театр?
(В Индо-Китае все европейцы «каптэны»: милый и любезный способ обращения).
– К окончанию спектакля все будет готово.
– Но лавочка твоя закрывается с девяти часов вечера?
– Сегодня она будет открыта сколько понадобится.
Забыл сказать, что белый полотняный костюм стоил здесь десять франков, а ботинки по два франка пятьдесят пара, причем работа была безукоризненная.
Отправляясь позавтракать часов в двенадцать, я вновь проходил той же улицей и стал свидетелем любопытной сцены: лавчонка Ли-Куя внезапно выросла! Около сорока портных работали, сидя прямо на тротуаре. Ли-Куй увеличил рабочий персонал, чтобы поспеть с заказом.
А ночью, после театра, подойдя к лавочке, я действительно нашел ее открытой. Ли-Куй, улыбаясь, курил опиум с удовлетворением человека, окончившего свой труд, а рядом с его курительным прибором ждал меня огромный узел, завернутый в черный люстрин. В нем находились мои две дюжины костюмов и дюжина ботинок.
– Вот! – произнес китаец.
Я имел дело с китайцем, а потому, конечно, не рискнул вскрыть пакет, чтобы проверить заказ. Я нанес бы ему этим смертельное оскорбление. В коммерческом деле слово китайца имеет куда большее значение, чем любой европейский документ. Он произнес: «Вот!» – этого было достаточно. Я уезжал той же ночью, я не смог бы никак предъявить моему портному какие-либо претензии: не из Франции же, в самом деле, стал бы я возбуждать против него дело! И, тем не менее, он поступил корректно, честно, согласно своим понятиям о чести, как представитель «китайской расы», так именно, как повелел Конфуций!
Согласитесь, что портные, способные сшить в течение четырнадцати часов тридцать шесть одеяний, это нечто такое, с чем конкурировать, против чего бороться почти невозможно.
Аннамиты давно отказались от этой борьбы. И вот чем объясняется, что рядом с Сайгоном мы видели Шолон, город столь населенный и столь превосходящий его богатством. В нем сто двадцать тысяч жителей, если не ошибаюсь, против ста в Сайгоне, и столько миллионов, что их можно противопоставить любому крупному бюджету.
Мы пройдем весь Шолон насквозь, а потом сделаем небольшую прогулку за город.
* * *
При самом выходе из Шолона нечто чрезвычайно азиатское, – «Долина могил». У азиатов совершенно иное представление о смерти, нежели у нас. В Азии умерший навеки сохраняет за собой свое последнее жилище, и никто из живых не смеет к нему прикоснуться.
Конечно, умершему не бог весть сколько требуется места, но так как Азия существует с незапамятных времен, этих умерших бесконечное множество, а потому и кладбища занимают необозримые пространства.
Представьте себе безграничную равнину, всю усеянную могильными холмиками из пыли, – «горстями пыли, под которыми спят другие горсти пыли», – и так до самого горизонта! Чтобы пройти эти владения мертвых, чтобы пересечь кладбища Дальней Азии, нужно много, очень много времени!
Когда мы выберемся, наконец, из этой странной равнины, более странной, нежели печальной, мы внезапно очутимся в деревне, в деревне дельты Кохинхины, которую образует река Меконг. Равнина Кохинхины необычайно плодородна и изумительно обработана. Насколько хватает глаз, кругом зеленеют великолепные луга, которые при ближайшем рассмотрении оказываются рисовыми полями, и колышутся леса бамбука и бетелевой пальмы, искусственно разведенные леса.
Дорога тянется по исключительно приятной местности, которую называют «инспекцией» и которая для Сайгона является тем же, чем для нас Булонский лес и, в частности, наши парижские «акации». Это значит, что каждый вечер, от пяти до семи, здесь на протяжении около четырех километров медленно движутся четыре ленты автомобилей и из экипажа в экипаж летят улыбки и поклоны. Тут собираются все зонтики Сайгона…
Эта европейская толпа, которую мы сами будем «инспектировать», стоит того, чтобы взглянуть на нее. Придется слегка нагнуться, ибо все лица благоразумно прячутся под пробковыми шлемами… да, и женские тоже! На шлемах женщин – белая лента и только. Никто никогда не приподнимает здесь шлема, даже во время поклона; солнце, – берегитесь! Но, конечно, только до шести вечера, потому что в это время солнце скроется за горизонтом, и в тот же момент все головы обнажатся.
Кончено! Опасности больше нет до завтрашнего утра. И нужно пользоваться этим, чтобы вздохнуть свободно.
Изнурительная жара создает в Сайгоне жизнь, которую легко назвать странной. Здесь все встают рано. В теннис играют обыкновенно от пяти утра, потому что в восемь все должны уже разойтись по домам, – начинается владычество зноя, – берегитесь! От восьми до десяти работают, потом завтракают; после завтрака «сьеста». После полудня сон под покрывалом от москитов… или, вернее, бессонница, приятная, тем не менее… А около четырех с половиной, пяти дня, – вон из постели! Снова работа, и конец. Затем прогулка, «инспекция», а там перемена туалета. – Сударыни, обнажайте ваши плечи, и как можно ниже! Такова мода в Кохинхине…
И… «honni soit qui mal у pense»[9]9
«Да стыдится тот, кто дурно об этом подумает» (фр.). Девиз ордена Подвязки и легендарная фраза учредителя ордена, английского короля Эдуарда III, произнесенная, когда графиня Солсбери уронила во время бала подвязку.
[Закрыть], – ведь здесь так жарко, так жарко! Да и кроме того, придется обедать и после танцевать…
Ночи Сайгона и оживленны, и милы… И так это тянется здесь круглый год!
Здесь только два сезона, – сухой и мокрый; но оба, повторяю, одинаково трудно переносимы, одинаково изнуряют и лишают силы. Нужно большое присутствие духа, чтобы убеждать себя ежечасно, что живешь, что стараешься жить во что бы то ни стало…
Не думайте, что все, что я рассказал о климате Сайгона, может быть приложено ко всему Индо-Китаю! Отнюдь нет, Индо-Китай огромная страна! Чтобы проехать на пароходе от Сайгона до Ханоя, нужно потратить около трех дней, то-есть ровно столько, сколько требуется на переезд от Бордо до Казабланки или от Парижа до Варшавы! Так вот, климат Сайгона также мало похож на климат Ханоя, как климат Варшавы на климат Парижа! В Ханое гораздо теплее, чем в Сайгоне, летом и гораздо холоднее зимой. В Ханое температура опускается до пяти градусов ниже нуля и поднимается выше сорока пяти. В Сайгоне же совершенно другое, – здесь не знают температуры выше 30 градусов и ниже двадцати восьми.
По этому поводу приходится пуститься в ученые рассуждения. Чтобы говорить серьезно об Индо-Китае, необходимо коснуться географии!
Существует старинная поговорка, кажется, аннамитская, которая сравнивает французский Индо-Китай с сухой веткой, по обеим концам которой прикреплены две грозди бананов. Сухая ветка – это побережье Аннама, гористое, скалистое, бесплодное; а грозди бананов по обоим концам, – две дельты: дельта Меконга на юге и дельта Красной реки на севере… то есть Кохинхина и Тонкин, и та и другой невероятно плодородные и богатые баснословно. Сама Беотия менее плодородна, чем эти китайские дельты. Только дело в том, что аннамитская поговорка сложилась в давно прошедшие времена, а в настоящее время приходится вместо двух гроздей бананов по концам ветки говорить о четырех: рядом с Кохинхиной выросла Камбоджа, а у Тонкина появился сосед в лице Лаоса. В них тоже «красные земли», сказочно плодородные.
Кстати, – раз мы упомянули о Камбодже и Лаосе, то давайте бросим беглый взгляд на жителей, которые там обитают…
Ведь нельзя же думать, что во всем Индо-Китае существует всего лишь одно племя. Об этом свидетельствует само название «Индо-Китай»… Тут и Китай, и Индия, и Восток, и Запад.
Почти все племена Лаоса и Камбоджи и многие племена на севере Тонкина пришли с запада, и по происхождению индусы. Здесь находилось царство Хмеров, разрушенное в незапамятные времена; с тех пор оно восстанавливалось раза три или четыре различными племенами, неизменно арийскими, и вот от них и ведут начало жители Камбоджи наших дней.
Аннамиты же – выходцы из Китая. Отсюда, – вы понимаете сами, – и два этнических элемента, различных в корне… и две в корне же различные истории.
Если угодно, начнем с Камбоджи, тем более, что мы отправились из Сайгона, а это совсем рядом и, в частности, с ее настоящей столицы Пном-Пен. В ней находятся знаменитые развалины древней столицы этого царства, – Ангхоры, являющейся, несомненно, колоссальнейшим религиозным памятником в мире. Ничто ни в Индии, ни даже на Борнео, не может сравниться с Ангхорой… Как по размерам, так и по изысканности архитектуры, на нашей планете нет ничего равного ей.
Ангхора – памятник религиозного культа, браманизма. Религия Брамы утвердилась в Индокитае за два приблизительно века до рождества Христова и держалась здесь без помех на протяжении двенадцати столетий. Затем явился буддизм и вытеснил культ Брамы.
Под этим буддизмом нужно разуметь буддизм «Великой колесницы» (приношу извинения за то, что оперирую столь специальными выражениями)… буддизм «Великой колесницы», то есть буддизм самый чистый, первичный, неизмененный, – тот, который исповедуют еще на Цейлоне и в Тибете, но нигде более, ибо вся Индия в настоящее время уклонилась в сторону буддизма «Малой колесницы», в котором религии меньше, чем суеверия, и который в достаточной степени выродился.
Итак, памятники хмеров браманического происхождения, в этом сомневаться невозможно. Более того, – в Камбодже до сих пор мы находим смутные отголоски мертвой религии.
Так, при дворе в Пном-Пене, при особе царя состоят сановники и должностные лица, полномочия и обязанности которых чисто ритуального характера; и ритуал этот браманический, и в высшей степени строгий.
А танцовщицы? Очаровательные танцовщицы из Камбоджи, которых многие из нас имели случай видеть в Париже или Марселе, – они, несмотря на их ослепительную юность, вместе с их танцами восходят к временам отжившей религии Брамы, отжившей пятнадцать или двадцать веков тему назад…
Одно время здесь утвердилось племя, пришедшее с юга, которое называлось «чам», – племя мусульманское. Но оно было поголовно истреблено аннамитами что-то около XIV столетия нашей эры. Теперь от него осталось лишь воспоминание.
Царство Хмеров, оставившее после себя сказочный след, – руины Ангхоры, заставляет чувствовать свое былое величие, свою значительность, стоящую, без преувеличения, на грани чудесного…
Но оно было мало-помалу захвачено, с одной стороны, аннамитами, спустившимися из Китая, с другой сиамцами, пришедшими никому не известно откуда… Все это привело к тому, что когда мы, французы, утвердились в Индокитае, то в Камбодже оставалось немного чего: несколько чудом уцелевших провинций, угрожаемых отовсюду, и король… король-вассал императора Гюэ!.. «Вассальный король», – этим все сказано… не правда ли?
Вот почему в Камбодже наша колонизаторская деятельность встретила сочувствие всего населения, видевшего в нас освободителей.
Та же колонизация или интервенция, или… почему же кошек не называть кошками?.. тот же «протекторат» был значительно хуже принят в Аннаме. Дело в том, что Аннаму, народ которого являлся народом-завоевателем, который на протяжении всей своей истории, начиная с мифических времен, боролся с Китаем, могущественным и склонным к набегам, – мы казались ни более ни менее, как налетчиками.
Аннам действительно боролся с Китаем в продолжение трех или четырех тысяч лет. До нас дошло предание о двух сестрах-аннамитках, история которых весьма напоминает историю Жанны д’Арк, – обе пожертвовали собой во имя родины и погибли, пытаясь освободить Аннам от китайского ярма. Казалось бы, народ Аннама, завоевавший сначала свою территорию, а затем героически защищавший ее, сумевший избежать рабства Китая и покоривший Кохинхину с тремя провинциями Камбоджи, а впоследствии свирепо уничтоживший племя «чам» в XIV веке, – казалось бы, повторяю, должен был быть народом героическим, очень энергичным, могучим народом… Но каково же будет наше разочарование, когда мы познакомимся с ним на свободе, там, где он «у себя дома», то есть в Гюэ или Ханое. Прежде всего, мы убедимся в том, что этот таинственный народ, столь древний и столь умудренный, страшно переменился, как характером, так и наклонностями, состарившись и оставив за собой тридцать или сорок веков, что насчитывает его достоверная история.
* * *
Прежде чем добраться до Тонкина, я хотел бы сказать два слова о памятниках Хмеров и пагодах Аннама… Дело в том, что если нам известна в какой-либо степени история Индо-Китая, то узнали ее мы только благодаря этим памятникам и пагодам. Я мог бы рассказывать об Ангхоре без конца; да и не я один, а чуть не весь мир… Но к чему? Разве все вы не видели множество раз картины, рисунки, скульптуру или предметы, дающие точное представление об Ангхоре? На колониальных выставках, быть может, или по бесчисленным фотографиям, столь распространенным. Вам знаком, значит, необычайный вид этих возвышающихся одна над другой колоссальных террас, над которыми царят купола в форме тиары, и все это покрыто изысканной скульптурой, резьбой, ажуром, выделанными кропотливо и тонко – и вместе с тем так, что никогда деталь не умаляет величия линий ансамбля.
Теперь эту столицу, не уступавшую по величине Парижу, затопил лес; от нее едва уцелело несколько гигантских храмов, которые спят глубоко, покинутые священниками и правоверными, и только тишина леса кругом… великая… бесконечная…
Но оставим Ангхору, с ее общеизвестными красотами, и остановимся подольше на других таинственных пагодах, скрытых в недрах Аннама, происхождение которых отнюдь не индусское. Я говорю о тех необычайных памятниках, что находят хотя бы около Гюэ и которые увековечивают чисто азиатское прошлое.
Лоти посетил, если не ошибаюсь, в 1883 г. знаменитую Мраморную гору… Вот рассказ его об этом изумительном и волнующем посещении. Спутником ему был китаец Ли-Лоо, весьма элегантный, одетый в оранжевое с зеленым…
Подземная пагода
Мраморная гора со всех сторон поднимается отвесно.
– Ли-Лоо, где же великая пагода?
Ли-Лоо улыбается:
– Ты увидишь!
Я ничего не вижу. Вижу только дикую гору, иглы мрамора и висящую зелень.
Оранжевый с зеленым Ли-Лоо говорит, что нужно подниматься, и проходит вперед. Открывается большая мраморная лестница, высеченная в скале. Барвинки стелют по ступеням роскошный розовый ковер.
Мы поднялись на половину высоты лестницы, когда показалась пагода; ее скрывали от нас лианы и камни. Она в глубине глухого двора, в подобии небольшой, мрачной долины. Розовый барвинок покрыл так же, как и лестницу, плиты этого двора.
Пагода вся ощетинилась рогами, когтями и какими-то ужасными вещами неясных и пугающих очертаний.
Века пронеслись над ней. У нее вид склепа, завороженного жилища, построенного здесь духами.
Я спросил у Ли-Лоо, оранжевого с зеленым:
– Это и есть пагода, из-за которой мы пришли?
Ли-Лоо улыбнулся:
– Нет, еще выше…
Поднимаемся еще выше по мраморной дороге. От времени до времени можно видеть необъятную печальную равнину, которая уходит вдаль глубоко под нами, песчаные дюны или зеленые луга, по которым пасутся буйволы. Далеко на западе, до самого Гуэ, тянутся горы Аннама, наполовину скрытые облаками…
Перед нами вырастает портик, под которым проходит дорога. Он выдержан в стиле сновидений; на нем рога и когти; кажется, что он – осязаемое воплощение тайны. Над ним пронеслось столько веков, что он, как будто, породнился с горой, – все серые выступы, что видны кругом, из того же мрамора и того же возраста. Дверь, ведущая в странные владения, которые не желают, чтобы в них проникли…
– Ли-Лоо, скажи мне, – это ли, наконец, дверь пагоды, которую мы пришли смотреть?
Ли-Лоо снова улыбается:
– Да, сама гора и есть пагода. Эта гора подвластна духам, она заколдована. Нужно выпить, еще выпить «сам-шу».
И он снова наполняет рисовым спиртом маленькие разрисованные чашечки, что несет за нами желтокожий слуга.
Мы проходим портик, и перед нами открываются две дороги: одна поднимается, другая сходит вниз. Обе исчезают за таинственными поворотами, среди серых скал…
Ли-Лоо как будто колеблется минуту, но затем выбирает правую, которая спускается вниз. И мы вступаем в подземное, заколдованное царство… Действительно, – сама гора и есть пагода.
В подземных галереях живет целый мир ужасающих идолов; в недрах горы нечисто, чары спят в глубоких провалах… Здесь все божества буддизма, и еще гораздо более древние, имен которых не знают даже бонзы… – Здесь человекоподобные боги то стоят во весь рост, сверкая золотом и огромными, суровыми очами, то дремлют, сидя на корточках, закрыв наполовину глаза, с улыбкой вечности на устах.
Они то одиноки, неожиданно выступая в каком-нибудь темном закоулке, то собраны толпой и сидят кружком под мраморными сводами, в зеленоватом сумраке пещер. На голове у каждого красная шелковая шапочка. Некоторые надвинули ее на глаза, как будто спрятались, и видно только их улыбку; чтобы увидеть лицо, нужно шапочку приподнять.
Позолота, китайские краски их костюмов до сих пор сохранили подобие свежести и блеска. Но они очень стары, тем не менее, – их шапочки изъедены червями. Они напоминают необыкновенно сохранившиеся мумии.
А ниже, еще гораздо ниже, в подземных пещерах, покоятся другие боги, – на них нет ни красок, ни позолоты, имена их неведомы никому, в их бородах сталактиты, а на лицах маска селитры. Они стары, как мир. Они существовали еще в те времена, когда наш Запад был лесом, девственным и холодным лесом пещерного медведя и большого лося.
Надписи вокруг них не на китайском языке; эти надписи сделала рука первобытного человека задолго до всех известных эпох; их начертания кажутся еще древнее туманной эпохи Ангхоры.
Боги до-дилювиального периода, окруженные непостижимыми вещами. Бонзы чтят их наравне с другими, и ниши их пахнут ладаном.
* * *
Когда мы вышли из подземелий и снова поднялись к верхнему портику, я сказал Ли-Лоо:
– Твоя «великая пагода» прекрасна!
Ли-Лоо улыбнулся:
– «Великая пагода»… Ты ее еще не видал!
С этими словами он повернул, на этот раз влево, по восходящему пути…
Нам преграждает путь еще один портик в неведомом стиле. Он ничем не напоминает первый, его необычайность совершенно иного порядка.
Он прост до крайности, но в этой простоте нечто от «никогда не виданного». Эта простота как будто квинтэссенция и последнее слово всего. Чувствуется, что эта дверь ведет куда-то за пределы, и что там, куда она ведет, небытие в вечном покое. Скульптура портика в расплывчатых завитках, образах, которые переплетаются в подобии мистических объятий, без начала и конца, – вечность, где нет ни печали, ни радости, растворение в небытии и покой, покой в абсолютном ничто…
Мрак… Потом впереди что-то светлеет; но то не дневной свет: то зеленоватый отблеск, подобный отблеску бенгальского огня.
– Пагода! – говорит Ли-Лоо.
Неправильной формы дверь, окаймленная сталактитами… Мы в самом сердце горы, в высокой, обширной пещере, стены которой облицованы зеленым мрамором. Отдаленные углы ее потонули в прозрачном полумраке, напоминающем морскую воду, а сверху, из отверстия, через которое смотрят на нас большие обезьяны, падает сноп ослепительного блеска необычайной окраски: кажется, как будто находишься в гигантском изумруде, освещенном лунным лучом… Пагода, боги, чудовища, собранные в этой подземной мгле, в этом апофеозе зеленого рассвета, сияют невиданными красками, кажутся явлениями неземного мира.
Мы медленно сходим по ступеням лестницы, охраняемой четырьмя ужасными богами верхом на кошмарных животных…
На последних ступенях нас охватывает подземный холод; наши голоса звучат чуждо и странно…
Пол пещеры из очень тонкого песка покрыт пометом летучих мышей, распространяющим острый запах мускуса, и следами обезьян, напоминающих следы маленьких человечьих рук…
– Нужно выпить, еще выпить «сам-шу»!
Мы пьем, и этот китайский спирт, который Ли-Лоо рекомендовал на время визита к «богам» и считал прекрасным посредником в беседе с духами, нас незаметно усыпляет.
После дневного зноя, после утомления подъема, растянувшись на песке, мы чувствуем, что как будто погружаемся в воду, что отдыхаем в прохладе; все вокруг постепенно темнеет, мы различаем лишь неопределенную зеленоватую прозрачность; голубые и розовые боги отходят в область воспоминаний, но взгляд их огромных глаз по-прежнему следит за нами, – и по мере того, как мы каменеем все более, вокруг нас возникает какое-то движение, бесшумно идут и уходят не вполне человеческие существа; какие-то силуэты спускаются, скользя по лианам, – то приближаются большие обезьяны!..
И, наконец, сон, тяжелый сон, без сновидений, охватывает нас…
* * *
Внимание! Эта пагода – отнюдь не буддийская! Лоти ошибся, говоря о Саккиа-Муни. Пагода Мраморной горы, равно, как и все ее сестры, ведет свое начало не от Индии, а от Китая.
Их боги, мрачные, дикие, смущающие ум боги, не что иное, как китайские гении, ужасные гении… ибо Аннам никогда не знал Будду, так же точно, как никогда не знал он и Браму…
У него была иная вера, пришедшая не с Запада, а с Востока, – вера в гениев, религия предков!
Мистические «лошадь и слон» из гранита или дерева охраняют любой из храмов Аннама. Мне неизвестно значение этого символа. Каждый раз, когда у порога индо-китайского храма вы увидите лошадь или слона, вспомните, что перед вами памятник этой бесконечно древней религии, религии глубоко азиатской, следы которой остались только здесь.








