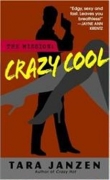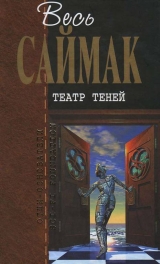
Текст книги "Театр теней: Фантастические рассказы"
Автор книги: Клиффорд Саймак
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
– Нет,– отрезал Уоррен.
Капеллан воззрился на него.
– Так чего же вы ждете, Уоррен? На что надеетесь?
– На чудо,– ответил тот.
– На чудо?!
– Несомненно. Вы ведь верите в чудеса. Вам положено в них верить.
– Право, не знаю. Разумеется, кое-какие чудеса случаются – хотя назвать их чудесами можно лишь в переносном смысле, и порой люди придают им гораздо большее значение, чем они того заслуживают.
– Я не настолько наивен,– охрипшим голосом возразил Уоррен.– Чудо заключается в том, что туземцы – такие же гуманоиды, как и мы, но ни в каких прививках не нуждаются. И еще возможность чуда заключается в том, что только первые из высадившихся на Ландро людей пытались выжить без помощи прививок.
– Ну, раз уж вы об этом заговорили,– подхватил капеллан,– то чудом является и то, что мы вообще оказались здесь.
Уоррен бросил на него быстрый взгляд.
– Вот именно. Скажите-ка, как по-вашему, зачем мы здесь? Должно быть, так назначено судьбой. Или это необъяснимая игра таинственных сил, ведущих человечество по уготованному ему пути?
– Мы здесь затем,– отчеканил Барнс,– чтобы продолжить работы, начатые предыдущими изыскательскими партиями.
– И эстафету подхватят новые партии, которые придут вслед за нашей.
– Вы забыли,– заметил капеллан,– что все мы умрем, а к отправке новых экспедиций на смену поголовно погибшим относятся с большой неохотой.
– А вы,– возразил Уоррен,– забыли о чуде.
Основательно покопавшись в папке с бесчисленным количеством копий отчетов предшественников, Уоррен нашел нужный – отчет психолога, принимавшего участие в третьей экспедиции на Ландро – и углубился в чтение.
– Бред сивой кобылы,– наконец бросил он, припечатав бумаги кулаком.
– Я мог бы сказать тебе об этом, даже не читая,– заявил Буян.– Нет ничего такого, что хоть один сопливый молокосос мог бы рассказать бывалому ветерану вроде меня об этих абр… абер… абор…
– Аборигенах,– подсказал Уоррен.
– Вот именно. Это самое слово и вертелось у меня на языке.
– Туг говорится,– сообщил Уоррен,– что у туземцев Ландро сильно развито чувство собственного достоинства, что оно очень тонко настроено – именно так он выразился,– и существует тщательно разработанный кодекс чести в отношениях между собой.
Буян фыркнул и потянулся за бутылкой. Сделав глоток, он с беспокойством взболтнул остаток содержимого и поинтересовался:
– А ты уверен, что у тебя больше ничего на этот счет?
– Тебе лучше знать,– отрезал Уоррен.
– Это утешает,– покачал головой Буян,– очень утешает.
– Тут говорится,– вел дальше Уоррен,– что у них есть система взаимоотношений, соответствующая этикету, хотя и на довольно примитивном уровне.
– Ничего не могу сказать про соответствующие эти-как– там, но место насчет кодекса чести мне не по нраву. Да эти грязные скоты у покойника с глаз монетку стибрят! Я всегда держу лопату под рукой, и если хоть один высунет нос…
– В отчете этот вопрос рассмотрен весьма тщательно и занудно. Тут это объясняется.
– Да нечего тут объяснять! – стоял на своем Буян,– Ежели им чего приглянется, так они прошмыгнут по-тихому и утащат.
– Туг сказано, что это все равно что красть у богача,– пояснил Уоррен,– Как ребенок, повстречавший поле с миллионом арбузов, не видит греха в том, чтобы взять один-единственный арбузик из миллиона.
– У нас нет миллиона арбузов.
– Это просто аналогия. Наше снаряжение кажется этим лилипутам миллионом арбузов.
– Как бы там ни было,– возмутился Буян,– лучше им держаться подальше от кухни…
– Заткнись,– грубо оборвал Уоррен.– Я позвал тебя, чтобы поговорить по делу, а ты лишь хлещешь мое виски да разглагольствуешь о кухне.
– Ладно уж, ладно тебе. И чего же ты хотел спросить?
– Как у нас насчет контакта с туземцами?
– Какой контакт, ежели их не сыщешь днем с огнем? Когда они не нужны – их тут как грязи, а как понадобились – ни слуху ни духу!
– Будто знают, что нужны нам.
– Да откуда ж им знать?
– Понятия не имею,– пожал плечами Уоррен,– Просто ощущение такое.
– А как ты заставишь их говорить, ежели найдешь? – поинтересовался Буян.
– Подкупом. Взятками. Предложу им все, что только пожелают.
– Не годится,– покачал головой кок.– Они ведь знают, что надо просто хорошенько выждать – и все придет к ним в руки само, так что и просить незачем. У меня есть способ получше.
– Твой способ тоже не годится.
– В общем, ты попусту теряешь время. Нет у них никакого лекарства. Это просто адеп… адап… адепт…
– Адаптация.
– Точно. Это самое слово вертелось у меня на языке.
Буян подхватил бутылку, взболтнул ее, большим пальцем примерил уровень содержимого, а затем единым духом вдруг опорожнил ее и стремительно встал.
– Ладно, надо сварганить чего-нибудь удобоваримого. А ты тут сиди и ворочай мозгами.
Прислушиваясь к его удаляющимся шагам, Уоррен продолжал спокойно сидеть на своем месте.
«Надежды, конечно, никакой,– думал он.– Мне следовало знать об этом с самого начала, но я все же отодвинул эту мысль на задворки сознания, загородил ее болтовней о чудесах и надеждами на хранящийся у туземцев ответ. А ведь легче рассчитывать на чудо, чем на мифическое лекарство или знания туземцев. Да откуда же этим малюткам с совиными глазами знать медицину, если они не имеют понятия даже об одежде, до сих пор пользуются грубо сработанными каменными ножами и с величайшими трудами разжигают огонь, высекая искры ударами камня о камень?
Мы все умрем, все двадцать пять человек, а вслед за тем в лагерь открыто, не таясь и не крадучись, явятся малорослые лупоглазые туземцы и обберут все до ниточки».
Первым занемог Коллинз. Умирал он тяжко, как и все жертвы специфического вируса планеты Ландро. А незадолго до его смерти слег Пибоди: его мучила предшествующая болезни разрывающая голову тупая боль. А потом болезнь начала косить людей направо и налево. Сперва они вскрикивали и стонали в бреду, потом затихали и лежали как мертвые, за много дней до настоящей смерти, а внутренний огонь пожирал их, будто выползший из здешних пустошей изголодавшийся хищник.
Помочь им было почти нечем – те, кто еще держался на ногах, ухаживали за больными, утешали их, купали, стирали и регулярно меняли постельное белье, кормили немощных бульоном, который Буян варил теперь в самых больших кастрюлях, да заботились о том, чтобы у больных всегда была под рукой свежая холодная вода, способная ненадолго остудить иссушенное жаром горло.
Первые могилы были глубокими, а холмики венчали деревянные кресты с аккуратно выписанными на перекладинах именами и прочими сведениями. Но рабочих рук становилось все меньше, да и у тех силы убывали, так что постепенно могилы превратились в неглубокие рытвины.
Для Уоррена действительность слилась в подобие нескончаемого кошмара. Дни тянулись жуткой вереницей; снова и снова одно и то же: забота о больных, рытье могил и запись в экспедиционный журнал имен умерших. Поспать удавалось лишь урывками – когда изредка выпадал свободный момент или когда от изнеможения все валилось из рук, а налившиеся свинцом веки смеживались сами собой. Время от времени Буян ставил перед ним еду, и тогда Уоррен торопливо заглатывал ее, не чувствуя вкуса и даже не интересуясь, что именно поглощает.
Время превратилось в какую-то химеру, счет дням был утрачен. На вопрос Уоррена, какое сегодня число, никто не мог дать ответа – впрочем, до этого никому не было дела. Солнце вставало и садилось, серые пустоши по-прежнему простирались до серого горизонта, и только ветер одиноко кружил над безлюдной равниной.
Но мало-помалу до сознания Уоррена начало смутно доходить, что рядом трудится все меньше и меньше здоровых; зато и число недужных тоже убывало. А в один прекрасный день он опомнился, сидя у себя в палатке и глядя в чье-то изможденное лицо, и понял, что дело идет к концу.
– Страшно это все, сэр,– сказал тот, изможденный.
– Да уж, мистер Варне,– отозвался Уоррен,– Сколько осталось у нас на руках?
– Трое,– отвечал капеллан,– но двое уже не жильцы. Однако этому юноше, Фолкнеру, вроде бы получше.
– Кто еще на ногах?
– Буян, сэр. Только вы, я да Буян.
– Почему мы не заразились, а, Барнс? Почему мы все еще здесь?
– Кто знает? У меня такое чувство, что и нас сия чаша не минует.
– Понимаю. У меня такое же ощущение.
Тут в палатку приковылял Буян с ведром в руках. Взгромоздив ведро на стол, он выловил оттуда жестяную кружку и, роняя маслянисто поблескивающие капли, протянул ее Уоррену.
– Что это? – удивился тот.
– Да вот, сготовил кой-чего,– изрек Буян.– Вам это полезно.
Уоррен поднес кружку к губам и опрокинул ее содержимое внутрь – горло обожгло жидким пламенем, обрушившимся прямиком в желудок, а оттуда ракетой взмывшим вверх, чтобы взорваться в мозгу россыпью искр.
– Картофельный,– пояснил Буян.– Из картошечки получается крепкое пойло. Ирландцы открыли это много-много лет назад.
Забрав кружку из рук Уоррена, он снова наполнил ее и протянул Барнсу, но капеллан заколебался.
– Да пей же, человече! – рявкнул Буян,– Это придаст вам сил.
Священник выпил, поперхнулся и поставил опустевшую кружку на стол.
– Они вернулись,– сообщил Буян.
– Кто? – не понял Уоррен.
– Дикари. Они тут со всех сторон. Только и ждут, когда мы испустим дух.
Пренебрежительно взглянув на кружку, он обеими руками поднес ведро к губам. От уголков его рта на подбородок потекли тоненькие ручейки, сбегая на рубашку и оставляя темные мокрые пятна.
Вернув ведро на стол, Буян утер рот волосатым кулаком и провозгласил:
– Уж могли бы хоть вести себя прилично! Держались бы уж в тени, пока все не кончится. Я тут засек одного старика, когда он выскользнул из палатки Фолкнера. Хотел словить, но этот седой козел меня обставил – прыткий больно.
– Из палатки Фолкнера?
– Точно. Человек еще не помер, а они уже вынюхивают. Будто не могут дождаться, пока его не станет. Но, по-моему, дикарь ничего не стянул. Фолкнер спал. Этот его даже не разбудил.
– Спал? Ты уверен?
– Точно, спал! Дышал спокойно. Пожалуй, возьму ружьишко и слегка поохочусь на них – просто так, наудачу. Они у меня узнают…
– Мистер Брэди,– переспросил Барнс,– вы уверены, что Фолкнер спокойно спал? А не был в коме и не умер?
– Да что я, живого человека от покойника не отличу? – огрызнулся Буян.
Джонс и Уэбстер скончались ночью. Буяна Уоррен отыскал поутру – тот скорчился возле холодной как лед плиты, а рядом валялось пустое ведро от самогона. Поначалу Уоррен думал, что кок просто пьян до бесчувствия, но потом разглядел симптомы болезни. Ухватив его под мышки, Уоррен дотащил Буяна до койки, с трудом взгромоздил на нее и отправился за капелланом.
Тот на кладбище работал лопатой, и руки его покраснели от стертых до крови мозолей.
– Тут неглубоко,– проговорил священник,– но тела скроет. Я сделал для них все, что мог.
– Буян слег,– сообщил Уоррен.
Слегка запыхавшийся от работы капеллан оперся на лопату.
– Странно все-таки. Странно даже подумать, что он мог заболеть– такой большой, такой громогласный… Он казался оплотом силы.
Уоррен взялся за черенок лопаты.
– Я закончу, если вы пока приготовите их. Я как-то не могу… Просто руки опускаются.
Капеллан вручил ему лопату и промолвил:
– И все же любопытное дело с этим юным Фолкнером.
– Вчера вы сказали, что ему чуть получше. Вам это не померещилось?
Капеллан покачал головой:
– Я заглядывал к нему – температура упала, он пришел в себя.
И они уставились друг на друга, стараясь скрыть проблеск надежды, вдруг засветившийся у обоих в глазах.
– Так по-вашему…
– Ничего подобного,– возразил Барнс.
Но состояние Фолкнера с каждым днем улучшалось, и через три дня он уже смог самостоятельно сесть, а через шесть – стоял бок о бок с двумя другими у свежей могилы, где только что схоронили Буяна.
Теперь их осталось трое – трое из двадцати шести.
Капеллан закрыл молитвенник и спрятал его в карман. Уоррен взялся за лопату, а двое других молча смотрели, как он неторопливо, методично и старательно закапывает могилу: торопиться уже некуда. Наконец он бросил на холмик последнюю горсть земли и аккуратными хлопками лопаты выровнял его.
А затем, все так же молча, трое живых рука об руку зашагали вниз по склону, к белым шатрам палаток.
Они хранили молчание, будто вдруг осознали священный смысл тишины, повисшей над равниной, над лагерем и над этими тремя – из двадцати шести – уцелевшими.
– Да нет во мне ничего особенного,– огрызнулся Фолкнер,– Я ничем не отличаюсь от остальных.
– А должно быть,– настаивал Уоррен.– Вы же побороли вирус. Он поразил вас, но вы вышли из этой переделки живым. Должно же быть этому какое-то объяснение!
– Но вы-то двое даже не заразились! – возразил Фолкнер – Этому тоже должно быть какое-то объяснение.
– А вот это еще неизвестно,– негромко заметил капеллан.
– Мы все перебрали,– Уоррен сердито зашелестел страницами заметок.– Вытащили на свет все, что вы сумели припомнить,– разве что вы утаили нечто такое, что нам следовало бы знать.
– Да зачем же мне что-то утаивать?
– Вот ваша детская медицинская карточка,– продолжал Уоррен.– Все как обычно: корь, небольшой коклюш, простуды… боязнь темноты. Питание обыкновенное, нормальное отношение к учебе и общественным обязанностям. Все как и у любого другого – и все-таки где-то там таится разгадка. В том, что вы делали…
– Или даже в том, что он думал,– подсказал Барнс.
– А? – не понял Уоррен.
– Те, кто мог бы нас просветить, находятся где-то на склонах этих пригорков,– растолковал Барнс,– Мы с вами, Уоррен, блуждаем на ощупь во тьме неведения. Медик, психолог – пусть даже экзобиолог или социолог – могли бы выудить отсюда нечто путное. Но все они мертвы. А мы с вами пытаемся проделать то, чему вовсе не обучены. Быть может, ответ у нас под самым носом, а мы его не видим.
– Да знаю я, знаю! Просто мы стараемся сделать все, что в наших силах.
– Я сказал вам все, что мог, – вмешался Фолкнер. Голос его звучал напряженно.– Все, что знаю. Я сказал вам такое, в чем при иных обстоятельствах нипочем бы не признался.
– Мы знаем, дружок,– ласково откликнулся Барнс,– Мы не сомневаемся в вашей искренности.
– Где-то,– стоял на своем Уоррен,– где-то в жизни Бенджамина Фолкнера кроется разгадка – разгадка, которая нужна всему человечеству. Что-то осталось незамеченным. Вы что-то упустили из памяти и не сообщили нам. А скорее всего, сказали, но мы не обратили внимания, не распознали ответ.
– Или,– подхватил Барнс,– это мог бы определить лишь специалист. Может, это лишь странное своеобразие его организма или мышления. Какая-нибудь крохотная мутация, о которой никто и не подозревает. Или даже… Уоррен, помните, мы говорили о чуде?
– Меня от этого уже мутит,– подал голос Фолкнер,– Вы целых три дня гоняете меня взад-вперед, прощупываете со всех сторон, задаете множество вопросов, разобрали по косточкам каждую мою мысль…
– Давайте-ка еще раз пройдем последний отрезок,– устало выговорил Уоррен,– Когда вы заблудились.
– Да мы проходили это уже сто раз!
– Ну еще разок. Всего лишь раз. Итак, вы стояли на тропе и тут услышали приближающиеся шаги.
– Да не шаги,– заметил Фолкнер,– Поначалу я не понял, что это шаги. Просто звуки.
– И они вас напугали?
– Напугали.
– Чем?
– Ну-у, темно, да еще заблудился и…
– Вы думали о туземцах?
– Ну да, время от времени.
– А может, чаще?
– Чаще,– согласился Фолкнер.– Наверное, все время думал. Пожалуй, с тех самых пор, как понял, что заблудился. В глубине души я постоянно о них помнил.
– Но в конце концов поняли, что это шаги?
– Нет. Не понял, пока не увидел туземца.
– Только одного?
– Только одного. Старика. Мех у него был совсем седой, а лицо пересекал шрам. В темноте шрам выглядел рваной белой полоской.
– Вы уверены насчет шрама?
– Да.
– И насчет возраста?
– Он выглядел старым. Весь седой, с головы до ног. Шел медленно, прихрамывая.
– И вы не испугались?
– Ну конечно испугался, но не так сильно, как ожидал.
– И убили бы его, если б могли?
– Нет. Убивать его я бы не стал.
– Даже ради спасения собственной жизни?
– Да, разумеется. Но я не думал об этом. Просто… ну, я просто не хотел с ним путаться, вот и все.
– Вы хорошо его разглядели?
– Хорошо, да. До него было не дальше, чем сейчас до вас.
– А вы бы узнали его, если б встретились снова?
– Я узнал его…– Смутившись, Фолкнер умолк на полуслове,– Минуточку… Погодите минуточку.
Он потер лоб ладонью, и вдруг глаза его расширились.
– Я видел его еще раз! Я узнал его. Тот самый.
– Почему же вы не…– вспылил Уоррен.
Но тут вмешался Барнс, подсказавший Фолкнеру:
– Итак, вы снова его видели. Когда?
– В палатке, когда лежал больной. Открыл глаза, а он прямо передо мной.
– Просто стоял на месте?
– Ну да, стоял и глазел на меня, будто хотел проглотить взглядом своих огромных желтых глазищ. А потом он… потом…
Двое других терпеливо ждали, пока он вспомнит.
– Я был болен,– продолжал Фолкнер.– Наверное, без памяти. То есть не в себе. Не уверен, но мне показалось, что старик протянул руки – скорее, даже лапы – он протянул лапы и коснулся моей головы с двух сторон, по бокам.
– Коснулся? По-настоящему, физически коснулся вас?
– Легонько. Очень ласково и только на мгновение. А потом я уснул.
– Мы опережаем события,– с беспокойством сказал Уоррен.– Вернемся к тропе. Вы увидели туземца…
– Да мы уже разбирали это,– с горечью проронил Фолкнер.
– Давайте попытаемся еще раз,– попросил Уоррен.– Вы говорите, что туземец прошел совсем близко от вас. То есть вы говорите, что он уступил вам дорогу и обошел кругом…
– Нет,– возразил Фолкнер,– вовсе я этого не говорил. Это я уступил ему дорогу.
В инструкции сказано, что достоинство нельзя ронять ни при каких обстоятельствах. Достоинство и престиж человечества превыше всего. Конечно, идет речь и о доброте, и о готовности помочь, и даже о братстве – но во главу угла всегда ставится чувство собственного достоинства.
И слишком часто оно подменяется самодовольным чванством.
Чувство собственного достоинства не позволит нам сойти с тропы, чтобы уступить дорогу – пусть уступают дорогу и идут стороной другие существа. А как следствие человеческое достоинство автоматически низводит всех остальных в позицию низших существ.
– Мистер Барнс,– заявил Уоррен,– дело в наложении рук.
Лежавший на койке человек перекатил голову по подушке, обратив к Уоррену бледное лицо, и посмотрел так, будто удивился его присутствию. Тонкие бескровные губы зашевелились, медленно и едва слышно выговаривая слова.
– Да, Уоррен, причина в возложении рук. Эти создания, подобно Иисусу, наделены неким неведомым человеку даром исцеления.
– Но это дар судьбы.
– Нет, Уоррен,– возразил капеллан,– не обязательно. Все может обстоять совершенно иначе: быть может, это вполне человеческий дар, приходящий с достижением интеллектуального или духовного совершенства.
– Не понимаю,– ссутулившись, признался Уоррен.– Просто не верится. Не могут эти лупоглазые твари…
Подняв глаза, он взглянул на капеллана. Лицо священника вспыхнуло нездоровым румянцем от внезапного приступа жара, дыхание его стало поверхностным и прерывистым, веки смежились. С виду он уже ничем не отличался от покойника.
В том отчете психолога третьей экспедиции говорится о чувстве собственного достоинства, строгом кодексе чести и довольно примитивном этикете. Разумеется, отчет соответствует истине.
Но человечество, сосредоточенное на собственном достоинстве и престиже, даже не допускает мысли, что чувство собственного достоинства присуще и другим. Человек готов быть добрым, если его доброту примут с соответствующей благодарностью. Он готов броситься на помощь, если эта помощь провозглашает его превосходство. Но здесь, на Ландро, никто даже не потрудился предложить туземцам хоть какую-то помощь, ни на мгновение не допустив, что эти недомерки с совиными глазами – не просто застрявшие в каменном веке дикари, что они не только соринка в глазу или кость в горле. Люди никогда не принимали туземцев всерьез, хоть порой это и представляло некоторую угрозу.
И не обращали на них внимания до того самого дня, когда перепуганный мальчишка сошел с тропы, чтобы уступить дорогу туземцу.
– Учтивость,– сказал Уоррен,– вот в чем разгадка. В учтивости и возложении рук.
Встав с табурета, он вышел из палатки и тут же повстречал вознамерившегося войти Фолкнера.
– Как он? – поинтересовался тот.
– Точь-в-точь как остальные,– качнул головой Уоррен.– Болезнь хоть и припозднилась к нему, но ничуть не умерила свою ярость.
– Значит, нас осталось двое,– констатировал Фолкнер.– Двое из двадцати шести.
– Не двое,– поправил его Уоррен,– а только один. Только вы.
– Но, сэр, вы совершенно…
Уоррен отрицательно покачал головой.
– У меня болит голова. Начинает прошибать испариной. Колени подгибаются.
– А может…
– Я слишком много раз видел такое,– перебил Уоррен,– чтобы поддаться самообольщению.
Он ухватился за клапан палатки, чтобы не горбиться, и закончил:
– У меня ни малейшего шанса. Я никому не уступил дорогу.