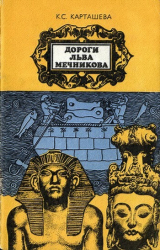
Текст книги "Дороги Льва Мечникова"
Автор книги: Клара Карташева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Карташева, Клара Сергеевна
Дороги Льва Мечникова
Введение
В закрытые ставни окон ломился порывистый ветер и слышались глубокие вздохи Женевского озера. За огромным письменным столом, накинув на плечи клетчатый плед, сидел пожилой мужчина и задумчиво, с паузами писал в толстой тетради. Настольная лампа под темно-зеленым абажуром освещала только круг стола, а во всей комнате царил полумрак. В жидких отблесках света, куда-то в темноту медленно плыли тяжелые облака табачного дыма. Мужчина писал, задумывался, снова писал, а через окна проникал к нему еле брезжущий свет утренней зари… Работал известный французский географ Элизе Реклю.
«Цивилизация и великие исторические реки. Географическая теория прогресса и социального развития» – так называлась монография, которую готовил к изданию Реклю. Однако работа принадлежала не ему, а его умершему другу Льву Мечникову. Незадолго до смерти Мечников передал Реклю некоторые исправления и дополнения к первоначальному наброску «Цивилизации», напечатанному в «Трудах» Невшательского Географического общества, с просьбой отредактировать и взять на себя заботу об издании всего труда. Реклю согласился, считая рукопись коллеги большой научной ценностью.
Делая добавления, где это было необходимо, Элизе понимал, что берет на себя большую ответственность. Он не раз задавал себе вопрос: «Если бы мой друг вернулся теперь, то был бы он доволен моей работой и согласился бы с моими редакторскими изменениями?» Реклю старался по возможности точно передать его мысли и боялся «чем-нибудь нарушить волю» Мечникова.
Благодаря своим путешествиям по Италии, Японии и Америке, благодаря своим обширным знаниям во многих областях науки и наконец благодаря своей необычайной работоспособности Мечников собрал и обработал огромное количество научных материалов, которые не успел использовать полностью из-за преждевременной смерти.
Закончив наконец подготовку текста книги к изданию, Реклю выполнил еще и самую волнующую для него часть работы – написал предисловие к «Цивилизации». Богатым материалом для него послужил удивительный жизненный путь Льва Ильича Мечникова.
Глава I
Годы учебы и годы скитаний
Гвардейский офицер Илья Иванович Мечников жил не по средствам и, чтобы спасти свое положение, переехал из Петербурга в Харьковскую губернию, в родовое имение Панасовку. Была и другая причина быстрого отъезда из северной столицы в южные степи. Слабое здоровье его старшего сына Льва требовало перемены климата. Панасовка пришлась мальчику по душе.
Мир начинался сразу за пустынным двором, за широко раскрытыми воротами, смотревшими на дорогу. Дорога вилась по степным буеракам, по серебристой полынной равнине, откуда тянуло терпкими запахами и грустью. Низкое небо и степь были почти одного цвета и сливались вдали в густом сероватом мареве. Миру не было ни конца, ни края, как этому небу и этой степи, а дорога уносилась за горизонт, далеко, далеко…
Дом с полукруглым балконом и тонкими колоннами был центром мира, потому что нигде в степи не было клумб, яблонь, пруда с утками, не было винокурни.
Но все около дома было изучено в первые же дни, по приезде из Петербурга, а мир за воротами оставался неизведанным.
Он не боялся далеко уходить от дома, и чем дальше уходил, тем дальше хотелось идти. Однажды мальчик пропал.
Это было после разговора с дядей Дмитрием, худым человеком, не выпускавшим черешневую трубку изо рта и умевшим вышивать на пяльцах.
Говорить дядя Дмитрий не любил, но когда однажды племянник спросил, почему дворовые зовут его Спадаренков барчук, а фамилия их Мечниковы, дядя молча выбил трубку, встал, взял его за плечи и повел в сад.
– Кто тебе это сказал? – спросил он.
Мальчик молчал. Ему казалось, что дядя сердится.
– Впрочем, это неважно, – начал дядя Дмитрий. – «Спада» по-румынски «меч». В старину Мечниковых звали Спадаренко или Спатаренко, потому что их предок Николай Милеску, живший двести лет назад, был молдавским боярином и носил титул «мечника» – «спатария», или «спафария». Милеску был большим человеком. Он служил у молдавского господаря Стефаниды и сам мечтал стать господарем. Как-то Спафарий послал одному воеводе выдолбленную палку и в ней письмо, в котором предлагал свергнуть господаря с престола. Воевода предал боярина, и господарь велел отрезать Николаю нос. По молдавским законам человек без носа не мог стать господарем. Спафарию Николаю Милеску удалось бежать из Молдавии в Россию. В 1674 году Спафарий в качестве русского посла выехал в Китай. Он знал восемь языков.
– А можно знать больше? – спросил мальчик.
– Можно.
– А господари в Молдавии есть сейчас?
– Есть, – ответил дядя.
На следующий день мальчик исчез. Его нашли на полтавской дороге, недалеко от Харькова, и с полицией возвратили домой. Мать, стараясь скрыть радость благополучного исхода, сердито спросила:
– Куда ты бежал?
– В Молдавию, – смотря в пол, тихо ответил беглец.
– Зачем?
– Я хотел стать господарем.
Мать села и беспомощно огляделась кругом. Дядя Дмитрий нахмурился и недовольно проговорил:
– У вас сейчас вид, дорогая Эмилия Львовна, какой был у ваших предков на реках Вавилонских. Оставьте его, виноват во всем я.
Потом, в гимназии Льва Мечникова несколько лет дразнили господарем. Он терпеливо сносил насмешки.
– Мой предок замечательный человек, – говорил Лева приятелям. – Подумать только, знал восемь языков и объехал полсвета. Я очень хочу побывать в Китае, пройти по путям Николая Милеску.
Учителя его не любили.
– Разбрасывается, – поправляя пенсне, говорил дяде Дмитрию директор гимназии. – Не без способностей, но растрачивает себя по пустякам.
Дядя Дмитрий приехал из Панасовки в Харьков специально для беседы с директором после того, как племянника задержали по дороге в Крым. Шла война. Лева и его товарищи решили тайком отправиться в армию защищать Севастополь. Ввиду патриотических мотивов их проступок решено было простить.
Окончив гимназию, Лев поступил на медицинский факультет Харьковского университета, но вскоре был исключен за участие в студенческих волнениях. Он переехал в Петербург.
Через некоторое время от него в Панасовку пришло письмо: «Я знаю, что вы будете бранить меня, и вот почему: начал я слушать лекции в военно-медицинской академии, на физико-математическом факультете университета и в академии художеств. Но сейчас, дорогие мои, не это главное. Я взялся за изучение персидского, турецкого и арабского языков и, честно говоря, сделал заметные успехи».
Дома на него махнули рукой.
Быть может, от своего предка, Николая Спафария, унаследовал Лев Мечников жажду странствий и способность к языкам. Через два года он, как знаток восточных языков, был приглашен на службу к дипломату Мансурову. В Панасовке заговорили, что из «бестолкового» выходит толк. Дядя Дмитрий, многозначительно улыбаясь, написал племяннику письмо, в котором пересказал ранее хранившийся от него в тайне разговор с директором гимназии, пророчившим Льву скверное будущее. «Никто не верил, а вот теперь убедились, что прав был я».
В Петербурге юноша согласился на предложение Мансурова, слышавшего о его успешных занятиях восточными языками. Бросив обе академии и университет, он поехал с миссией, направленной для организации сообщений русских черноморских портов с портами Леванта.
Он побывал в Константинополе, Афинах, жил в Палестине…
Вскоре отношения у Мечникова с Мансуровым стали портиться. Свободолюбивый характер юноши пришелся старому служаке не по душе. И от Мечникова при первой же возможности решили избавиться.
Надо сказать, что помимо своих прямых обязанностей, как главы русской торговой миссии, Мансуров хлопотал о приобретении для России места близ храма Гроба Господня. В Иерусалиме он истово молился и требовал от своих подчиненных особого благочестия.
– Вы вчера-с отлучались, Лев Ильич, – как-то заметил Мансуров. – А службу правил его святейшество патриарх иерусалимский. Напрасно манкировали, я бы не советовал впредь.
Мансуров и его клевреты стали преследовать переводчика замечаниями, наставлениями, «отеческими» словами. Однажды вспылив, Мечников дал пощечину секретарю миссии. В результате – дуэль и немедленная отставка.
Он очутился в Бейруте без денег и без знакомств. Письмо дяди лежало в кармане, но он не раскаивался в случившемся, хотя написать домой не смог…
Лев устроился торговым агентом в каботажном пароходстве, перевозившем грузы по левантийскому побережью и Черному морю. Его теперь хорошо знали в Бейрутском порту, арабы-грузчики ласково прозвали его «наш хромой москов» и смеялись над его произношением, когда он пытался говорить на местном наречии. Он был хром с детства, как Герман Вамбери, ученый и мечтатель, исходивший многие тысячи километров по древней земле Азии.
Мечников близко познал разноязыкий мир Леванта. Он стал своим человеком в Искандеруне, городе, торговавшем хной, которой красили в рыжий цвет ногти, бороды и подошвы. Ему приветливо кланялись на улицах Родоса, где над дверьми домов прибивались ржавые щиты и где камни древних дорог еще хранили тяжелый топот коней крестоносцев. У него была масса друзей в Измире, тонкие минареты которого вставали из-за моря навстречу кораблям задолго до того, как показывалась земля… И он много смотрел, слушал, рисовал…
В Галаце Лев Мечников бросил службу и оттуда перебрался в Венецию. «Теперь я определенно знаю, что я создан быть только художником. Никакие силы мира не заставят меня покинуть родину Тициана – этого истинного рая искусства» – так старался он убедить мать и всех родных.
В Венеции Мечников встретил много русских и среди них Ольгу Скарятину, замечательную женщину, увлекавшуюся передовыми идеями, большую почитательницу Герцена. Разойдясь во взглядах с мужем и разочаровавшись в личной жизни, Ольга с шестилетней дочкой покинула Россию и приехала в Италию. Впоследствии она стала женой Льва Мечникова.
Но недолго жил он с новыми друзьями. В ночь на 5 мая 1860 года Джузеппе Гарибальди захватил два парохода в Генуэзском порту, погрузил на них тысячу двести добровольцев и через несколько дней высадился на сицилийском берегу. 30 мая столица Сицилии Палермо открыла ворота героям, одетым в красные рубахи. Знаменитая тысяча Гарибальди начала свое победное шествие на Неаполь.
Сообщения из Сицилии всколыхнули не только Италию, о них заговорила вся Европа. К Гарибальди потянулись сотни волонтеров, и тогда Мечников задумал организовать «славянский легион». Австрийские жандармы в своих владениях тщетно пытались воспрепятствовать вербовке. Тех, кого подозревали в революционной пропаганде, бросали в тюрьму. В августе начальник венецианской полиции подписал ордер на арест русского подданного Льва Мечникова. Но жандармы, явившиеся на квартиру художника, никого не застали. Предупрежденный друзьями, Мечников бежал в Ливорно, а спустя несколько дней из замка Кастель-Пульчи, в пяти милях от Флоренции, под трехцветным знаменем итальянского освобождения, под дробный стук барабанов и крики «Вива Италия!» выступила бригада гарибальдийского полковника Никотера. Одной из рот ее командовал лейтенант Лев Мечников.
«Я нашел, что белоснежные мундиры австрийцев, – писал он из Флоренции, – мало гармонируют с теплым и нежным пейзажем венецианской лагуны. Так же, как черные сутаны попов портят чудесные зеленые поля Лациума. Вот почему я решил одеть красную рубаху гарибальдийского офицера».
Из Флоренции в Ливорно походным маршем шли по древним, еще римлянами мощенным дорогам. Из Ливорно до Палермо – пароходами. Несколько дней просидели в трюме без хлеба и воды. Переночевали в Палермо и затем снова в сторону Неаполя. Вестей от Гарибальди пока не было.
На пути корабль Никотера встретил шедший из Неаполя английский пароход. Когда суда сблизились, англичане подняли на мачте итальянский флаг. «Да здравствует Италия! – закричал капитан. – Бурбоны оставили Неаполь и в городе ждут Гарибальди». «Эввива Гарибальди!» – гремело отовсюду.
«Только сейчас я понял, друзья мои, – писал Мечников после этой встречи в Венеции, – что такое свобода и чего она стоит».
В первый же день по прибытии в Неаполь Мечников получил приказание состоять при главном штабе первой линии обороны и выехал на позиции в городок Санта-Мария.
– Вам здесь будет работа, – сказал ему генерал Мильбиц, командующий первой линией обороны. – Нам надо укрепиться, а офицеров, знакомых с этим делом, нет.
– Но я, генерал, совсем не знаток полевой фортификации, – ответил Мечников.
Мильбиц растерянно посмотрел на него сквозь очки.
– Черт побери! А мне говорили, что вы на все руки мастер. Что же делать? Впрочем… ничего особенного в фортификации нет. Надо иметь здравый смысл и немного знаний. Кто вы, собственно говоря?
– Я немного медик, немного математик, немного художник.
– Отлично! Вполне достаточно, чтобы стать и военным инженером!
По дороге в Капую, недалеко от Санта-Марии, стояла полуобвалившаяся арка. В двухстах шагах от арки, вправо, находились развалины римского амфитеатра, а еще дальше и еще правее – железнодорожная станция. Всю линию от арки до станции надо было сделать пригодной для обороны, и Мечников сделал ее с помощью горцев из Абруццо, и патриотически настроенных горожан. А когда фортификационные работы закончились, укрепленная батарея неплохо отвечала на картечь бурбонцев.
Впоследствии, давая оценку сражению при Вольтурно, Гарибальди писал: «С нашей стороны были воздвигнуты у Маддалони на Санто-Анджело и особенно у Санта-Марии несколько укреплений, которые нам очень пригодились».
Разными путями приходили к Гарибальди люди в красных рубахах. Тут были и итальянцы всех провинций, от Ломбардии до Сицилии, и испанцы, и французские зуавы, и венгры в узких штанах с золотым шитьем, и офицеры англо-индийской армии, среди которых Мечников заметил бородатого священника с пышной шевелюрой седых волос. Под расстегнутой сутаной его виднелась красная рубаха, а во рту часто дымилась сигара. Вечерами, в часы затишья, священник позволял себе выпить лишний стакан горячего пунша. Табачного цвета лицо его наливалось кровью, и зычный бас заглушал все голоса:
– Дурак будет тот, кто захочет судить об итальянцах по его святейшеству папе. Я поп, но я гарибальдиец. – И привычным жестом ухватывая в кулак ворот своей красной рубахи, в заключение гремел: – Я плюю на папу!
Набожные калабрийцы быстро крестились.
Несмотря на большую общительность, здесь каждый старался держаться поближе к своим – слишком разноязыкой была армия. Трудность объяснений друг с другом служила поводом для бесконечных шуток и взрывов хохота. Но русский здесь был только один – лейтенант Лев Мечников, и, ко всеобщему удивлению, он понимал каждого и каждого переводил.
В сражении при Вальтурно, у той траншеи, которая была сооружена между триумфальной аркой и амфитеатром, Мечникова тяжело ранило. Бурбонцы своих не жалели и вводили в бой все новые и новые части. Войска Мильбица отбили уже три атаки, а в четвертую пошли сами. Мечников вскочил в седло, и в тот момент, когда он дал шпоры лошади и вынул саблю, что-то черное выросло перед глазами, обожгло грудь, и он потерял сознание…
Где-то внизу под ним скрипели колеса. Рядом монотонно, не затихая ни на минуту, стонали, слышались отдаленные выстрелы, и над головой мерно покачивалась темная крыша фургона. Голова страшно кружилась, правая сторона тела отказывалась служить. С большим трудом его перевезли в Неаполь и поместили в госпиталь. У Мечникова были тяжело повреждены ноги и легкие.
Через несколько дней, когда к нему понемногу стали возвращаться силы, в палату впустили гостя необычного вида.
– Где здесь гарибальдийский офицер, которого сожгли бурбонцы? – раздался над ухом зычный голос.
Мечников вздрогнул и открыл глаза. Перед ним стоял высокий человек в кавказской бурке и в черной папахе. Настоящий черкес! И где? В Неаполе!
Пока Мечников соображал, в чем дело, «черкес» быстро заговорил на ломаном французском языке:
– Меня зовут Василием, меня прислал к вам мусье Дума. Он крепко сожалеет, что с вами сделали.
Мечников понял, что речь идет об Александре Дюма, известном писателе, который в свое время побывал в России и, вероятно, вывез оттуда этого «черкеса».
Кто-то рассказал Дюма, что в неаполитанском госпитале лежит раненый офицер, не то поляк, не то венгр, и указал на Мечникова. Автор «Трех мушкетеров» придумал драматическую историю этого раненого, посвятил в нее своего слугу и затем принял горячее участие в его выздоровлении.
– А еще мусье Дума велел сказать, что он будет вам обеды присылать и если вам здесь плохо, то он предлагает вам к нему перебраться во дворец. Там будут вас лечить и ухаживать за вами.
Мечников, преодолевая боль, приподнялся на постели.
– Слушай, приятель, – сказал он по-русски, – передай господину Дюма, что я очень благодарен ему. Никто меня не жег, мне неплохо, и обеды присылать не надо. Я сам приду к нему на обед, как только поправлюсь.
– Так вы русский? – обрадованно спросил Василий, снимая папаху.
Василий в госпиталь приходил каждый день и заботливо ухаживал за Мечниковым. И как только Дюма узнал, что русский офицер уже в состоянии свободно разговаривать, стал приходить к нему сам.
Глава II
Мечников – журналист.
Первые шаги в географии.
К берегам Японии
В редакции неаполитанского журнала «Независимый» часто можно было видеть гарибальдийцев. Обычно они собирались в саду около дома, где в павильончике за рабочим столом сидел хозяин журнала Александр Дюма. Не обращая внимания на разговаривающих вокруг него людей, он сосредоточенно писал, низко склонив над бумагами огромную голову с жесткой черной шевелюрой. Он старался собрать и объединить вокруг себя прогрессивно мыслящих людей Неаполя. Сотрудничал в его журнале и Лев Мечников.
После выздоровления Мечников стал хромать еще больше, но это не мешало ему бродить по Неаполю с неизменным альбомчиком в руках в поисках подходящего материала для «Независимого». Он заходил в самые глухие места, присаживался где-нибудь на камне, наблюдал и рисовал. Под плащом не видно было красной рубахи, а за иностранца его никто не принимал. Он был свой, и на него не обращали внимания.
Чем глуше улица, тем она пестрее и своеобразнее. Если расставить руки, можно кончиками пальцев достать стены двух противоположных домов. Балконы почти закрывали яркую голубую полосу неба между крышами. И все-таки в Неаполе слишком много солнца, чтобы в этом ущелье было темно, в нем слишком много улыбок, чтобы угнетала его фантастическая нищета, слишком много большой человеческой любви, чтобы ее могли спугнуть толпы монахов в белых, коричневых и черных сутанах. Так Мечников писал о бесстрашных и веселых людях неаполитанских трущоб. Статьи иллюстрировались его же собственными рисунками.
Впрочем, Мечников в своей деятельности не ограничился сотрудничеством в «Независимом». С начала 1862 года он стал издавать свою газету под названием «Бич». В его газете жестоко доставалось и податливым либералам, и королевским чиновникам, а иногда и самому королевскому правительству. В результате… «у меня отобрали редакцию, и для личной безопасности я должен уехать из Италии, где не могу жить не действуя» – так писал Мечников из Женевы 12 июля 1862 года в письме к Н. Г. Чернышевскому.
В это время начинается его постоянное сотрудничество в русских журналах. В «Современнике» Чернышевского и в «Русском слове» Мечников поместил ряд статей об итальянской литературе, а также несколько повестей и рассказов. Он печатался в журналах «Дело», «Русский вестник», «Библиотека для чтения», позднее в «Отечественных записках», в «Русском богатстве», в «Историческом вестнике» и других журналах. Ему, человеку, на которого в III отделении давно завели дело, невозможно было подписываться своим именем. Приходилось прибегать к псевдонимам: Гарибальдиец, Леон Бранди, Эмиль Денерги, Леон Гоганда.
С 1863 года Мечников начал печататься в журнале «Колокол». Герцен поместил его письмо «Точка поворота» о польском восстании. Незадолго перед тем Мечников выступил на митинге во Флоренции, созванном по поводу восстания. Он произнес там речь, которую Герцен назвал «первым словом проснувшейся русской совести».
Когда в Польше вспыхнуло восстание, Бакунин был одним из организаторов снаряжения экспедиции из Средиземного в Балтийское море для поддержки восставших. Однажды ночью, по рекомендации Бакунина, к Мечникову явился поляк – граф Сбышевский и от лица польских эмигрантов попросил Льва Ильича съездить на остров Капреру к Гарибальди и уговорить его командировать опытных боевых моряков для этой экспедиции, а также устроить склад оружия на Капрере. Однако слишком много людей узнали об этом предприятии раньше времени. В Кадисе испанцы задержали пароход, шедший к Гибралтару под красно-белым флагом, и не выпустили его до конца восстания.
Знакомство Мечникова с Герценом произошло в том же году во Флоренции. Герцен специально приехал в Италию, чтобы через посредство Мечникова наладить пересылку революционных изданий в Россию. В ноябре Мечников предпринял поездку в Ливорно, а в марте 1864 года Бакунин писал Герцену: «Тебе, Герцен, давно известно, что удалось сделать Мечникову: верная и даже безденежная доставка всего из Ливорно в Константинополь и даже в самою Одессу».
В 1864 году Мечников с семьей переселился в Женеву, где находилась колония русской эмигрантской молодежи. В конце этого же года состоялось первое заседание женевского съезда русских эмигрантов, названное Герценом «Посполитая беседа». Участниками съезда были А. И. Герцен и его сын Александр, Н. И. Утин, Н. И. Жуковский, Л. И. Мечников, А. А. Серно-Соловьевич, Л. В. Шелгунов, В. О. Ковалевский и другие революционеры. На заседании обсуждался вопрос о возможностях и формах объединения сил «молодой» и «старой» эмиграции, однако по ряду причин объединение не произошло. В этот период окончательно формируются общественные взгляды Мечникова. Он знакомится со многими деятелями Международного Товарищества Рабочих – I Интернационала – и принимает участие в его работе. Примкнув к бакунинскому крылу, Мечников становится анархистом. В 1866 году в журнале «Колокол» появляются его статьи: «Весть о Прудоне» и «Прудонова новая теория собственности», в которой Мечников называет французского экономиста, одного из основоположников анархизма, своим учителем. Анархистский идеал Прудона оказал на Льва Ильича большое влияние, хотя при этом он резко критиковал философа за его враждебное отношение к польскому восстанию и за его борьбу против эмансипации женщин. В 1868 году в Женеве начал издаваться журнал «Современность», редакторами которого были Л. И. Мечников и Н. Я. Николадзе. В программе журнала ставилась задача пробудить у читателя интерес «к ходу общественных дел». Как и многие другие эмигрантские журналы, «Современность» вскоре прекратил существование. Мечников продолжал участвовать в деятельности русской революционной эмиграции, являясь заграничным агентом «Земли и воли». С большой страстностью ведя борьбу с социал-дарвинизмом и расизмом, Мечников раскрывал их антисоциальную сущность, их стремление доказать вечность капитализма, естественность войн и колониального порабощения.
Через некоторое время Мечников горячо взялся за новое ответственное дело. С официальным удостоверением корреспондента «С.-Петербургских ведомостей» он поехал в Мадрид, когда в 1869 году там началась революция. Но Мечников ехал в Испанию не только с явным заданием петербургской газеты, но и с тайным поручением своих женевских друзей наладить связь испанских революционеров с русскими.
Еще во время службы в миссии Мансурова и в пароходном агентстве Мечников много путешествовал по странам Африки и Ближнего Востока, а в связи с революционной деятельностью объездил Италию и побывал в Испании. Все это способствовало зарождению у Мечникова интереса к географической науке, которая постепенно становится его основной научной специальностью.
Сначала это были обстоятельные описания путешествий по глухим провинциям Италии. Так, он написал «Письма о тосканской маремме», болотистой низменности, тянущейся вдоль берегов Средиземного моря от устья Арно до границ Лациума. «Мареммы эти для Тосканы отчасти то же, что для нас Сибирь, – писал Мечников, – непочатая страна, богатая всякого рода ресурсами, манящая к себе всякого рода спекулянтов, предоставляя им возможность скоро разжиться, и бедных поселян, предоставляя им столь близкую для них перспективу безбедной жизни».
Он с большой симпатией описывал маремманов, этих поджарых бронзоволицых людей, спокойных и отважных. Чем-то русским повеяло на Мечникова от маленького городка Масса-Мариттима с деревянными, выкрашенными в голубую, зеленую, светло-кирпичную краску домами, с резными ставнями у окон. На городской площади вместо традиционного фонтана с дельфинами – колодец с деревянным срубом, возле домов – садики за досчатыми заборчиками, а массетаны были голубоглазые, русоволосые.
А вот Вольтерра словно подчеркивала мрачными приземистыми воротами с изображением двуликого Януса свое древнее этрусское происхождение. Город жил на древностях и жил древностями. К числу его достопримечательностей можно было отнести невероятное обилие монахов всех орденов и отставных солдат со всевозможными орденами.
Край заброшенный и, казалось, забытый. От Масса-Мариттимы до Вольтерры, от Вольтерры до Монтекатини и Гроссето шагал Мечников с сучковатым посохом, единственным своим спутником. Он обошел и холмистую вольтерранскую маремму, и болотистую массетанскую, и гроссетанскую, славную тучными пастбищами. Его очерки, живые, остроумные, лиричные, – блестящее сочетание талантливой публицистики и строгой науки. Его описания гарибальдийских походов и революционной Испании были написаны в виде путевых записок. Особый интерес к географии у Льва Ильича Мечникова проявился к концу 60-х годов. В сотрудничестве с Н. А. Шевелевым и Н. П. Огаревым он издает в Женеве работу «Землеописание для народа», в которой приводятся краткие сведения по географии и статистика разных стран.
Прошло еще несколько лет.
«В начале семидесятых годов русскому скитальцу без определенных занятий жить в Европе становилось тяжело. На каждом шагу приходилось убеждаться, что надежды на исполнение заветных своих помыслов следует отложить в долгий ящик; а если некоторые из них и начинали сбываться порою, то с какой-то постороннею примесью, от которой веяло чужим, безотрадным и холодным» – так завуалированно писал Лев Мечников в одной из русских газет в 1883 году.
Гарибальдийские походы, польское восстание, испанская революция – вот великолепный список дел славного десятилетия. Но Гарибальди в почетной ссылке, в Варшаве недавно отгремели последние залпы расстрелов, а тех, кто уцелел, послали умирать в Сибирь.
Но «республиканец, красный, опасный человек…», как охарактеризовал Льва Ильича Мечникова русский посол в Италии[1]1
Архив внешней политики России за 1860 год.
[Закрыть], не мог вернуться в Россию. И мысли невольно обратились от затяжного ненастья Европы к Дальнему Востоку. В начале 1874 года Мечников решил поехать в Японию.
Однако сделать это было трудно по многим причинам. Прежде всего – совершенно не было денег на поездку. «Я с ужасом смотрю на растущую нищету Мечниковых», – писал Герцен в одном из писем того периода. Деньги получались случайно, если в каком-нибудь русском журнале публиковалась очередная статья об Италии, Испании или о французской литературе.
– Вопрос, как попасть в Японию без гроша в кармане, представляется мне более загадочным, чем сама Япония, – шутил Мечников.
Был еще один очень существенный вопрос: надо изучить Японию в том объеме, в котором это представлялось возможным в Европе, и, главное, освоить ее язык.
На европейских языках литература о Японии была крайне скудна. В отношении языка дело обстояло еще хуже. Только в Парижском университете существовала кафедра японского языка. Мечников поехал в Париж. Профессор Леон де Рони, читавший этот курс, внимательно разглядывал невысокого, похожего на провинциального учителя, человека в поношенном костюме, с всклокоченной бородой, с большими залысинами на лбу и утомленными глазами. Профессор не без иронии разъяснил Мечникову возможность изучения экзотического языка:
– Прослушав четырехлетний курс, вы едва будете изъясняться по-японски с грехом пополам и разбирать японские книги с грехом на три четверти.
Но узнав, что русский журналист, так отрекомендовал себя Мечников, владеет десятью европейскими языками и тремя азиатскими, профессор де Рони любезно предложил ему рекомендательное письмо к одному японскому князю, который путешествовал по Европе с целью изучения европейской культуры и французского языка.
– Возможно, вы ему понравитесь и он возьмет вас в учителя, и сам в свою очередь обучит вас разговорной японской речи.
Когда Мечников явился в женевский отель, указанный ему де Рони, оказалось, что японский князь уехал в Ниццу, но в его номере живет другой японец. Этот вовсе не понимал по-французски, но Мечников сумел добиться от него согласия на взаимное франко-японское обучение.
Успехи Мечникова были таковы, что уже через несколько месяцев он смог довольно свободно объясняться с членами японского посольства, прибывшего в Европу. В свою очередь японцам так понравился толковый европеец, что глава посольства официально предложил Мечникову поехать в Японию и организовать в столице общеобразовательную школу для самураев Сацумского княжества. Дело, таким образом, устроилось как нельзя лучше, и спустя два месяца Мечников на французском пароходе «Волга» подплывал к берегам Японии.
Страна, долгие годы жившая изолированной от остального мира жизнью, теперь широко открыла свои двери для иностранцев. На французской «Волге» вместе с Мечниковым плыл голландский коммерсант, прежде бывавший в Японии и наживший мелкими спекуляциями большое состояние, французский вахмистр, приглашенный в японскую армию инструктором, и много подобного рода «дельцов». Плыли и несколько иных японцев, учившихся в европейских университетах и мечтавших насадить цивилизацию в родной стране.
В хорошую погоду от Марселя до Иокогамы плыть сорок пять дней. «Но нам решительно не везло, – вспоминал Мечников. – Несмотря на благоприятное время, непогоды задержали нас в Средиземном море и в Индийском океане между Аденом и Цейлоном, а при выходе из пролива Формозы к японским берегам пришлось нам выдержать четырехдневную бурю»[2]2
Цитаты, относящиеся к Японии, взяты из двух работ Л. И. Мечникова: «Мейдзи. Эра просвещения Японии» и «Воспоминания о двухлетней службе в Японии».
[Закрыть].
Непомерно широкий, неуклюжий корабль легко взлетал на огромные свинцовые волны и скатывался оттуда «на дно черного, как ночь, котла, наполненного густыми грязно-белесоватыми парами». Вокруг нельзя было ничего различить – одна мутная мгла, дышащая пронизывающим холодом. «Негостеприимны Японские берега и своим вечным, волнением и полумраком». «Простая случайная особенность природы, – отмечал Мечников, – зачастую оказывала чисто местное, неожиданное, но тем не менее весьма решительное влияние на судьбы обитателей данной страны. Японцы, например, обязаны своей национальной особенностью и целостностью морскому течению Куро-Сиво и подводным камням, делающим доступы к берегам Японских островов весьма опасными».








