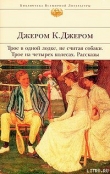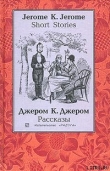Текст книги "Книжка праздных мыслей праздного человека"
Автор книги: Клапка Джером Джером
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
И действительно, простосердечные, терпеливые и трудолюбивые ласточки тут же принялись за устройство себе нового гнездышка.
Однажды я в течение целых двух недель имел удовольствие наблюдать, как чета ласточек устраивала себе под моим окном гнездышко. Я по целым часам любовался веселой и дружной возней трудолюбивых птичек и с удовольствием слушал их щебетанье, так успокоительно действующее на утомленную житейской бестолочью душу.
Но вот мне пришлось на несколько дней уехать по делам в Лондон. Когда я вернулся, ласточек уже не было, и в их гнездышке сидели воробьи. Я чуть не расплакался от жалости к моим милым друзьям и с досады на их наглых насильников.
Стою, смотрю и придумываю, как бы прогнать этих нахальных обидчиков и вернуть законных владельцев гнездышка, которые были для меня гораздо приятнее. А воробьиха победоносно смотрит на меня из захваченного ею чужого гнезда, насмешливо кивает мне головой и точно говорит:
– Что, недурно мы тут устроились? Гнездышко хоть куда. Лучше и желать не надо.
В это время ее супруг прилетает домой с голубым пером в зубах, которым он, видимо, очень гордится. Я тотчас же узнал это перо: оно было из той метелочки, составленной из разноцветных перьев, которою горничные имеют обыкновение разбивать наши фарфоровые безделушки, делая вид, что обметают с них пыль. В другое время я был бы очень рад, если бы воробей овладел хоть всей метелкою с ее деревянной ручкой включительно, но в этот момент вид моего пера в клюве воробья был лишним оскорблением моих лучших чувств. Воробьиха тоже была вне себя от радости и гордости, когда муж положил к ее ногам свою находку. Такого прекрасного и редкого украшения, наверное, не было ни в одном воробьином жилище. Воробьиха, по-видимому, была дама со вкусом и умела ценить такие изящные вещицы.
Пока воробьиная чета в радостном возбуждении обменивалась своими впечатлениями относительно красивой находки, я думал про себя: «Хоть мир и трещит по всем швам от безнаказанно совершаемых в нем несправедливостей, но этунесправедливость я ни за что не оставлю неотомщенной. Надо только будет достать достаточно длинную лестницу».
Такая лестница нашлась. Господа воробьи были в отсутствии, когда я явился к ним с визитом: по всей вероятности, они, разлакомившись находкой голубого пера, отправились на поиски новых украшений в этом роде. Я влез по лестнице и разнес все гнездо на мелкие части, которые под моими руками разлетелись во все стороны и попадали на землю в виде пыли и соломы. Голубое перо унеслось куда-то на задний двор.
Только что я успел сойти с лестницы и убрать ее, как вернулась госпожа воробьиха. Она несла комочек темно-красной ваты, которая, по мнению этой госпожи, должна была произвести вместе с нежно голубым пером особенный эффект. Увидев вместо своего жилища пустое место, она так растерялась, что выронила из клюва вату и беспомощно опустилась в водосточную трубу. Минутку спустя возвратился и господин воробей с обрывком ярко-желтой прозрачной бумаги, из какой делают цветы и ламповые абажуры.
– Ты чего тут расселась? – спросил он жену, прыгая по крыше, через которую перелетел.
– Ах! – плаксиво пищит жена, взволнованно хлопая крыльями. – Я улетала только на минутку, чтобы поднять одну хорошенькую вещичку, которую выбросили из окна, и вдруг…
– Ну, расскажешь дома. Нечего тут жариться на таком пекле, – нетерпеливо перебивает супруг. – Пойдем…
– Да дай же досказать! – сердито восклицает супруга. – Куда же мы пойдем? Ведь от нашего дома и следа не осталось…
– Как следа не осталось?
В полном недоумении господин воробей смотрит в ту сторону, где находилось гнездо, нахохливается и, обернувшись к жене, гневно кричит:
– Да что же это такое?! Неужели я не могу ни на минутку отлучиться по делам, чтобы ты не набедокурила чего-нибудь? Чистое наказание с такой женой!.. Что ты сделала без меня?
– Говорю тебе, я только летала за…
– А наплевать, куда ты летала! Ты толком скажи, куда делся наш дом?
Желтая бумажка давно уже была унесена ветром вслед за голубым пером и красной ватой. Но огорошенные супруги и думать перестали об этих пустяках: они были хороши только как украшение, жилища же заменить не могли.
Долго просидели господа воробьи в водосточной трубе. Увидев, что дело серьезное и жена действительно не виновата, супруг подсел к своей подруге, и они оба в полном согласии принялись обсуждать создавшееся критическое положение. По движению их хвостов и крылышек и по тону голосов заметно было, как они взволнованы. Наверное, они, между прочим, советовались о том, как бы овладеть другим гнездом, прогнав оттуда ласточек, но, очевидно, решили оставить этот план: ласточки уже успели обзавестись деточками и ради интересов своего потомства способны сделаться очень воинственными, так что с ними теперь лучше и не связываться.
– Не будь моей тучности, я бы сейчас же приступил к собственной стройке, – после некоторого раздумья заметил господин воробей.
– А может быть, тебе от работы стало бы легче, – подхватила жена. – Я слышала от других, что очень полезно…
– Мало ли кто какие глупости говорит! – поспешил возразить муж. – Всех и слушать?
– Конечно, лучше сидеть так вот, как мы сидим сейчас, и ждать, что кто-нибудь выстроит нам гнездо, – иронизировала жена. – Хорошего мне судьба послала муженька, нечего сказать! Готов оставить жену без крова. Умирай от жары или захлебывайся тут в воде, когда пойдет дождь… У-у-у, противный, глаза мои не глядели бы на тебя!
– Эх, ты, семейная жизнь! – вздыхает супруг, глядя вслед упорхнувшей в гневе супруге.
Ничего, они помирятся и к ночи найдут себе новый приют в каком-нибудь покинутом прошлогоднем гнезде.
VII Должны ли авторы писать как можно короче?
Недавно я увидел на стене газетного киоска объявление, что в такой-то газете ежедневно идет рассказ одного знаменитого писателя. Тут же я спросил последний номер этой газеты и, взглянув на фельетон, был очень разочарован, когда увидел, что в этом номере находится продолжение, а начало было уже неделю тому назад. Однако разочарование мое длилось недолго: умница-редактор догадался дать в выноске краткое изложение содержания первых шести глав, так что я без лишнего труда узнал все, что было нужно для уразумения имевшегося у меня в руках продолжения. Тогда этот прием был еще новостью, а теперь он практикуется почти во всех газетах.
«Автор, – говорилось в выноске, – вводит нас в блестящую гостиную леди Мэри ее роскошного особняка на Парк-стрит. У нее собралось избранное общество. Ведутся живые и остроумные речи…»
Я знаю эти «живые и остроумные речи». Если бы мне не посчастливилось напасть сразу на седьмую главу фельетона, то пришлось пережевывать эти речи с самого начала, чтобы добраться до дальнейшего. Теперь же от этого избавился, а сутьрассказа мне любезно сообщена заботливым и предусмотрительным редактором, так что я ничего не потерял, напротив, выиграл время и избежал лишней скуки. Не сомневаюсь, что в тех речах я мог найти кое-что новое, то есть сказанное, быть может, по-новому, но едва ли новое по смыслу.
Одна моя беловолосая знакомая никогда ничему не удивляется, что бы ни случилось, и всегда говорит:
– Это уже бывало… Вот, например, хотя бы этот случай, о котором так много пишется в газетах в эти дни, – тоже не новость. Точь-в-точь такой же случай произошел с год тому назад, только не в Лондоне, а в Брайтоне, да имена были другие.
Да, мы не переживаем новых историй, поэтому и не можем написать их. Случилось нечто в Брайтоне, а мы через год оповестим, что это случилось в Лондоне. Если в первом случае имя героя было, положим, Робинсон, то мы переделаем его в Джонса и выйдет нечто новое и даже оригинальное для тех, кто не читал брайтонской истории с Робинсоном.
«Ведутся живые и остроумные речи», – объясняет мне редактор в своем примечании. Спасибо ему, мне этого вполне довольно. Обыкновенно в наши дни на сцену, представляемую страницами книги или столбцами газет, выводится герцогиня, которая говорит вольные вещи. Вначале эта герцогиня сильно меня смущала, но с течением времени я пригляделся к ней и попривык к ее вольностям. Я знаю теперь, что в тот момент, когда она попадет в тиски безжалостной судьбы, все ее вольности улетучатся как дым, и на их место выступят самые серьезные чувства, мысли и рассуждения. Очевидно, когда она услышит или прочтет какую-нибудь мудрую сентенцию, то записывает ее и потом соображает, на сколько ладов можно вывернуть эту сентенцию наизнанку. С первого взгляда это может показаться делом, требующим большого ума, а в действительности – очень простая штука. Возьмем, например, следующее мудрое изречение: « Будь добродетелен, и ты будешь счастлив». Сначала герцогиня формулирует это изречение так: « Будь добродетелен, и ты будешь несчастлив». «Нет, – говорит она самой себе, перечитав написанное, – это слишком уж просто. Не лучше ли сказать так: « Будь добродетелен, и если не ты сам, то будет счастлив твой друг»? Это, пожалуй, и лучше, но недостаточно пикантно. Не попробовать ли так: « Будь счастлив, и люди будут думать, что ты добродетелен»? Вот теперь вполне хорошо. Выскажу это на завтрашнем пикнике».
Нужно отдать справедливость этой леди: она не боится труда, и будь она немножко посведущее в житейских делах, пожалуй, могла бы и пользу приносить.
Не обходятся избранные общества и без старого лорда, который рассказывает различные анекдоты, до такой степени неприличные, что можно только удивляться, как его принимают в избранном обществе. Кроме того, там присутствуют очень вульгарная девица и пастор, который отводит ее в сторону и говорит ей сдобренную выхваченными у чужих авторов эпиграммами высокопарную ерунду, от которой вянут уши.
Вообще эти пресловутые «живые и остроумные» речи бывают всегда составлены из смеси лорда Честерфилда с Оливером Венделем Холмсом, Гейне с Вольтером, пресловутой мадам Сталь с многооплакиваемым лордом Байроном, а не из чего-либо другого, нового, оригинального.
Дальше в помянутой редакторской заметке говорится:
«У леди Мэри в первый раз знакомится с лондонским обществом молодая американка, мисс Урсула Уорт, девушка в полном смысле слове выдающаяся».
Вот образчик сокращения труда автора до минимума: девушка молодая и выдающаяся. Последнее определение подчеркнуто, и этим все сказано, так что слово «молодая», пожалуй, даже лишнее: девушки-героини повестей обыкновенно предполагаются молодыми. Положим, автору могло взбрести на ум изобразить для разнообразия и старую деву, и редактор поступил очень умно, не пожалев в своем пояснении лишнего слова во избежание недоразумений.
Девушка эта – американка. Английская беллетристика знает только однумолодую американскую девушку, и столько уже раз изображала нам ее, что мы наизусть заучили все ее «оригинальные» речи и ошеломляюще смелые действия. Она всегда одета в свободное платье из мягкой, ложащейся красивыми складками ткани, по крайней мере, когда сидит одна у себя перед камином и предается сладким мечтам.
Автор представляет ее нам как «в полном смысле слова выдающуюся». Для нас этого вполне достаточно. Больших подробностей и не требуется. И если бы сам автор дал подробности о внешнем и внутреннем облике своей героини, то сделал бы это напрасно.
В прежнее время писатель во всю жизнь писал не более полудюжины повестей, так что ему достаточно было шести типов, чтобы его героини не походили одна на другую, и он мог рисовать их во весь рост, со всеми мельчайшими особенностями. Нынче же, когда каждому мало-мальски выдающемуся писателю приходится стряпать столько же в один год, у него уже нет времени останавливаться на мелочах и он поневоле должен ограничиваться одними набросками своих фигур. Да к тому же нынче женщины стали так походить одна на другую, что трудно и разнообразить описание их.
Десятка два-три лет тому назад писали так:
«Вообразите себе, любезный читатель, прелестную, обольстительную молодую девушку ростом пять футов и три дюйма. Ее золотистые волосы были того особенного оттенка…»
Тут следует указание, как дознаться на опыте этого оттенка. Читателю предлагается налить известного сорта вина в известного цвета стакан и рассматривать его при известного рода освещении или встать в пять часов мартовского утра и пойти в лес, чтобы получить ясное понятие о цвете волос героини. Если же читатель – человек ленивый или небрежный, то он поверит автору и так, не давая себе труда проверить его. Поэтому, полагаю, большинство читателей и верит писателю на слово.
Глаза героини всегда были глубоки и ясны. Глубокими им необходимо было быть, чтобы мы могли запрятать в них все, что нам некуда больше девать: солнечное сияние и тень, горести и радости, неожиданные возможности, небывалые движения, страстные стремления и порывы и мало ли что еще!
Ее нос можете сами изобразить себе, приняв во внимание уже указанные данные.
Лоб всегда низок и широк… Не понимаю, почему прежние писатели постоянно давали своим героиням низкиелбы? Быть может, потому, что до сих пор умные героини не были в спросе? Впрочем, позволительно сомневаться, в большом ли спросе они и теперь. Мне кажется, женщина-куколка долго еще будет идеалом мужчины да и самой себя.
Подбородок почти всегда пикантно заостренный и с намеком на ямочку посередине.
Цвет лица постоянно придавался героиням такой, что вы могли получить наглядное представление о нем только при помощи известной коллекции цветов и плодов. В некоторые времена года трудно было раздобыть такую коллекцию, и добросовестные читатели, любящие отдавать себе во всем ясный отчет, должны были находиться в большом затруднении. Впрочем, может быть, специально для них выделывались и так тщательно охранялись под стеклянными колпаками от пыли восковые цветы и плоды, которые прежде можно было встретить в каждом доме.
Теперь, повторяю, не то. Теперь писатели довольствуются наброском портрета своих героев несколькими широкими мазками, и читатели нисколько не в претензии на них за это. Один из моих коллег по перу, хорошо знающий свое дело, описывает своих героев в самых туманных выражениях, не сообщая даже, высок герой или нет, носит бороду или бреется, умен или глуп. Мой коллега находит вполне достаточным сказать, что его герой – красавец, а в каком именно роде – это пусть каждая читательница представляет себе по своему личному вкусу. Благодаря такому приему со стороны автора читательница непременно сразу заинтересуется героем и с жадностью будет следить за его действиями.
А своих героинь мой коллега описывает так, что каждый читатель может найти в них то, что ему больше всего нравится в женщине. Поэтому читатели также очень довольны им, и его книги раскупаются нарасхват огромными количествами. Читательницы говорят о нем, что он рисует мужчин, как живых, но, видимо, плохо знает женщин; а читатели, наоборот, находят, что он дает чудных женщин, тогда так мужчины выходят у него неестественными.
Вот и попробуйте разобраться, кто более прав.
В числе моих знакомых есть еще один писатель, о котором женщины отзываются с величайшим восторгом, говоря, что никто так хорошо не понял их, не заглянул так глубоко в их душу и не воспроизвел так верно их чувств и мыслей.
Заинтересовавшись этим единодушным отзывом читательниц моего знакомого, я внимательно прочитал все его произведения и заметил, что все его героини действительно прелестные создания, скомбинированные из ума леди Уортли Монтегю и знания Джорджа Эллиота. Добрых женщин между ними я не нашел, зато все они умны и обольстительны. Автор в самом деле отлично понял женщин настолько, чтобы угодить им.
Но вернемся к содержанию пропущенных мною фельетонов.
По отчету редактора, вторая глава переносит нас в Йоркшир, где обитает Бэзил Лонглит, «типичный молодой англичанин», только что получивший высшее образование и вернувшийся к своей матери-вдове и двум незамужним сестрам. «Семейство прекрасное…»
Сколько опять спасено труда автора и читателя! «Типичный молодой англичанин». В этих немногих словах сказано все, что обыкновенно растягивается писателями на несколько страниц. Прочитав эти слова, я совершенно ясно вижу перед собою этого типичного молодого англичанина, лоснящегося от усердного употребления мыла и воды; вижу его светлые голубые глаза, его белокурые вьющиеся волосы, на которые ему так досадно, зачем они вьются, но которые так нравятся женщинам; вижу его ясную открытую улыбку. Он только что получил высшее образование – этим сказано, что он первоклассный игрок в крикет, первоклассный гребец, первоклассный пловец, словом, первоклассный спортсмен во всех видах. Это свидетельствует, что он не должен страдать излишним развитием мозгов, но именно это, наверное, и послужит в его пользу в глазах героини, которая, как можно предположить, обладает умом за двоих.
«Прекрасное семейство». Следовательно, сестры типичного молодого англичанина представляют собою двух не менее типичных молодых англичанок, ездящих верхом, стреляющих из ружей, умеющих стряпать кушанья, шить себе платья и белье, обладающих здравым смыслом и любящих хорошую веселую шутку.
«Третья глава заключает в себе картину крикетной партии».
Кратко и ясно. Благодарю вас, господин редактор!
В четвертой главе снова появляется Урсула Уорт (а я уж начал было беспокоиться о ней). Она гостит у «весьма полезной» леди Мэри, которая переехала в свое йоркширское поместье. Урсула встречается с Бэзилом во время утренней верховой прогулки…
Большое преимущество иметь американскую героиню: она подобно британскому флоту всюду бывает и все делает.
В пятой главе Урсула и Бэзил снова встречаются во время пикника.
Очень рад, что я избежал описания и этого пикника вместе с партией в крикет.
Отчет о шестой главе поподробнее, потому что в этой главе затронут главный интерес повести. Возвращаясь поздно вечером домой через пустынное место возле болот, Бэзил видит Урсулу, оживленно разговаривающую с каким-то подозрительным на вид незнакомцем…
Девушка не видит и не слышит Бэзила, приближающегося сзади нее по мягкой почве, поглощающей шум шагов.
– Я должна завтра вновь увидеть вас, – говорит Урсула незнакомцу. – Приходите в половине десятого к воротам старого аббатства.
Бэзил, разумеется, заинтересовывается: что это за человек, которому Урсула назначает поздние вечерние свидания в пустынных местах?
Теперь я дошел до седьмой главы, уже подробной, и мог бы приняться за нее, но вместо этого перевертываю страницу и пробегаю передовую. «Почему же так?» – спросит, быть может, недоумевающий читатель. Да просто потому, что я уж вошел во вкус коротеньких редакторских отчетов о содержании предыдущих глав. С какой же стати тратить мне время на прочтение целых трех с половиной столбцов, когда я знаю, что завтра утром редактор передаст их суть всего в каких-нибудь двадцати строках? Он пояснит, какие были отношения между блестящей светской американкой и подозрительным незнакомцем; ведь именно это и интересно для читателя, остальное же – только лишний балласт, напрасно отнимающей дорогое время.
Но здесь у меня, как у человека, тоже причастного к греху писательства, возникает опасение, как бы публика во всей своей массе не проникалась теми же взглядами на удобство сжатых редакторских отчетов и не потребовала, чтобы все литературные произведение были подносимы ей в таком же экстрактном виде. В самом деле, вместо того чтобы обремененному делами человеку тратить несколько вечеров на прочтение какой-нибудь книги, не лучше ли попросить издателя изложить ее содержание в двух-трех сотнях строк? Да и сам издатель сообразит, что ему нет никакого расчета бросать деньги на то, чтобы один написал шестьдесят тысяч слов, а другой, прочитав это, передал все в шестистах. И дело, пожалуй, дойдет до того, что мы будем вынуждены писать повести в размере двадцатистрочных глав.
Представляю себе рассказ будущего, сведенный к следующей краткой формуле: «Маленький мальчик. Пара коньков. Сломанный конь. Небесные врата», – словом, нечто вроде простого наименования глав рассказа.
В прежнее время автор, взявшийся написать детскую трагедию для рождественского номера журнала, непременно употребил бы на нее пять тысяч слов. Лично я начал бы эту трагедию издалека, чтобы дать читателю возможность вполне познакомиться с моим маленьким героем. Это был бы мальчик хороший, искусный во всех детских играх. Жил бы он у меня в очень крохотном, но очень живописном коттедже. Этот коттедж был бы описан мною по крайней мере на двух страницах. Мальчика я нарисовал бы во весь рост и сделал бы его таким прозрачным, чтобы ясно можно было видеть все его детские мысли и чувства, все его детские желания и стремления. Описал бы также в подробностях его мягкосердечного, но сурового на вид отца, угнетенного непосильным трудом и безысходными заботами о завтрашнем дне, и нежную, любвеобильную мать. Описал бы таинственное лесное озеро, на берегу которого мечтательно настроенный мальчик любил сидеть в вечерних сумерках, прислушиваясь к голосам невидимых существ, куда-то звавших его и обещавших ему неземное счастье.
Таким путем читатель понемногу привыкает к герою, научается любить его и исподволь подготавливается к неизбежной катастрофе.
А что же станется с нами, писателями, когда нас обяжут сконцентрировать такие рассказы в десяти словах? Ведь в настоящее время нам платят за размерынаших произведений, начиная с полукроны за тысячу строк и доходя до нескольких фунтов стерлингов, как, например, получают мои коллеги, Конан Дойл и Киплинг. Чем же мы будем жить, когда весь наш заработок сведется к нескольким шиллингам за «штуку»?
Мне могут возразить, что читателям нет никакого дела до того, будем ли мы в состоянии существовать при таких условиях или нет. Но таким возражением мы, разумеется, удовлетвориться не можем, потому что чувствуем за собой такое же право на существование, как и все другие люди.
Вероятно, наши будущие повести станут печататься на листках, которые будут продаваться по одному пенни за дюжину. Некоторые могут еще зарабатывать и при такой цене десять-двенадцать шиллингов в неделю, а мы, остальные?..
Есть от чего прийти в уныние нам, писателям!
VIII Как следует обращаться с новобранцами
Вздумалось мне как-то прожить зиму в Брюсселе, в надежде, что мирно и приятно проведу время и освежу свой ум в этом большом и веселом городе. Так, вероятно, и было бы, если бы не бельгийская армия, которая преследовала меня на каждом шагу и положительно не давала мне покоя.
По моим личным опытам, я должен признать, что бельгийская армия – образцовая. Очевидно, она в полной мере руководствуется принципами Наполеона, говорившего, что никогда не следует отставать от своего врага, никогда ни на минуту давать ему повода думать, что он избавился от вас. Не знаю, как стала бы поступать бельгийская армия с другим врагом, но что касается лично меня, то план ее кампании против вашего покорнейшего слуги был составлен и выполнен с таким искусством, что я мог только изумляться.
Я положительно не имел возможности ускользнуть от преследования бельгийской армии. Я выбирал самые отдаленные и тихие улицы, где, как мне казалось, бельгийской армии совсем и делать было нечего; ходил по ним в разное время – рано утром, после обеда, поздно вечером, – но повсюду и во всякий час встречал бельгийскую армию. Бывали моменты бурной радости, когда я воображал, что армия потеряла мой след. Не видя и не слыша ее поблизости, я со вздохом облегчения говорил себе: «Ну, слава богу! Наконец-то я освободился хоть на несколько минут от этого кошмара!»
Но – увы! – не успевал я дойти до следующего угла, как уже убеждался, что доблестная бельгийская армия не давалась в обман, преследуя меня и здесь.
Заслышав барабанную трескотню, я в ужасе поворачивал назад, вскакивал в первый попавшийся вагон трамвая и несся на другой конец города. Думая, что теперь, уж наверное, избавился от своего упорного преследователя, я выходил из вагона и с наслаждением проминал отекшие от долгого сидения ноги.
Миновал благополучно одну улицу, вступаю в другую – и опять слышу вблизи невыносимую барабанную музыку. Нанимаю кэб и еду домой – армия провожает меня до самого подъезда. Полный досады и отчаяния, чувствуя себя побежденным и униженным, я вихрем мчусь в свою комнату и с лихорадочной торопливостью запираю дверь. В это время победоносная бельгийская армия, гордая тем, что смирила кичливую гордость заносчивого англичанина, с торжеством направляется на отдых в свои бараки.
Пожалуй, я бы и примирился с преследованием бельгийской армией моей особы, если бы эта армия производила свои преследования под звуки оркестра. Я люблю военные оркестры и готов подолгу их слушать. Но у бельгийской армии, очевидно, нет обычая передвигаться по улицам под звуки оркестра. Она ходит под одни барабаны, да и то плохонькие, вроде игрушечных, какими я сам пользовался в детстве, причем, кстати сказать, так надоедал взрослым, что они отбирали у меня барабан, угрожая, что сломают его над моей головой, если я, как это случалось, раздобуду новый и не буду давать им покоя своей трескотней.
Да и барабанщики-то у бельгийской армии нисколько не лучше, чем был я в качестве такого музыканта. Я уверен, что, находись в рядах идущей за ними армией их родственники, барабанщики никогда не решились бы так небрежно колотить палками по барабану. Они не соблюдают даже такта, а выбивают дробь как попало.
В первое время, когда еще издали слышалась эта безобразная трескотня, я так и думал, что это забавляются ребята. По простоте душевной я представлял себе, что восьмилетнему мальчугану поручили забавлять четырехлетнюю сестренку. Вот он и водит эту сестренку по улицам, забавляя и ее и себя барабанным боем. Но каково же было мое изумление, когда я убеждался, что этот шум производится не ребятами, а храброй бельгийской армией!
Вдумавшись в это странное явление, я пришел к заключению, что путем такого барабанного воздействия армия, вероятно, приучается ко всем ужасам войны. Это внушило мне такой страх перед бельгийской армией, что я сделался, как говорится, ниже травы и тише воды, дабы не раздражать таких доблестных воинов, и даже поспешил покинуть прекрасную бельгийскую столицу, не пробыв в ней и недели.
Кстати, о военных упражнениях. Живя одно время близ гайд-парковских казарм, в Лондоне, я имел много случаев наблюдать, как производятся эти упражнения, вернее сказать, обучение новобранцев сержантом. Картина интересная.
Сержант обыкновенно представляет собой человека очень рослого, привыкшего выступать с величавостью очень занятого собой индейского петуха и обладающего таким своеобразным голосом, что нужно иметь особенно тонкий слух, чтобы отличить его выкрикивания от лая собаки. Говорят, новобранцы довольно быстро привыкают понимать своего учителя, что свидетельствует о их высоких умственных способностях, в которых совершенно напрасно принято сомневаться. Впрочем, по личному опыту я этого утверждать не могу, а только повторяю слышанное от более компетентных людей.
У меня в то время была великолепная охотничья собака, из тех, которые отыскивают и приносят убитую дичь, и мы с нею иногда развлекались зрелищем солдатского учения на плацу перед казармами. По собачьему обыкновению, и мой Колумб выражал свои восторги отрывистыми «гав-гав-гав!», и это делу нисколько не мешало. Но в одно ветреное утро вышло небольшое недоразумение. Сержант только что скомандовал, чтобы его рота шла на приступ, и она было пошла, но вдруг, к его полному недоумению, повернула к нему тыл и бросилась по направлению к водяному рву, ограждавшему плац с двух сторон. Хорошо еще, что он успел вовремя крикнуть «стой!», иначе рота в своем служебном усердии непременно ринулась бы в воду. Услышав новую команду, рота замерла на месте.
– Какой дьявол приказал вам повертывать назад? – гремел сержант, весь красный от негодования. – Марш на прежнее место!
Рота, видимо, была сбита с толку, но молча исполнила и эту команду. Минуту спустя, случилось то же самое: рота ни с того ни с сего снова бросилась ко рву. С сержантом стало твориться что-то такое, что возбуждало во мне опасение, как бы его не хватил удар. Я уж готов был бежать за медицинской помощью, но, видя, что доблестный воин оправился, остался на месте. В то же время я начал понимать, что виной всего этого – мой Колумб с его отрывистым лаем, который благодаря направлению ветра показался новобранцам исходящим от их командира. Когда дело наконец выяснилось, возмущенный сержант обратился ко мне и строго сказал:
– Пожалуйста, сэр, уведите свою собаку. Я не могу учить своих людей: ваша собака все время отвлекает их в сторону.
Я увел Колумба, но после еще несколько раз брал его с собой на смотр (впрочем, он сам всегда увязывался со мною), и ни разу не обходилось без того, чтобы он не передразнил сержанта и не ввел в заблуждение и под выговор солдат. Кажется, он проделывал эту забаву вполне сознательно, и она, очевидно, очень нравилась ему. Иногда, увидев идущую впереди нас парочку, солдата с кумой, Колумб вдруг из-за моего прикрытая возьмет и гавкнет на них и потом прыгает от радости, когда испуганный солдат бросает руку своей спутницы, повертывается на каблуках, вытягивается, опускает руки по швам и с выкатившимися от почтительности глазами смотрит, где его сержант и чего от него требует.
В конце концов военное ведомство обвинило меня в том, что я нарочно научил свою собаку передразнивать голос и манеру команды такого-то сержанта. Но это была неправда: я собаку не учил и нисколько не был виноват в том, что у нее оказался одинаковый голос с уважаемым сержантом. Я так и ответил военному ведомству, причем советовал внушить сержантам, чтобы они лучше старались как следует говорить на своемязыке, чем заявлять претензии на то, что собаки так хорошо говорить на своем. Но ведомство не пожелало проникнуться этой истиной, и я решил, что лучше нам с Колумбом переселиться в другое место, где нет людей с голосами, похожими на его лай. Так мы и сделали.
Лет двадцать тому назад, когда Лондон переживал смутный период, законопослушные граждане приглашались записываться в специальные констебли. Я тогда был еще молод, и жажда беспокойной деятельности одолевала меня больше, чем теперь, поэтому в одно воскресное утро очутился в компании нескольких сот других благонадежных граждан на учебном плацу олбенских казарм.
По-видимому, власти придерживались того мнения, что мы будем в состоянии защищать свои жилища и своих близких только в том случае, если выучимся по команде выкатывать глаза в ту или иную сторону и ходить на особый манер. Ввиду этого к нам был назначен сержант, который должен был дать нам надлежащую муштровку. Он вышел к нам из лагерного шинка, обтирая губы и гримасничая на ходу. Но по мере его приближения к нашему фронту он все больше и больше подтягивался. Большинство из нас были люди из порядочного общества и с хорошим достатком, а потому прилично одетые. Сержант обвел нас пытливым взглядом и понял, что с нами надо быть поосторожнее в выражениях и тоне. Но одновременно с этим сознанием от него почти ничего не осталось как от сержанта: он утратил напыщенный вид, лицо его приняло естественное человеческое выражение, и вообще он сделался похожим на нас. Подойдя к нам вплотную, он вежливо проговорил: