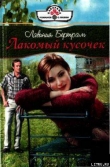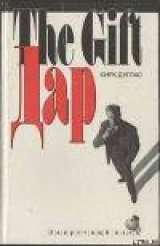
Текст книги "Дар"
Автор книги: Кирк Дуглас
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Кирк Дуглас
Дар
Иных молитв внезапно исполненье
Презрительно швырнут тебе в лицо
Перчатку – в ней как дар и то, что просишь.
Элизабет Баррет Браунинг
ПРОЛОГ
ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ
Изящная ручка с кроваво-красными ноготками выскользнула из тесной ниши в плохо освещенном коридоре и ухватила Мигеля Кардигу за локоть.
– Исабель! Что ты здесь делаешь?
Исабель воровато осмотрела коридор: первые зрители уже потянулись в сторону арены, торопясь занять лучшие места на последней в этом сезоне корриде. Затем привлекла его к себе в нишу.
– Я хочу тебя, – выдохнула она, алчно ища его губы своими, тогда как рука ее скользнула вниз, спеша возбудить желание.
– Ради Бога, не сходи с ума! Ведь твой муж – рядом.
– Не беспокойся. Луи сейчас не до нас. Он подбирает тебе быка. – Исабель потянула его за рукав. – Сегодня вечером?
– Да. – Он высвободил руку. – Я опаздываю. Мне нужно готовиться.
– На обычном месте!
Она впилась ему в уста жадным поцелуем.
На какое-то мгновение Мигель проводил Исабель взглядом – даже спеша по коридору она выглядела весьма соблазнительно. Но его тревожила ее теперешняя необузданность. Она шла на куда больший риск, чем матадор на арене, – ведь если ее муж узнает, он убьет их обоих. Возможно, ему не стоило бы приходить нынче вечером на свиданье… но он знал, что пойдет.
Устремившись через запасной выход в свою гримерную и стараясь избежать встречи с докучливыми болельщиками, Мигель взошел на помост над загоном для быков. Осторожно передвигался он по шатким доскам.
Под ним, в загоне, быки вели себя беспокойно, до него доносился беспрестанный стук копыт, сопровождавшийся тяжкими ударами: животные в ярости бились рогами о бетонную стену. Мигель понимал, какое бешенство владеет сейчас запертыми в загоне быками, которым хочется только одного: сокрушить препятствие и помчаться прочь, сметая и истребляя все, что попадется им по дороге.
Менее чем через час один из них с грохотом вырвется на арену и сосредоточит всю свою злость на Мигеле: в кровавом поединке между грубой мощью быка и помноженным на изящество мастерством наездника-матадора. Действия Мигеля в бою будут продиктованы старинными рыцарственными законами – именно по строгости их соблюдения его земляки-португальцы, свято чтущие традицию и презирающие поэтому падких на кровь испанцев, будут судить о том, насколько удастся поединок. И если Мигель случайно убьет быка, он удостоится серьезных попреков.
Рядом с загоном Мигель заметил коренастого мужа Исабель, одного из ведущих скотоводов, специализирующихся на племенных быках, во всей Иберии. Тот, резко жестикулируя, что-то внушал помощнику. Сегодня Мигелю предстояло провести поединок с быком, принадлежащим ему – Луису Велосо. Помощник Луиса, вооружившись длинной палкой, отогнал с помощью еще нескольких человек одного исполинского зверя от остальных. Бык гневно заревел, когда его погнали по узкому проходу, ведущему на арену.
Все было готово.
Полчаса спустя Мигель в последний раз окинул себя взглядом в зеркале. Его полуночно-синий шелковый плащ был расшит золотой тесьмой; сильно приталенный и достающий до колен, он великолепно сидел на стройном мускулистом теле Мигеля. Белый ворот рубашки был безукоризненно чист, высокие черные кожаные сапоги ослепительно сверкали.
Его карие глаза прищурились. Оливково-смуглое лицо под густой шапкой черных волнистых волос, глядевшее на него из глубины зеркала, было исполнено высокомерной решимостью человека, бросающего вызов судьбе.
– Нравится тебе, кажись, как ты выглядишь!
Друг Мигеля, Эмилио Фонсека, развалился в мягком набивном кресле, лениво перекинул через ручку длинные ноги, держа в руке дымящуюся сигарету.
– Нравится.
Мигель поддержал шутливый тон друга.
Эмилио зевнул, закинул руки за голову. Его волосы были так гладко зачесаны назад, что могли бы сойти за купальную шапочку.
В гримерную доносился рев из загона, откуда быков выпускают на арену. Мигель почувствовал, как его нервы становятся стальной проволокой. Его выход был следующим.
Эмилио уселся поудобней.
– Ах, как страшно стучат копытца!
Мигель рассмеялся. Он понимал, что друг пытается развеселить и успокоить его перед выступлением.
Выйдя из гримерной (Эмилио пошел следом), он очутился в слабо освещенном помещении, которое могло бы послужить декорацией при инсценировке арабских сказок, – изогнутые арки, полумесяцы, узорные решетки и арабески, – приметы мавританской старины, превращающие это сооружение из красного кирпича в самое причудливое во всем мире помещение для корриды.
Внешне ничто не выдавало волнения, овладевшего сейчас Мигелем, – глубокого страха перед тем, что на этот раз он сможет сплоховать, опозорив тем самым славное имя Кардига. Хотя, разумеется, отец Мигеля, ненавидящий бой быков, считал, что оно уже обесчещено. Почему сыновья великих людей никогда не оказываются достойными отцов?
В алькове у выхода на арену грум держал наготове его коня; шелковая лента, вплетенная в гриву, была того же цвета, что и плащ матадора.
Мигель надел на голову треугольную шляпу с плюмажем и легко взлетел в высокое, старинной работы, седло. Сегодня он выступал на паломинском скакуне по кличке Талар – что означает «самородок золота», – и это должно было принести ему удачу. Талар нервно переминался на кирпичном полу, его копыта стучали в лад с сердцем Мигеля. Конь, казалось, вот-вот был готов взбеситься, его била дрожь, подобная мощным электрическим разрядам.
– Удачи вам, дружище!
Эмилио похлопал коня по крупу.
Мигель развернул Талара в ту сторону, откуда сквозь щели в тяжелых воротах, ведущих на арену, били лучи яркого солнечного света. Ему вдруг стало страшно, как приветствует его предстоящий выход публика. Слухи о его успехах в провинциальных боях докатились до столицы, его считали восходящей звездой. И как раз сейчас ему предстояло показать, что он входит в бойцовскую элиту. И он осознавал это. Сегодня он продемонстрирует все, на что способен. Сегодня ему предстоит превзойти славой самого Пауло Кардигу – причем прославиться именно на арене, а не на ипподроме. Ему было двадцать пять и он не желал больше оставаться в тени отца.
Запели трубы и ворота медленно раскрылись. И в это мгновенье Мигеля оставил недавний страх. Теперь он руководствовался только интуицией.
Мигель провел коня по изящному пассажу – повел иноходью: после каждого шага копыта коня на мгновение зависали в воздухе, прежде чем он, подобно балерине, решался повторить свое па. То был признак превосходной дрессуры коня и высочайшего мастерства наездника. И Мигель был именно таков, чтобы выехать на арену самым сложным аллюром. Зрители поднялись со своих мест, девятитысячная толпа разом выдохнула в знак величайшего одобрения: «Мигелино! Мигелино!» Конечно, они пришли сюда сегодня полюбоваться его мастерством, а не просто на бой с быком, пришли полюбоваться его мастерством наездника. Его отец был величайшим мастером верховой езды, и сына хотели сравнить с ним. И сын знал, что не разочарует публику.
Конь и всадник, танцуя под музыку, как бы слились в одно; конь, изящно воздевая ноги, проплыл по диагонали через всю арену. Крики «браво!» разнеслись повсюду, рикошетя громом эха от стен, когда Талар, не сбиваясь с ритма танца, начал пятиться: именно этот прием и принес отцу Мигеля самую громкую славу.
Мигель не реагировал на встретившую его овацию. Лишь отдал легкий поклон в сторону скамьи, на которой сидели особенно важные персоны, расположенной под одним из четырех минаретов, устремленных в лазурные небеса. Сидя на этой скамье, Исабель жадным взглядом ловила каждое его движение. Но на лице у ее мужа кривилась гримаса:
– Надеюсь, ему пропорют яйца, – пробормотал он одному из своих помощников.
Трубы смолкли и воцарилась напряженная тишина.
Мигель верхом на Таларе застыл, словно конная статуя, ожидая, когда выпустят быка.
На мгновение в образовавшемся в стене отверстии не было видно ничего, кроме густой тьмы. Но вот раздался рев и бык вырвался на арену. Когда он резко затормозил посередине посыпанного песком поля, из-под задних ног у него взметнулись ввысь клубы праха. Его огромная черная голова с одетыми в кожаные чехлы, чтобы хоть как-то защитить лошадь, рогами неторопливо моталась из стороны в сторону: бык оценивал ситуацию. Наконец его взгляд сфокусировался на Мигеле.
Тут очнулся и наездник на коне. Он медленно, спокойно, испытующе начал приближаться к быку. «Э-ге-ге! Эге-ге!» – вскричал Мигель, метнув в быка красный флажок, насаженный на острый дротик. Этому предмету, называемому фарпа, надлежало пронзить бычью шкуру в строго определенном месте, а согласно наиболее строгому правилу, и так, чтобы задеть и вывести из строя нервное окончание в бычьей шее.
Животное отреагировало – полтонны живого веса и неукротимой ярости рвануло через всю арену. Мигель послал Талара вперед, заставив быка промчаться буквально рядом с ним; затем, когда бык развернулся и нацелил рога в грудь коню, еще одна фарпа попала в цель с неумолимой точностью, тогда как конь с легкостью избежал удара.
Толпа взорвалась приветственными кличами, повсюду слышались восторженные крики одобрения, да и немудрено: такое начало поединка встречается редко. Как правило, на то, чтобы расшевелить быка, уходит какое-то время, но этот с самого начала рвался в бой.
Наездник и конь действовали с удивительной легкостью и согласованностью, проведя еще один изящный пируэт и готовясь заставить быка опять промчаться мимо цели. На этот раз бык атаковал в лоб, и Мигель увел коня вправо, швырнув очередной дротик, однако бык, не дав себя отвлечь, рванулся в ту же самую сторону. Мигель с такой силой послал коня влево, что едва удержался в седле.
К счастью, бык по инерции пронесся мимо. Но, когда он резко остановился посреди арены, взметнув в воздух новую тучу песка, Мигель ощутил где-то под ложечкой внезапный укол страха. У этого зверя, судя по всему, была собственная стратегия боя. Он, казалось, точно рассчитал, как именно надо действовать, чтобы достать и коня и всадника. Как будто он участвовал в таком бою уже не впервые.
Церемониймейстер, ответственный за проведение боя, дал сигнал – и двое пеших выбежали на арену, чтобы отвлечь на себя внимание быка. Однако Мигель махнул им, приказывая покинуть поле боя.
Сжав поводья в уже вспотевших руках, он послал коня в низкий, прижатый к земле, галоп, готовясь к новой атаке со стороны противника. На мгновение растерявшись, бык пришел в бешенство: его красные глаза следили за всадником, копыта рыли песок арены. Он низко наклонил голову, выставил рога. Затем бросился на Мигеля, весь в клубах пыли, бросился, неудержимо и прямо, строго вперед.
Мигель попробовал было послать коня влево, повторяя тем самым уже опробованный маневр. Однако это произошло слишком поздно. Бык разгадал задуманное и отреагировал с большей стремительностью, чем Талар. Рога поддели коня, ударили со страшной силой, взметнув его вместе с наездником в воздух, и все трое, включая быка, с грохотом рухнули наземь.
Пораженные зрители вскочили со своих мест, вся толпа вскрикнула, как один человек.
Мигель лежал неподвижно, в желтый песок арены мгновенно всасывалась струящаяся из вспоротого бедра кровь. Но боли он не чувствовал. В полубреду ему казалось, будто Талар, подобно Пегасу, расправил крылья и унес его в небеса. Крики зрителей становились все слабее и слабее, а они взлетали все выше и выше, минуя здешние минареты, в лазурное небо…
ЛОЗАННА, ШВЕЙЦАРИЯ
Патриция Деннисон уже, наверное, в десятый раз поправила бледно-голубое покрывало и, усевшись на аккуратно убранную постель, посмотрела на чемоданы.
Сложив руки на коленях, она изо всех сил стремилась сохранять спокойствие.
Она чувствовала себя девочкой в скаутском лагере в последний день каникул, дожидающейся, что приедет отец и заберет ее домой. Но ей было уже девятнадцать – взрослый человек, как-никак, – и она не имела права ощущать себя настолько неуверенной и беззащитной. Что ж, по крайней мере, ее отношение к здешним местам переменилось, – впервые попав сюда после того, как покончила самоубийством ее мать, Патриция воспринимала санаторий как темницу; теперь же он казался ей скаутским лагерем.
Ожидание было мучительным, но винить ей было некого: с какой это стати она упаковала вещи, толком не выяснив, когда именно прибудет отец. И сейчас ей не оставалось ничего другого, кроме как ждать. Может быть, стоило достать какую-нибудь книгу и почитать – глядишь, и убила бы время. Но вместо этого она встала и вновь подошла к окну.
При всей неуверенности, с которою она относились к жизни, одно казалось Патриции неколебимой истиной: ее папочка любит ее и столь же страстно стремится быть с нею, как и она сама – с ним. Они опять будут жить вместе, как в те дни, когда она была маленькой, а папочка с мамочкой еще не расставались. Вся тогдашняя жизнь пошла прахом, когда мамочка взяла ее с собой в Нью-Йорк, чтобы жить у деда в Стоунхэм-паласе, – и Дж. Л. – он запрещал ей называть его дедушкой – приходил в ярость всякий раз, когда она заикалась о том, что ей хочется навестить отца в Калифорнии. В конце концов она перестала просить: но добром это все равно не закончилось.
Но сейчас уж они постараются наверстать упущенное.
Как зачарованная, она уставилась в окно, надеясь увидеть приближающуюся человеческую фигуру; но напрасно. Территория санатория казалась вымершей, даже на прогулке не было ни души. Только тонкие ветви ив еле слышно шелестели на слабом ветру, и танец их изломанных рук отражался на поверхности пруда.
Длинными пальцами Патриция провела по решетке, укрепленной с внутренней стороны окна. В конце концов, в этом отделении лежали больные, испытывающие склонность к суициду. Стекло было желтоватого оттенка: покрыто специальным составом, увеличивающим его прочность, и не случайно. Едва попав сюда, она, конечно, пыталась разбить его, чтобы вскрыть себе вены осколками. Тогда она была готова на все, лишь бы положить конец, как ей казалось, бессмысленному и проникнутому нескончаемым горем существованию.
Ей вспомнилось, как доктор Соломон объявил о том, что лечение проходит настолько успешно, что отныне ей позволяется держать в палате зеркало, которое сам принес и повесил на стену. Она взглянула – и не узнала самое себя. На нее глядело бледное лицо коротко стриженной блондинки, хрупкое, как китайский фарфор, и с бездонными серыми глазами смертельно раненного животного. Это было лицо ее матери.
– Улыбнитесь, – попросил доктор Соломон.
Патриция увидела, последовав совету, как бледно-розовые губы задрожали, раздвинулись и обнажили ряд безукоризненно белых зубов.
– Ах вот как, у нас зубки имеются! – поддразнил доктор.
Она рассмеялась – и внезапно увидела, что счастливое лицо, отразившееся в зеркале, принадлежит ей самой.
Бедная мамочка – она была так долго и так глубоко несчастна. И сумела найти успокоение только в смерти. Патриции вспомнилось, как она, накачавшись транквилизаторами, стояла у гроба – мать лежала, прекрасная и загадочная, осыпанная белыми розами, которые так любила при жизни. И вдруг в исходящий от гроба сладковатый запах грубо вторгся аромат мужского одеколона – резкий, бесцеремонный, всепобеждающий. Дед положил руку ей на плечо, и ее едва не стошнило.
Следующим после провала в памяти воспоминанием стало пробуждение в этой палате лозаннского санатория и взгляд в большие, исполненные состраданием глаза, казавшиеся сквозь толстые стекла очков еще большими. Затем она обратила внимание на густую пшеничную шевелюру и клочковатую бороду того же цвета.
– Меня зовут доктор Соломон, – произнес этот человек мягким голосом. – Не бойтесь… Вы здесь в безопасности.
В течение следующих шести месяцев Патриция научилась ассоциировать этот голос с мудростью и добротой. Он не выуживал у нее всяких подробностей о годах детства или о характере сновидений; вместо этого, доктор приносил ей замечательные книги о героях, о людях, посвятивших свою жизнь высокой цели. После того, как Патриция прочитывала книгу, она обсуждала ее со своим доктором.
Вот и сейчас она решила все-таки что-нибудь почитать – чтение всегда шло ей на пользу, лучшего способа убить время просто не было. Она расстегнула молнию на чемодане и извлекла брошюрку, которую нашла возле сапожек для верховой езды – «Мистическая природа лошади», сочинение Пауло Кардиги.
Уже завтра ей предстояла встреча с прославленным португальским мастером верховой езды. Она обожала лошадей, любила на них кататься, – и вот отец решил взять ее на каникулы в Португалию, где он заранее договорился о курсе уроков в школе верховой езды, принадлежащей Кардиге. Строго говоря, он хотел взять ее с собою в Португалию еще в прошлом году, когда снимал в Лиссабоне кинокартину, но тогда этому воспротивился Дж. Л.
Но они еще никуда не опоздали – так говорил ей отец вчера, позвонив из Италии. У нее в ушах по-прежнему звенели последние слова, произнесенные им перед тем, как повесить трубку: «Патриция, запомни, никуда невозможно опоздать. Я только что осознал это сам. Нам с тобой предстоит очень о многом поговорить. Я должен рассказать тебе нечто чрезвычайно важное». И тут его голос задрожал. Но что бы это могло значить?
Патриция вздохнула. Скоро ей предстоит все узнать.
Она раскрыла книжку и, погрузившись в чтение, забыла снедающие ее нетерпение, забыла волнение и тревогу. Бросив через какое-то время взгляд на часы, она с удивлением отметила, что пролетел целый час. Она мысленно прикинула временной расклад. Прошло уже больше двадцати четырех часов после того, как отец позвонил из Триеста и сообщил, что направляется в Цюрих. Конечно, самолетов было мало, к тому же, в Италии они всегда опаздывают, размышляла девушка, – но ведь не настолько же? И разве не пора ему быть на месте?
Она вновь встала и подошла к окну. И на этот раз его увидела. Он шел по дорожке, рядом с ним, сильно сутулясь, шел доктор Соломон.
Но когда они подошли поближе, Патриция почувствовала, как в груди у нее зарождается – и рвется наружу – панический крик. Давно знакомое и, казалось бы, при помощи доктора Соломона, давно забытое чувство безраздельного и неконтролируемого ужаса охватило ее вновь. Потому что по дорожке к зданию санатория приближался вовсе не отец Патриции, а ее дед.
Сколько уже задуманных ими совместных с отцом планов удалось ему сорвать. Но не на этот раз! Папочка не допустит, чтобы такое случилось и теперь. Он ей пообещал.
Дж. Л., высокий и прямой, с седыми, стального оттенка, волосами и пронзительным взглядом синих глаз, – гранитная статуя, как называла его покойная мамочка, – вошел в палату без стука. Шедший следом за ним доктор Соломон был явно взволнован.
– Патриция… ты едешь со мной… – в приказном порядке объявил Дж. Л., приближаясь к ней.
Комнату заполнил невыносимый запах мужского одеколона.
Она отпрянула от него и села на постель, ухватившись за ручку чемодана.
– Мистер Стоунхэм, – вмешался доктор Соломон. – Это не лучший способ разрешить кризис. Сейчас более, чем когда-либо, Патриции необходимо оставаться здесь и…
– Да уж, на ваш взгляд, конечно! – огрызнулся Дж. Л. – Если вспомнить о санаторных счетах, которые вы выставляете, то вам хотелось бы запереть ее здесь навеки.
От запаха одеколона у Патриции закружилась голова. Она глубоко вздохнула, стиснула зубы.
– Я никуда с тобой не поеду! – Ее голос дрожал. – Я жду папочку.
– Твой отец не приедет, – резко бросил Дж. Л.
– Мистер Стоунхэм, ради всего святого…
В голосе доктора, помимо всего прочего, сквозила обида.
Глядя в пронзительные глаза Дж. Л., Патриция не могла удержаться от того, чтобы не задрожать всем телом.
– Я тебе не верю! И тебе больше никогда не удастся разлучить нас.
Дж. Л. посмотрел на нее сверху вниз.
– А теперь слушай сюда.
Его лицо находилось на расстоянии всего в несколько дюймов от ее лица. Ее тошнило от нестерпимого запаха. Она, стараясь отвернуться от него, упиралась в его грудь обеими руками.
– Оставь меня в покое!
– Ты будешь слушаться меня! Запомни! Ведь за тебя плачу я!
– Мне не нужны твои паршивые деньги… – Ее голос, дрожавший до этих пор, внезапно стал чистым и твердым. – Я ненавижу их! И тебя я тоже ненавижу! Он ударил ее по лицу.
Она в ужасе уставилась на деда. Доктор Соломон схватил его за руку.
– Мистер Стоунхэм, я вынужден настоять на своем! Вы совершаете серьезную ошибку.
– Нет! – Стоунхэм тоже перешел на крик. – Ей все равно придется узнать об этом, так пусть уж она узнает от меня. – Тут он несколько понизил голос. – Патриция… твой отец умер.
Девушка вскочила с постели, широко раскрыв сразу же ставшие безумными глаза.
– Это неправда! – Теперь кричала она. – Ты лжешь! Убирайся отсюда!
Стоунхэм наблюдал за ней с равнодушным видом.
– Доктор, годитесь же вы хоть на что-нибудь! Вот и давайте – объясните ей.
Доктор Соломон присел на постель и попытался привлечь девушку к себе. Но она стояла оцепенев и не желала прикосновений.
– Послушай меня, Патриция… Увы, это правда…
В широко распахнутых глазах Патриции застыл невыразимый ужас.
– Папочка… умер? – прошептала она.
Затем повернулась к Дж. Л. и глухим утробным голосом, идущим, казалось, из самой глубины, сказала:
– Ну вот… все умерли… а ты-то почему до сих пор не умер?
Того, что произошло вслед за этим, она уже не осознавала. Ее внезапно унесло куда-то далеко – так далеко, что оттуда ей не было ничего слышно. Доктор Соломон, Дж. Л. и все предметы, находящиеся в палате, внезапно стали смутными и бесцветными – подобно фотографии в полуистлевшей газете. Затем все вокруг нее оделось тьмой, у нее подкосились ноги. Она полетела в бездну – полетела в какую-то мрачную пустынную темницу – полетела, как сломанная грошовая кукла, тряся ручонками и вращаясь в чудовищном мраке.
Придя в себя, она обнаружила, что лежит в постели под голубым покрывалом, что в палате больше никого нет. Чемоданы куда-то унесли. Исчезло и висевшее на стене зеркало.
Много позже она узнала о том, что Дж. Л. в тот же самый день улетел обратно в Нью-Йорк. На борту личного самолета у него случился второй инфаркт – и на этот раз с летальным исходом.
Она оказалась единственной наследницей. Он оставил ей все свои миллиарды – словно бы для того, чтобы искупить вину.