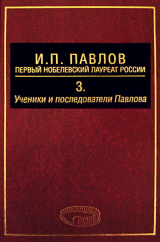
Текст книги "И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 3. Ученики и последователи Павлова"
Автор книги: Кирилл Зеленин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
О нем: Вр. газ., 1922, № 12–14,356; Изв. ВЦИК от 14 XII 1922; Сб. научи, тр. в честь н. – вр. деят. гл. вр. Обух, больн. проф. А. А. Нечаева (Библиография работ, вышедших из Обух, больн., Пгр., 1922); Сто сорок лет Обуховской больницы им проф. А. А. Нечаева (1784–1924). Л., 1924; Сб. «Вопросы патологии крови и кровообращения», 1944, в. 2, 5.

ПАВЛОВ Дмитрий Петрович (1851–1903)
Русское физико-химическое общество
1884
Совместная работа
Родился в Рязани. Брат И. П. Павлова. Среднее образование получил в Рязанской духовной семинарии, после чего поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Окончил последний в 1876 году. Был оставлен при университете для усовершенствования по химии и в 1877 году назначен на должность лаборанта при химической лаборатории университета, где под руководством профессора А. М. Бутлерова работал, еще будучи студентом (с 1873 года), над различными химическими проблемами.
По свидетельству профессора Д. П. Коновалова, Павлов в бытность в Петербурге жил в небольшой квартирке при университете, которая была сборным пунктом для сотрудников лаборатории. В этой квартирке постоянно бывал и даже одно время жил И. П. Павлов.
Его работы напечатаны в «Журнале Русского Физико-Химического Общества»: «О диметилизобутилкарбиноле и новом гептилене, из него получаемом» (1874); «Об этилизопропилкетоне» (1876); «О действии хлорангидридов кислот на цинкорганические соединения»; «О тетраметилэтилене и его производных» (1878); «О химическом строении пинакона»; «К реакции хлорангидридов кислот с цинкорганическими соединениями» (1891, вместе с А. Григоровичем).
В 1884 году Д. П. Павлов по поручению Русского физико-химического общества выполнил совместно с И. П. Павловым сравнительное химическое исследование привозного мяса и мяса, битого в Петербурге, с целью определения влияния перевозки скота на качество мяса. Результаты этого исследования были доложены в заседании отделения химии Русского физико-химического общества (1884) и опубликованы в журнале общества (см. И. П. Павлов, Поли. собр. соч., т. II, кн. 1, М.-Л., 1951, 93).
В 1886 году назначен доцентом по кафедре неорганической химии в Институте лесоводства и сельского хозяйства в Ново-Александрии. С 1893 года состоял там же адъюнкт-профессором.
О нем: Ж. Русск. физ. – хим. общ., 35, 1903, в. 1, 78 (речь Д. П. Коновалова пам. Д. П. Павлова, протокол 9 I 1903).
ПИНЕС Лев Яковлевич (1895–1951)
ИЭМ
1933–1936
Совместная работа
С 1914 года Пинес работал в заграничных лабораториях, с 1918 по 1921 год – в клинике нервных болезней Института мозга в Цюрихе (Швейцария) под руководством выдающегося нейроморфолога и нейропатолога К. Н. Монакова. В 1921 году, по возвращении в Россию, работал под руководством гистолога А. С. Догеля, а затем по приглашению В. М. Бехтерева научным сотрудником Института мозга в Ленинграде.
Пинес рассказывал, как высоко котировалась отечественная неврология в Швейцарии: «В мае 1921 года после семилетнего пребывания в Швейцарии я возвращался в Россию. Перед моим отъездом директор Цюрихского института мозга, в котором я работал с 1918 года, наш соотечественник, проф. К. Н. Монаков, прощаясь со мной, просил передать свой личный дружеский привет двум крупнейшим неврологам Советского Союза – В. М. Бехтереву и И. П. Павлову. Эта просьба сыграла в дальнейшем решающую роль в моей научной жизни, так как привела к знакомству с этими двумя корифеями науки и впоследствии к моей работе в руководимых ими учреждениях. Нужно сказать, что И. П. Павлов пользовался величайшим уважением со стороны К. Н. Монакова, впрочем, как и вообще ученых всего мира».
Вот какие впечатления остались у Пинеса от контактов с Павловым и его лабораторией: «Приехав в Ленинград в декабре 1921 года и увлеченный развертыванием работы в Институте мозга, я только осенью 1922 года, после вторичного напоминания К. Н. Монакова, с которым я после отъезда из Цюриха находился в переписке, решился отправиться к Ивану Петровичу. Не без волнения, некоторой робости и большого интереса я направился в руководимую им физиологическую лабораторию Академии наук СССР.
Лаборатория И. П. Павлова с 1907 года (с момента избрания его академиком) до 1925 года состояла из кухни, вивисекционной и трех лабораторных комнат. До 1907 года этой лабораторией заведовал предшественник Павлова академик Ф. В. Овсянников. Лаборатория помещалась в нижнем этаже здания, выходившего на Менделеевскую линию, вход в лабораторию был с Таможенного переулка; в глубине двора с правой стороны находилась дверь, ведшая на полутемную лестницу, через которую можно было пройти в лабораторию; поистине, наука в царское время помещалась на задворках. Как известно, И. П. Павлов, несмотря на свои мировые заслуги, до установления Советской власти не имел института, в котором мог бы полностью развернуть свои исследования. Только в 1925 году был создан при Академии наук СССР специальный Физиологический институт, носящий теперь его имя.
В лаборатории Павлова работало в то время всего лишь несколько штатных сотрудников (Г. П. Зеленый, Н. А. Подкопаев, В. В. Строганов). Отдельного кабинета у Ивана Петровича не было: все время в лаборатории он проводил в общей с сотрудниками комнате, и это способствовало созданию живого контакта и постоянному обмену мнениями.
Через слабо освещенную кухню я прошел в лабораторную комнату. Здесь меня и принял Иван Петрович. Это был человек с седой бородой, седыми, зачесанными назад волосами, с живой юношеской мимикой, энергичными выразительными жестами, простой речью. На фоне скромной обстановки и сам Иван Петрович производил впечатление своей скромностью, непосредственной эмоциональностью, обаятельной простотой в обращении с людьми. Ничем не выявлял и не подчеркивал он своего превосходства. Он расспросил меня о Монакове и его работе, дал высокую оценку его деятельности, поблагодарил меня за привет, а затем заговорил обо мне, поинтересовался, где я работаю, и подчеркнул, что придает большое значение морфологическим исследованиям мозга, в чем я при дальнейших встречах с ним имел возможность неоднократно убедиться.
В то время приезд научного работника из Швейцарии был не совсем обычным явлением, и после моего ухода из лаборатории, как потом мне об этом рассказывал В. В. Строганов, Иван Петрович продолжал разговор со своими сотрудниками о Монакове, делился впечатлениями о Швейцарии и т. д.
С тех пор начался мой контакт с Иваном Петровичем и его сотрудниками, закончившийся в дальнейшем, после создания Физиологического института, приглашением заведовать гистологической лабораторией руководимого им Института. Этот контакт объяснялся потребностью павловских лабораторий в морфологическом контроле ряда работ, в подтверждении и анатомическом объяснении ряда полученных данных. При этом интересы Павлова и его сотрудников шли в трех направлениях: изучения корковых экстирпаций у животных, психических заболеваний у человека и экстра-кортикальных поражений у животных. Что касается случаев корковых экстирпаций у собак, то первоначальный мозговой материал, требовавший гистологического исследования, был такой давности (мозги оперированных животных в течение десятков лет хранились в формалине), что пришлось отказаться от его исследования. Однако в дальнейшем мы получили от сотрудников Павлова (Г. П. Зеленого, И. С. Розенталя, Э. А. Асратяна и др.) свежий материал, который изучался мною или моими сотрудниками (Р. М. Майман, А. Е. Пригонниковым, И. Ю. Зеликиным) и послужил также объектом совместных работ, вышедших из лаборатории Ивана Петровича и Отдела морфологии Института мозга им. В. М. Бехтерева.
Что же касается гистопатологических изменений при психозах, то наши данные об изменениях мозга при Dementia praecox catatonica были продемонстрированы и доложены Павлову на специальном заседании психиатрической клиники ВИЭМ 2 ноября 1932 года; они послужили также предметом совместной работы сотрудников Ивана Петровича и Отдела морфологии Института мозга.
Некоторые из полученных нами данных по вопросу об экстракортикальных поражениях вызвали большой интерес Ивана Петровича и после того, как были доложены ему мною, сообщались на павловских «средах», на которых и подвергались обсуждению. Таковы, например, полученные нами данные при изучении мозгов собак после перерезки зрительных путей, о которых Павлов сообщал 31 октября 1934 года.
Встречи с Павловым и с коллективом его сотрудников, обсуждение с ним некоторых вопросов морфологии мозга, связанных с физиологическими исследованиями, оставили большое впечатление и дали мне возможность ознакомиться с творческими особенностями Павлова.
Первое, что я хотел бы отметить, это то, что самым убедительным языком для Павлова был язык фактов; он никогда не доверял одним суждениям, предположениям, выводам без подтверждения их фактами. Поэтому самым красноречивым для него был показ препаратов и микрофотограмм; он верил тому, что видел собственными глазами. В основе его воззрений, его научных теорий всегда лежало обширное количество многократно проверенных фактов. В основе его высказываний, его научных концепций, всегда в какой-то мере лежал его личный опыт. Вместе с тем, относясь с наибольшим уважением к фактическому материалу, он был и глубоко мыслящим естествоиспытателем и был свободен от ограниченности эмпиризма. Его наблюдения опирались на точные факты и всегда вырастали в глубокие обобщения, смелые заключения, открывавшие необычайные перспективы. Дело в том, что отдельные частные факты он всегда связывал с основными закономерностями, с более общими законами природы, теоретически осмысливал их с точки зрения передовых естественнонаучных идей. Отсюда проистекало то, что он видел дальше и глубже, чем другие естествоиспытатели. Отсюда возникали его казавшиеся порой смелыми умозаключения. Павлов выделялся ясностью, строгой последовательностью и глубиной теоретического рассмотрения явлений. Приведу как пример его высказывания на «среде» 31 октября 1934 года после имевшей место за день до того детальной беседы со мной: «Вчера в лабораторию приходил гистолог мозга из Института им. Бехтерева Л. Я. Пинес. Ему И. С. [Розенталь] дал для гистологического анализа мозги собак, которых он оперировал. Получены интересные факты. Я остановлюсь на одном факте, который имеет, очевидно, физиологическое значение и который нужно постоянно иметь в голове, когда мы говорим о деятельности коры. Это собака «Ночка», у которой были перерезаны оптикусы и которая жила после этого в лаборатории год четыре месяца… При гистологическом анализе мозга оказалась в высшей степени странная вещь, что у собаки в низшей инстанции, в соответствующей части corpora geniculata оказалось отчетливое разрушение как результат атрофии, в силу полуторагодичной недеятельности соответствующих рецепторов, между тем как в затылочных долях больших полушарий, т. е. в центральной высшей инстанции, никаких отклонений не обнаружилось. Это чрезвычайно интересный и на первых порах сложный факт, но его, однако, можно понять так, что в коре этот центр, пусть он не получал раздражения через оба рецептора, но он мог ассоциационно раздражаться сколько угодно, следовательно, его рабочее состояние поддерживалось. Этого не было в низшей инстанции. Думаю, что это единственное объяснение, никакого другого не придумаешь.
«Когда речь идет о слепых, глухих и т. д., нужно постоянно помнить, что деятельность центра коры поддерживается ассоциированными раздражителями и вместе с тем зависит от количества всех раздражений и иррадиации их».
Здесь, таким образом, мы видим, что Павлов прежде всего фиксирует свое внимание на фактах, которые ему представляются интересными и которые нужно «постоянно иметь в голове». Факты эти не впервые были нами установлены, а до нас были детально описаны Минковским. Хотя факты эти представляются ему сложными, но он дает им совершенно правильное объяснение как с точки зрения физиологии, так и морфологии. Не ограничиваясь объяснением фактов, он делает из них важные дальнейшие выводы в отношении слепых и глухих. В развернувшейся дискуссии Н. А. Подкопаев отметил, что Бергер у щенят зашивал веки и получал отклонения в зрительном корковом анализаторе. Позволим себе здесь добавить, что наблюдения Бергера были получены им на новорожденных незрячих щенятах. И. П. Павлов в ответ ему указал: «Я целиком полагаюсь на компетентность профессора Пинеса. Разница в изображениях совершенно очевидна». Причиной такого ответа является, конечно, не моя «компетентность», а то, что Иван Петрович имел возможность на демонстрированном материале убедиться в резких морфологических различиях, о чем он и говорит в ответе.
В начале 1932 года ко мне от имени И. П. Павлова обратились его сотрудники с просьбой исследовать мозг одного душевнобольного, погибшего в психиатрической клинике ВИЭМ, которым интересовался И. П. Павлов.
2 ноября 1932 года на заседании Психиатрической клиники я сообщал результаты проведенного мною исследования мозга этого больного А-дта, который находился в клинике с диагнозом «раннее слабоумие» (кататоническая форма). Больной этот был демонстрирован Павлову. Он болел всего 6 месяцев, болезнь протекала остро и бурно. Жизнь этого больного неожиданно прервалась – он покончил с собой. Ввиду того, что это был случай раннего заболевания, то его изучение представляло большой интерес; вместе с тем имелись и трудности в отношении трактовки гистологической картины. Вскрытие было произведено через 12 часов после смерти. Как известно, ряд авторов считает, что описываемые при «раннем слабоумии» изменения вообще не специфичны, не имеют отношения к сущности самого заболевания и объясняются тем, что больные погибают от побочных причин. Был применен ряд гистологических методов для исследования этого случая, причем исследованию подвергались многочисленные архитектонические поля: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 21, 38, 40, 41, 42, 43, 44 и др.
Для иллюстрации доклада были выставлены микроскопические препараты ряда корковых полей. Иван Петрович проявил большую заинтересованность; сам осматривал все препараты и просил изложить ему современные представления о функциях каждого из этих полей. Поразительно для меня было то, что Иван Петрович тут же живо вспомнил все те конкретные расстройства моторики, речи и более глубокие изменения психической деятельности, которые обнаруживал больной при жизни, тогда, когда он был показан Павлову Это свидетельствовало об исключительной памяти, которую он сохранял еще после 80 лет. Иван Петрович был весьма доволен осмотром микроскопических препаратов: «Очень хорошее совпадение клинических данных с морфологическим материалом», – повторял Иван Петрович. Когда после доклада и демонстрации начался обмен мнениями, И. П. Павлов прежде всего скромно заявил: «В этом отношении меньше всех могу сказать я, так как я этой частью очень мало занимался». Однако после того как в дискуссии приняли участие профессора А. Г. Иванов-Смоленский, А. К. Ленц, Ф. П. Майоров, Б. И. Бирман, П. А. Останков, Иван Петрович, который очень внимательно прислушивался к говорящим, сам выступил с рядом вопросов и замечаний по поводу доклада и обсуждения. Вопросы его касались локализации гистологических изменений как ареально, так и послойно в коре, связи корковых изменений с подкорковыми, значения ранней смерти. «В отношении локализации функций по слоям нужно сказать, что это такая тонкая штука, что до определения физиологического еще далеко». Возник спор по вопросу о том, как объяснить стереотипию, коркового или подкоркового она происхождения. Павлов подчеркнул, что стереотипии «наблюдаются в очень ранних фазах гипнотизации, когда еще до подкорки дело не дошло», что «это непременно корковое явление, негативизм и стереотипия идут рядом». Стереотипия «относится к двигательной области, обозначает слабость этой области. Так как тут кора больна, то и причину следует искать именно здесь».
Особенно настойчиво Иван Петрович возвращался к одному и тому же вопросу об обратимости гистопатологических изменений. «Я хочу Вам задать вопрос: мы знаем много случаев, когда кататоники выздоравливают; так вот, если взять такого выздоровевшего кататоника и потом умершего совсем от другой причины, так могли бы и у него констатировать такие изменения или у него в мозгу уже никаких изменений не было бы? С точки зрения гистопатологической и клинической выздоровевший и умерший от другой причины кататоник представляет эти отклонения или нет?».
Не удовлетворившись словами Останкова о том, что «даже более тяжелые случаи, например при прогрессивном параличе леченные лихорадкой, обратимы», Павлов заметил, что «на основании массы прежних материалов мы должны сказать, что изменения должны быть». Дальше он еще три раза возвращается к тому же вопросу, настойчиво спрашивая: «Установленные в данном случае микроскопические изменения могут идти назад или даже исчезнуть?». «Если говорить об этом случае, то можно ли с уверенностью сказать, что если бы этот больной поправился, то эта картина у него совершенно бы исчезла? Есть ли какие-нибудь доказательства в этом отношении?». «… Взять хотя бы случай с К-ным, 20 лет был кататоником, а потом поправился. Остается вопрос: ушли эти изменения или остались?». Своими оригинальными вопросами он ставил меня в тупик, но одновременно заставлял думать, выдвигая новые темы.
Не получив определенного ответа на свой вопрос, Павлов закончил это заседание следующими словами: «А все-таки этот материал насчет слоев еще долго будет разрабатываться. Жаль, что не представляется возможным перенести эти опыты в лабораторию».
С 1933 года Пинес заведовал лабораторией по изучению мозга в ИЭМ: «В 1933 году с «благословения» Ивана Петровича и сотрудников его по физиологической лаборатории ВИЭМ была организована под моим руководством лаборатория архитектоники коры мозга, которая работала в контакте с руководимым Иваном Петровичем Отделом физиологии ВИЭМ. Организацией этого мы обязаны директору ВИЭМ Л. И. Федорову и сотрудникам Павлова – И. С. Розенталю и Ф. П. Майорову.
В 1935 году в связи с переводом Отдела морфологии ВИЭМ в Москву Иван Петрович предложил мне включиться в работу в качестве заведующего гистологической лабораторией Физиологического института Академии наук. По его поручению в конце 1935 года ко мне приезжал И. А. Подкопаев с соответствующим предложением. Я дал свое согласие Ивану Петровичу».
С 1936 по 1950 год Пинес – заведующий гистологической лабораторией Института физиологии им. И. П. Павлова Академии наук СССР.
Профессор, заслуженный деятель пауки РСФСР (1949).
Пинес был клиницистом-невропатологом и нейроморфологом и проводил исследования по морфологии и физиологии нервной системы, в том числе иннервации эндокринных желез, локализации вегетативных центров в спинном и головном мозге. Выдвинул концепцию о путях корковой регуляции функций внутренних органов.

САМОЙЛОВ Александр Филиппович (1867–1930)
Военно-медицинская академия
1892–1894
Совместная работа
Родился в Одессе. После окончания гимназии поступил в 1884 году на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета, но с 3-го курса перевелся на медицинский факультет Дерптского университета. После получения врачебного диплома около года работал по ликвидации заболеваний холерой в Тобольске. В декабре 1891 году защитил диссертацию на степень доктора медицины по вопросу о превращениях железа в организме.
С осени 1892 года в продолжение двух с лишним лет Самойлов (в качестве младшего медицинского чиновника) работал практикантом в Физиологическом отделе ИЭМ в Петербурге. Под руководством Павлова он занимался изучением влияния длительных режимов питания на желудочную секрецию, а в особенности определением расщепляющей силы желудочного сока по способу С. Г. Метта (1893).
Вот какие впечатления о стиле научной работы Павлова и его приемах эксперимента оставил Самойлов: «30 лет тому назад я, совсем еще молодой человек, впервые вступил в лабораторию И. П. Павлова в Институте экспериментальной медицины, где провел больше трех лет, часть этого времени выполняя обязанности ассистента. Об Иване Петровиче тогда уже начали говорить. Уже было сделано мнимое кормление, произведено усовершенствование экковского свища. На моих глазах было достигнуто в лаборатории несколько крупных завоеваний: доказано действие кислоты на отделение поджелудочного сока и осуществлена операция маленького желудка, или «желудка-свидетеля».
На первых же порах моего знакомства я был поражен императивным темпераментом, силой и мощью научного облика Ивана Петровича. В задачах, которые он себе ставил, и в ухватках при их выполнении чувствовалась какая-то отвага, и если бы я не опасался, что меня могут неправильно понять, то я сказал бы – удаль. Когда он утром входил или, вернее, вбегал в лабораторию, то вместе с ним вливалась сила и бодрость, лаборатория буквально оживала, и этот повышенный деловитый тонус и темп работы держались на той же высоте вплоть до позднего вечера, когда он уходил; но и тогда еще, у дверей, он быстро давал иногда наставления, что еще следует непременно сегодня же сделать и с чего начать завтрашний день. Он вносил в лабораторию всего себя, и свои мысли, и свои настроения. Все, что им было вновь надумано, обсуждалось совместно со всеми сотрудниками. Он любил споры, он любил спорщиков, он подзадоривал их. Он любил споры потому, что во время дебатов ему самому нередко еще лучше вырисовывалась какая-нибудь новая, еще только замеченная идея, острее оттачивалась новая мысль, отшлифовывался какой-либо новый изгиб ее. Для молодых же ученых лучшей школы, чем эти дебаты и споры, вероятно, и не придумать.
Однажды, вскоре после моего вступления в эту лабораторию, я сидел в библиотеке Института и читал какую-то статью. Вошел Иван Петрович. Он начал быстро перебирать новые журналы. Я видел, что он остался чем-то недоволен. Держа в руках книжку журнала, он перечитывал заголовки статей и сказал в сердцах: «Да, если работать над такими вопросами и над такими объектами, то далеко не уедешь». Он бросил книжку на стол и, уходя, еще добавил: «Не смотрели бы мои глаза на все это».
Я был очень озадачен. Сейчас же я взял брошенную книжку и стал рассматривать ее содержание. Там излагались исследования над отдельными клетками, мышцами, нервами, трактовались вопросы о природе возбуждения, о проводимости. Мне все это казалось тогда в высшей степени интересным и ценным. Признаюсь, что и теперь, через 30 лет, я смотрю на это, как и тогда. Общая физиология возбудимых тканей оправдывает свое существование и не нуждается в специальной защите. Но мне кажется, я понимаю, что руководило Иваном Петровичем, когда он так неодобрительно и даже неприязненно относился к упомянутому направлению физиологических исследований.
Все эти исследования, которые касались уединенных частей тела, казались ему слишком оторванными от животного механизма в целом, от целого организма, они казались ему слишком абстрактными, отвлеченными, они казались ему несвоевременными, они не стояли в его представлении на очереди. Его талант увлекал его совсем в другую сторону, и это великое счастье для науки, что Иван Петрович умел и дерзал отметать многое из тех направлений в физиологии, которые были у него на пути. Он тем полнее мог отдаваться тому направлению, которое его влекло. Область явлений, где он чувствовал себя легко и свободно, охватывает все животное целиком, в его связи с окружающей и воздействующей на него средой, и в этом влечении сказывается сильный биологический уклон дарования Павлова. Он выше всего ставит эксперимент над целым ненаркотизованным животным, над животным с его нормальными реакциями на раздражение, над животным бодрым и жизнерадостным. Я помню, как он с удовольствием смотрел на собак с эзофаготомией и желудочным свищом, вбегавших радостно в комнату в предвкушении приятности мнимого кормления. Он гладил, ласкал собак и неоднократно говорил: «И где у людей головы, если они могут думать, что между нами и животными качественная разница. Разве у этой собаки глаза не блестят радостью? Почему не исследовать феномен радости на собаке; здесь все элементарнее и потому доступнее».
И в продолжительных беседах, спорах Иван Петрович неоднократно затрагивал тему о том, почему наиболее реальные жизненные результаты можно извлечь из опытов над целым животным, в котором все процессы протекают вполне нормально. По этому поводу он высказывался и печатно».
И дальше: «…все симпатии Ивана Петровича на стороне, как он выражается, органной физиологии. В этом влечении его одна из существенных сторон исследовательского облика Ивана Петровича. Понять причину этого влечения – значит, понять основные черты его таланта.
В сторону изучения функций животного в целом Павлова увлекал прежде всего особенный характер его экспериментального искусства. Иван Петрович, несомненно, гениальный хирург, но направивший свое хирургическое дарование не в сторону клиники, а в сторону физиологических изысканий. Он – гениальный хирург не только в смысле неподражаемой хирургической техники, но и в смысле изобретательности хирургических заданий и планов. Он, несомненно, создал и привил в физиологии новое, если можно так выразиться, хирургическое направление.
Для того чтобы исследовать физиологические особенности данного органа, можно идти прежде всего такими путями.
Можно, во-первых, удалить из тела данный орган и следить за тем, какие недочеты проявляет животная машина, лишенная данного органа. Этот прием применяется уже издавна в физиологии. Но Иван Петрович при помощи своей техники, хирургической изобретательности и физиологического умения осуществил при этом такие приемы, которые до него никому раньше не удавались. Операция экковского свища, достигающая выведения из строя печени, была настоящим образом впервые осуществлена им. В эту же категорию удаления частей тела я поставил бы и иссечение обоих блуждающих нервов – операция, которая манила многих, но удалась впервые И. П. Павлову, так как он знал на основании своих исследований некоторые особенные стороны функций блуждающего нерва, которые другим были неизвестны, и потому знал, как предостеречь животное от губительного влияния недочетов, связанных с устранением функций этого нерва. Его собака (знаменитый «Вагус») с перерезанными блуждающими нервами жила более Р/2 лет и затем была убита для исследования перерезанных нервов.
Второй прием, практиковавшийся Иваном Петровичем еще более ревностно, – это, так сказать, прием просверливания отверстия в какой-либо полостной орган для того, чтобы следить за тем, что совершается в этом органе. Отсюда берет свое начало весь ряд фистул органов пищеварительного канала со всеми их сложнейшими комбинациями друг с другом, в производстве которых Павлов не имеет себе соперников. Я был свидетелем разработки операции так называемого маленького желудка. Я помню, как очаровывала меня смелость и вера Ивана Петровича в правильность надуманного им операционного плана. На первых порах операция не удавалась, было загублено около 30 больших собак, было затрачено без результата много трудов, много времени, почти полгода, и малодушные теряли уже бодрость. Мне припоминается, что некоторые профессора родственных физиологии дисциплин утверждали тогда, что эта операция не может и не будет иметь успеха, потому что расположение-де кровеносных сосудов желудка противоречит идее операции. Над такими заявлениями Иван Петрович смеялся и хохотал так, как умел хохотать один только он; еще несколько усилий, и операция стала удаваться.
…Влечение И. П. Павлова в сторону исследования цельного животного объясняется, однако, не одним только техническим его дарованием, давшим ему в этой области такой простор. Мы встречаемся здесь с соотношениями гораздо более серьезными. Мы теперь приближаемся, в сущности, к наиболее центральному пункту нашей темы.
В устройстве и в функциях организма, в приспособленности организма к окружающим условиям, в приспособленности его к восприятию раздражения со стороны внешнего мира, в приспособленности его реакции на эти раздражения существует ярко выраженная целесообразность. То, что составляет самую сильную сторону таланта Ивана Петровича, есть его совершенно непостижимая способность проникать во все тайники этой целесообразности. Дар его интуиции, дар нащупывания, отгадывания истин в области сложных реакций и соотношений организма совершенно исключителен и единствен в своем роде – кажется, что сама истина идет ему навстречу. Мы встречаемся здесь с даром непосредственного, как бы поэтического откровения».
С осени 1894 года по приглашению И. М. Сеченова Самойлов перешел старшим лаборантом на кафедру физиологии Московского университета. В 1896 году был избран там же приват-доцентом. В университете он смог заняться исследованиями в области физической физиологии. Им была выполнена вместе с известным физиком И. А. Умовым работа об электрических образах в поле трубок Гитторфа. Совершенствуя методические приемы профессора Л. 3. Мороховца, он опубликовал статью о фоторегистрации колебаний мениска ртути в капиллярном электрометре Липманна. Затем Самойлов дал ряд сообщений об акустических свойствах гласных звуков.
В годы работы на кафедре Сеченова Самойлов имел научные командировки в Германию в лаборатории известного электрофизиолога профессора Лудимара Германа (Ludimar Hermann, 1838–1914) (1896) и выдающегося знатока органов чувств И. Криса (1898). Из этих лабораторий вышло несколько работ Самойлова.
Как опытный и одаренный исследователь, в 1903 году Самойлов был избран заведующим кафедрой физиологии, зоологии и сравнительной анатомии физико-математического факультета Казанского университета, которую занимал до своей кончины. В конце 1924 года его избрали (по совместительству) заведующим кафедрой физиологии биологического отделения Московского университета. В связи с этим ему пришлось каждый семестр с 1925 года ездить один раз в Москву для чтения курса лекций по электрофизиологии. В 1929 году Самойлов (после смерти профессора Н. А. Миславского) возглавил кафедру физиологии медицинского факультета Казанского университета.
Самойлов в Казани энергично развивал физическое направление в физиологии. Блестяще владея инструментальной техникой, Самойлов проводил исследования на чрезвычайно высоком методическом уровне. В предреволюционные годы он, с помощью струнного гальванометра Эйнтховена, выполнил ряд превосходных исследований сердечных токов действия (1907–1917). Эти исследования дают право считать Самойлова одним из основателей электрокардиографии. Самойлова также интересовала физиология нервно-мышечного препарата: он открыл замедление проводимости в нерве в относительную рефрактерную фазу (1912), высказался (на основании экспериментов вместе с сотрудниками) против двойной иннервации волокон скелетных мышц (1924), измерил температурный коэффициент передачи импульса в нервно-мышечном синапсе и сделал заключение о вероятности химической природы процессов проведения в синапсе, сообщил материалы о структуре одиночного тетанизированного сокращения H. Е. Введенского (1930).








