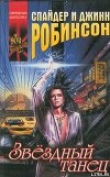Текст книги "Бесчестие миссис Робинсон"
Автор книги: Кейт Саммерскейл
Жанр:
Эротика и секс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Изабелла и Эдвард пошли по тропинке, ведущей вверх, в лес на склоне над пещерой, и выбрались на вершину холма, поросшую папоротником-орляком, дроком и вереском. С одной стороны лежали руины аббатства Уэйверли, с другой – спелые поля хмеля и папоротниковые пустоши Фарнема. Ветерок доносил чистый запах лесной сосны и острый сладкий аромат дугласовых пихт.
«Наконец я предложила отдохнуть, – писала Изабелла, – и мы сели на плед и стали, переговариваясь, читать «Атенеум». Было что-то новое в его манере держаться, что-то более мягкое по сравнению с обычным тоном и взглядом, но я не знала, чем это вызвано, и весело болтала, направляя разговор – говорила о Гете, женском платье и о том, что к лицу и удобно». Изабелла добродушно подшучивала над Эдвардом, перепархивая с интеллектуальных тем на фривольные, на вопросы, касавшиеся ума и тела, желания и пристойности. Упомянув Гете, она коснулась струнки неприличия. Самый известный роман Гете «Страдания юного Вертера» рассказывал о молодом человеке, одержимом женой своего друга, а его «Избирательное сродство», переведенное на английский язык в 1854 году, исследовало встречные токи притяжения между двумя парами в сельском поместье. В номере «Атенеума» от 23 сентября была напечатана положительная рецензия на любовную лирику Гете, в которой критик воображал, что читательницы-дамы посчитают его «виновным как ужасную кокетку».
«Мы пошли дальше, – продолжила Изабелла, – и снова уселись на краю непревзойденной красоты. Солнце мягко светило на нас, папоротник, желтый и бурый, примялся под нами, группы красивых старых деревьев служили украшением ближайшего участка, а вдалеке мерцали синие холмы. Я отдалась наслаждению. Откинулась на какой-то крепкий сухой куст вереска и смеялась, и вставляла замечания, что редко делала в его присутствии». Пока она с удовольствием отдыхала на поросшей кустарником пустоши, мир природы, похоже, сговорился с ней: солнце грело кожу, деревья и холмы украшали вид, вереск льнул к ее телу.
А потом случилось нечто из ряда вон выходящее: фантазии, которые Изабелла взращивала в своем дневнике, шагнули в жизнь. «Внезапно, – писала она, – когда я шутила с моим спутником по поводу слабости его памяти, он наклонился ко мне и воскликнул: «Если вы еще раз это скажете, я вас поцелую». Ясно, что я не стала возражать, ибо разве не грезила я о нем и об этом бесчисленное множество раз прежде?» С поцелуем доктора напряжение и подтрунивание исчезли, и Изабелла погрузилась в состояние восторженного изумления. Она вошла в мир, где мечты стали реальностью, а реальность совпала с мечтами. «Я смутно помню, что последовало за этим – страстные поцелуи, шепот, признания о прошлом. О Боже! Я никогда не надеялась дожить до этого часа или получить ответ на свою любовь. Но это случилось. Он нервничал, смущался и жаждал, как и я».
«Наконец мы встали, – писала она, – и продолжили прогулку счастливые, напуганные, почти не разговаривая. Мы медленно дошли, не обращая внимания, куда идем, до сосновой рощи, и там нам открылся новый вид, такой же прекрасный, как на этой стороне, но шире».
Спустившись в парк, они увидели сестер Браун, эдинбургских знакомых, живших в самом доме. Изабелла и Эдвард «посчитали необходимым медленно к ним присоединиться. Они ничего не заметили – мы были в безопасности. Заставив себя поговорить с ними, нам удалось развеять все подозрения, и до дома мы дошли вместе, но опоздали к обеду».
Изабелла поднялась в свою комнату, чтобы подготовиться к трапезе. В столовую она спустилась «раскрасневшаяся и взволнованная, – написала она, – и мы с доктором Л. едва встречались взглядами и разговаривали». К облегчению Изабеллы, собрат-пациент – «мистер С.» – сел рядом и беседовал с ней за столом, а потом она с детьми и Эдвард и Мэри Лейн проводили его в экипаже до железнодорожной станции. Изабелла втайне лелеяла свою тайну. «Поехало нас, пожалуй, многовато, но чувство скрытого счастья и удовлетворения согревало мне сердце. На обратном пути мы разговаривали, но на отвлеченные темы, и дорогая маленькая, ничего не подозревающая миссис Л. сидела рядом со своим прелестным младенцем, который спал, укрытый ее плащом».
Днем Изабелла оказалась на конном дворе с Мэри Лейн и Отуэем и вскоре после этого «потеряла всех из виду», кроме Стенли, няня которого отлучилась, «и в доме я никого не могла найти». Ее младший сын «бегал по моей комнате до сумерек». Затем она «прилегла и вздремнула, совершенно ошеломленная происшедшим и воспоминаниями». Ей принесли свечу, чтобы она могла переодеться к вечернему чаю, для которого она выбрала платье из бледно-голубого шелка. «Выглядела» она «хорошо», заметила Изабелла. «Я встретилась с его взглядом, когда вошла (при звуке гонга) в столовую, и я знала, что за мной наблюдают».
После чая «какое-то время прошло бесцельно». Большая часть гостей переместилась в гостиную на втором этаже, но Изабелла задержалась. «Я вышла вместе с Альфредом в коридор, не желая подниматься наверх, если больше не смогу увидеться с ним наедине». В итоге леди Дрисдейл пригласила ее в библиотеку, где Эдвард и нашел ее, когда вошел в дом со стороны конного двора. Он «замерз, дрожал, нервничал и казался заболевшим», отметила Изабелла. Альфред отправился наверх, чтобы послушать, как одна из сестер Браун будет читать историю про привидения. Эдвард и Изабелла уединились в его кабинете.
Кабинет доктора был угловой комнатой, примыкающей к столовой, с окнами на реку и на солнечные часы сэра Уильяма Темпла. Вечером, при закрытых ставнях и дверях, с затопленным камином здесь было уютно и тепло. Стены и двери были обиты горизонтальными панелями красного, с богатой текстурой дерева, такими гладкими и точно подогнанными, что двери, когда их закрывали, словно бы исчезали, угадываясь лишь по тонким желобкам, прорезанным в панелях, и по блеску отполированных прикосновениями дверных ручек. Двери были двойные, разделенные пространством в несколько футов – узким, не шире буфета тамбуром, надежно отгораживавшим кабинет от звуков в доме, а дом – от звуков в кабинете.
Эдвард и Изабелла подошли к огню. «Я не знаю, как прошел вечер», написала Изабелла, поскольку утратила чувство времени и забылась. «Он был полон страстного волнения, долгих и крепких поцелуев и нервных ощущений, к которым примешивался страх вмешательства. Однако блаженство преобладало». Эдвард, написала она, «был особенно нежен, успокаивал мое волнение и ни на минуту не забывал, что он джентльмен и добрый друг». В какой-то момент в дверь кабинета постучал Альфред, прервав их объяснения в любви. Он сказал доктору, что один из его сыновей попросил Эдварда прийти к нему в спальню. Эдвард пошел наверх – «неохотно», заметила Изабелла. Когда же вернулся, она находилась в некоем экстазе. Он «тихонько поцеловал мои закрытые глаза, – писала она. – Я попыталась поднять поникшую голову, но напрасно». Эдвард встревожился. «Наконец, – по словам Изабеллы, – он совсем перепугался, что кто-нибудь войдет, и посоветовал мне уйти». Покидая кабинет, писала Изабелла, «я пригладила растрепавшиеся волосы и через несколько мгновений входила в гостиную, в половине десятого. К счастью, там сидело всего несколько гостей. Никто не имел права расспрашивать меня о моем отсутствии или появлении».
В гостиной Изабелла принялась изучать книгу автографов и болтать с одним из гостей. Эдвард и Мэри вошли вместе, за ними вскоре последовала и леди Дрисдейл. «Какое я пережила приключение! Какой спокойный вид сумела принять! Завязался общий разговор. Я обернулась, чтобы послушать, и доктор Лейн прочел для мисс Б. несколько лучших од Байрона. Когда они пошли, я тоже поднялась и уже уходила, но тут доктор Л. тепло пожал мне руку, настолько тепло, что мои перстни впились мне в пальцы, и след оставался еще в течение часа». Эдвард вжал кольца в ее плоть, словно пытаясь пробудить ее для силы его желания, реальности их нового договора. Воспоминания о случившемся снова захлестнули ее, к эйфории примешивался страх.
«Увы! – заканчивалась запись от 7 октября. – Той ночью я спала мало, просыпалась, вставала, грезила – и медленно наступило утро».
На следующее утро Изабелла чувствовала себя измученной. Из спальни она услышала разговор Эдварда с женой. Позднее он пришел в ее апартаменты, чтобы показать длинное письмо, которое написал потенциальному пациенту в Эдинбург. «Письмо было составлено хорошо», – отметила Изабелла. Она вернулась в постель. «Я легла, усталая, измученная, нервничающая. Он постучал в дверь в половине первого и предложил мне спуститься вниз и погулять, но я отказалась и заснула». Вскоре после этого к ней заглянула Мэри, и Изабелла решила одеться.
Изабелла «медленно вышла на улицу», чтобы присоединиться к Эдварду. Они встретились внизу у лестницы, а затем «пошли куда глаза глядят вместе, прошли по всему парку и вдоль воды, однако почти не разговаривая, поскольку оба чувствовали себя усталыми и обессилевшими. Я сослалась на бессонницу, он сказал, что его мучают боли и он вообще едва встал. Оба испытывали волнение, смятение, нервничали, и я спросила его, почему он так вел себя в воскресенье». Изабелла захотела выбраться из тихой, узкой долины. «Я предложила уйти из парка (поскольку воздух был жарок и влажен) на холм, где дул ветерок. Мы медленно поднялись по склону, и я села отдохнуть среди высохшего папоротника. Не стану излагать, что было дальше».
Отказываясь описывать самые интимные моменты, Изабелла придерживалась избитой литературной традиции. Только что помолвленная героиня романа Фанни Берни «Эвелина» (1778) торжественно заявляет: «Я не могу описать последовавшую сцену, хотя каждое слово запечатлено в моем сердце». Формулировка намекала, что существуют действие и чувства слишком священные – или нескромные, – чтобы доверить их бумаге; она замалчивала чувственность и пристойность, выполняя своего рода трюк, с помощью которого жеманная героиня получала через молчание возможность быть одновременно страстной и приличной – ревниво оберегая частную жизнь свою и своего возлюбленного, уважая деликатные чувства своего читателя.
Изабелла и Эдвард «вскоре поднялись несколько успокоившиеся и приободрившиеся» и вернулись в дом «быстро, боясь слишком запоздать». За обедом Изабелла снова избегала беседовать с Эдвардом. «Насколько это было возможно, я обращалась к леди Дрисдейл, потому что присутствовало совсем мало гостей, и отворачивалась от него, вынуждая вести разговор с мисс Т.». После обеда она совершила «приятную длинную прогулку» с Эдвардом в экипаже к заброшенному аббатству Уэйверли, позади них сидели сестры Браун.
Два дня спустя – в среду 10 октября 1854 года, в день, когда Эдварду Лейну исполнился тридцать один год, – Изабелла должна была уезжать. Они с Эдвардом гуляли по парку. Доктор остановился, чтобы поговорить с другим пациентом, а потом догнал Изабеллу и ее старшего сына «рядом с оградой». Они направились в лес, «держась обычного круга, идя по дорожкам необыкновенной красоты, которых я раньше не видела, добравшись до внешнего соснового бора и, наконец, вернувшись мимо коттеджа Свифта и по нижней дорожке». Здание, называемое коттеджем Свифта, было прежде домом его возлюбленной Эстер и стояло на главной дорожке между Мур-парком и аббатством Уэйверли. К 1854 году коттедж зарос розовыми кустами и мхом, был увит клематисами и девичьим виноградом; табличка снаружи гласила: «Продается имбирное пиво».
«Мы разговаривали с предельной откровенностью, но как-то спокойнее, – написала Изабелла. – Я умоляла его поверить, что со времени моего замужества никогда прежде ни в малейшей степени не нарушала нравственных законов. Он утешал меня в том, что я сделала теперь, и умолял простить себя. Сказал, что я всегда ему нравилась и он с жалостью думал о моем неудачном замужестве, поскольку мой муж, несомненно, мне не пара и обладает, как он ясно видел, характером вспыльчивым и неприятным».
Эдвард напомнил Изабелле об уязвимости собственного положения. «Мы говорили о его молодом возрасте, тридцать один год [68]68
Изабелла не упомянула, что это был день рождения Эдварда, хотя ссылка на его возраст могла быть вызвана этим фактом. Если ему исполнился тридцать один год, то родился он в 1823 году, но позднее он свидетельствовал, что дата его рождения – 10 октября 1822 года, следовательно, в феврале 1844 года ему был двадцать один год, то есть Лейн был достаточно взрослым, чтобы на него отписали часть отцовского состояния; это стало жизненно важным в 1864 году, когда состояние делили после смерти Элиши Лейна и дети его второй жены (на которой он женился в Монреале в 1848 году) заявляли, что все принадлежит им. См. «Юрист Нижней Канады», том VIII (1864).
[Закрыть], доброй, лишенной подозрительности натуре его жены, ради которой он скорее даст отрубить себе правую руку, чем обидит ее». Они переходили к вопросу о несчастливости Изабеллы – «моего частого горького страдания и желания смерти», – когда появились леди Дрисдейл и Мэри Лейн. Они пришли справиться у Изабеллы, не заказать ли экипаж, чтобы отвезти ее на станцию. Жена доктора и теща держались тепло и доверительно, как всегда. «Они любезно выслушали мое решение уехать часов в 7 и снова ушли без единого холодного или недовольного взгляда, и это при том, что мы гуляли рука об руку по уединенному лесу и серьезно беседовали».
В семь часов тем вечером Изабелла поехала с Эдвардом на станцию в Эше в крытом одноконном экипаже: они с Эдвардом сидели внутри узкой повозки, а Альфред примостился рядом с кучером наверху. Ее младших сыновей с ними не было – возможно, они уехали вперед с няней.
«Никогда я не переживала столь счастливого часа, как последующий, – писала Изабелла, – наполненного таким блаженством, что я готова была умереть, лишь бы он не кончался. Я не расскажу всего, что произошло, достаточно будет сказать, что я наконец-то лежала в объятиях этих рук, о которых так часто грезила, и молча радовалась, и целовала локоны и гладкое лицо, блистающее красотой, ослепившее мой внешний и внутренний взор с самого первого нашего разговора 15 ноября 1850 года». Похоже, Эдвард, чьи поцелуи довели ее до ослепления мягкими кудрями и кожей, мужчина из плоти и крови, сливался с кумиром ее мечтаний.
Поцелуи перемежались признаниями. «Мы перебрали все минувшее, объяснив его», – писала Изабелла. Эдвард сказал ей, что скрывал свои истинные чувства «по соображениям благоразумия» и сдерживание их причиняло ему «много боли». Изабелла напомнила ему некоторые строки из французского романа «Поль и Виржиния», которые она прочла гостям Мур-парка, и призналась, что выбрала их как послание к нему. Роман Жака-Анри Бернардена де Сен-Пьера (1787) описывал великую любовь между девушкой и юношей, воспитывавшимися вместе на острове Маврикий; узнав о смерти Виржинии, Поль умирает от горя.
Эдвард «всегда знал, что нравился мне, – продолжала Изабелла, – но не знал полной силы моего чувства из-за того, что я никогда не выражала его открыто. Это принесло мне облегчение. Большего блаженства, чем в те моменты, я не испытала бы и на небесах. Пока будет длиться жизнь, воспоминания о них не изгладятся из памяти, полной большого страдания и малого счастья; как ласков, как благороден он был – как мало в нем эгоизма!»
Хотя Изабелла нарисовала романтическую, нежную сцену, декорации были явно компрометирующими. Путеводитель по проституции конца XVIII века «Список дам Ковент-Гардена, или Годовой календарь сибарита» рекомендовал для незаконных свиданий кареты. «При правильном размещении колебания кареты, сопровождаемые время от времени очаровательными маленькими толчками, значительно увеличивают наслаждение критического момента». К 1838 году, сообщает «Крим кон газет», уполномоченные лондонских наемных экипажей были настолько встревожены развратом, творившимся в их каретах, что предложили совсем запретить в них жалюзи и подушки, чтобы уменьшить как уединение, так и удовольствие. Поведение Изабеллы в карете было особенно бесстыдным: ребенок, ее сын, сидел на крыше, пока они с Эдвардом Лейном шептались и обнимались внутри.
Когда Изабелла с безмятежным видом описывала эти сцены в своем дневнике, возможно, на виду у детей и мужа, никто не мог предположить, какие образы теснились в ее голове и на страницах тетради. Фиксируя свои встречи в тайной книге, она воскрешала в памяти трепет нарушения закона, трепет наслаждений, остроту которым придавала опасность разоблачения.
Глава шестая
Будущее – ужасно
Булонь и Мур-парк, 1854–1856 годы
В конце октября 1854 года, когда не прошло и нескольких недель после ее свиданий с Эдвардом Лейном, Изабелла и ее семья уехали из Англии во французский рыболовецкий порт Булонь-сюр-Мер, где сняли на зиму дом. В булонском порту [69]69
О Булони см. Ч. Диккенс «Наш французский курорт» в «Хаусхолд уордс» от 4 ноября 1854 года.
[Закрыть]пассажиров с парового парома загоняли в таможню для проверки паспортов, а затем их встречал на набережной натиск шумных агентов из отелей и пансионов: «Отель “Европа”! Гостиница “Купальня”! Гостиница “Лондон”!» Чуть дальше, на деревянной пристани, рыбаки разбирали свой улов и плели сети.
Изабелла поселилась с Генри, сыновьями и слугами в трехэтажном доме номер 21 по улице Зала для игры в мяч. Здание составляло часть крутой террасы, идущей вдоль северной стороны Тинтеллери – прекрасного парка на склоне холма, где ежедневно во второй половине дня совершали променад модные экспатрианты, разодетые в шелка и атлас. «На зиму мы обосновались на очень приятной площади в Булони, – писала Изабелла Джорджу Комбу, – и мальчики регулярно ходят в школу в главный колледж города». После увольнения Джона Тома Альфред и Отуэй недолго посещали дневную школу в Беркшире. Теперь они присоединились к значительной группе британских мальчиков в городском муниципальном колледже, либеральном заведении, где, как надеялись их родители, они приобретут хорошее знание французского языка [70]70
Школа была примечательна тем, что в ней не применялись телесные наказания, согласно «Путеводителю Мерридью для посещающих Булонь» М. Мерридью (1864).
[Закрыть].
В Булони жили более семи тысяч британцев [71]71
По данным «Путеводителя для путешествующих по Франции» Мюррея (1854).
[Закрыть], составляя четверть от общего числа населения, и еще сто тысяч посещали город каждый год, приезжая из Фолкстона. По сравнению с другими городами Северной Франции Булонь была оживленной, даже космополитической, а стоимость жизни на континенте была дешевле, чем в Англии. Разгар сезона приходился на осень, когда небо по эту сторону Ла-Манша казалось более голубым. В Булони имелись две английские церкви, два английских клуба (с бильярдом, карточными столами и британскими газетами) и две английские читальни с библиотечными абонементами. Некоторые приехавшие из Британии были беспутными людьми, скрывавшимися от долгов или скандала, другие приезжали поправить здоровье. Привезя сюда семью, когда строительство нового дома в Беркшире закончилось, Генри Робинсон мог надеяться на улучшение здоровья жены, французского своих сыновей и собственных финансов.
Чарлз Диккенс жил в Булони за месяц до приезда Робинсонов. В ноябрьском номере журнала «Хаусхолд уордс» он объяснял притягательность этого курорта. «Это яркий, веселый, приятный, радостный город; и если вы прогуляетесь по одной из его трех хорошо вымощенных главных улиц ближе к пяти часам пополудни, когда воздух насыщен тонкими кулинарными ароматами, а в окна его гостиниц (а гостиниц там множество) можно увидеть длинные, накрытые к обеду столы, коим сложенные в виде вееров салфетки придают роскошный вид, вы справедливо рассудите, что это необыкновенно хороший город, чтобы поесть и выпить». На эспланаде гости смотрели в подзорные трубы на меловые английские скалы на другой стороне канала. При хорошей погоде они заезжали с пляжа в море в деревянных купальнях. Диккенс был очарован рыбацким кварталом Булони, «где через узкие, взбирающиеся на холмы улицы висели огромные коричневые сети». Кричали на крышах чайки, и порывы ветра разносили по переулкам запах рыбы.
Улица, на которой жили Робинсоны, поднималась к старому, обнесенному стеной городу на вершине холма, который Диккенс сравнил со сказочным замком, окружающие дома коренились в глубоких улицах, как бобовые стебли. Город, казалось, был наводнен детьми, заметил он в очерке «Наш французский курорт». «Английские дети с гувернантками, читающими романы и прогуливающимися в тени аллей, или с нянями, сидящими и сплетничающими; французские дети с их улыбающимися боннами в белоснежных чепцах». Альфред, Отуэй и Стенли пополнили ряды этой детворы.
В ноябре того года на побережье Северной Франции обрушился ряд штормов, знаменуя начало холодной зимы. Генри вернулся в Англию, где провел большую часть следующих месяцев, надзирая за бизнесом в Лондоне и строительством дома в Кавершеме. Погода по эту сторону Ла-Манша была еще суровее: Темза замерзла, а морозы в Беркшире замедлили работы по сооружению дома. Приехав на несколько дней в Булонь в феврале 1855 года, Генри сказал жене, что въехать в новый дом удастся не раньше июня.
Может, Изабелла и надеялась спастись в Булони от мелочных ограничений беркширского общества, но чувствовала себя в ужасной изоляции. Эдвард редко писал ей, и в дневнике она оплакивала свой «злополучный склад ума, цеплявшийся за тени и заблуждения» [72]72
Процитировано в решении Кокберна от 2 марта 1854 года.
[Закрыть]. В письме к Джорджу Комбу она приписала свое злополучие упадку духа. Не имея веры в Бога, которая поддержала бы ее, делилась Изабелла, она не знала, где найти поддержку или смысл жизни – у нее не было «ничего радостного, выдающегося и утешительного» для замещения надежды на Небеса. В ее мольбе был намек на упрек: последовав рациональным принципам Комба, она обрела только пустоту. Такие, как он, достигшие больших вершин, могли «утешаться чувством, что не зря прожили жизнь», писала Изабелла, но она и бесчисленные другие женщин, «которые просто тихо существуют, воспитывают детей (может быть), следуя по бессмысленным стопам тех, кто прошел перед ними – какой мотив – какая надежда, достаточно сильная, может найтись, чтобы помочь им пережить испытания, раздельное проживание, старость и саму смерть?» Она не вдавалась в подробности нынешних причин своих душевных страданий, но «испытания» и «раздельное проживание», о которых писала, были скрытыми ссылками на разлуку с Эдвардом. Она добавила: «По мне, так лучше вообще никогда не жить, чем двигаться через невежество и трудности в страну полного уничтожения».
Она попросила прощения за свою мрачность. «Дорогой мистер Комб, я должна умолять вас о прощении за все это. Думаю, вы скажете мне, что я больна – и, следовательно, неважный судья в таких вещах, – или другие умы, лучше организованные, не чувствуют того, что чувствую я». Но ей некого было попросить о помощи. «Лишь от вас одного ищу я сообщений или укора».
Комб быстро написал ответ. «В порядке ли ваше физическое здоровье? – спросил он. – Под воздействием желтухи глаз видит все предметы желтыми, а человек с низким тонусом воспринимает все творение темным и безутешным. Подобно вам, это случается и с традиционно верующими. Из их дневников вы можете узнать, как при таком же состоянии здоровья они отчаиваются в спасении, и они делаются гораздо несчастнее вас, ибо тогда перед ними разверзается ад, а в вашем случае его врата хотя бы закрыты». Комб настаивал, что страх верующего перед адом хуже, чем ее ужас перед «страной полного уничтожения». Он рекомендовал ей перестать так много думать. «Интеллект сам по себе не заполняет пустоту, возникшую от неудовлетворенного желания». Прагматично, пусть и ханжески, он посоветовал Изабелле дать выход ее энергии через благотворительность. Чтобы отвлечься, говорил он, следует делать что-то полезное – как монахини, работающие в больницах. «Для счастья мы должны любить бескорыстно и являть нашу любовь через добрые дела».
Возможно, Комб имел в виду пример Флоренс Найтингейл, знакомой его большого друга сэра Джеймса Кларка, который в 1853 году помог ей вырваться из стесняющих ее жизненных обстоятельств с помощью учебы на сестру милосердия у «Дочерей милосердия» в Париже. Мисс Найтингейл разделяла в своей работе «Как нужно ухаживать за больными» (1860) медицинскую философию Эдварда Лейна. «Природа лечит без посторонней помощи, – говорила она. – Уход за пациентом состоит в том, чтобы поместить его в наилучшие условия, в которых над ним потрудится природа». 10 октября 1854 года – в день, когда в дневнике Изабеллы появилась запись о поцелуях, – Найтингейл покинула дом, держа путь в Крым, где Англия, Франция и Турция с весны вели войну с Россией. Военные действия ужесточались, и к тому моменту, когда она добралась до Севастополя, британские войска потерпели унизительное поражение под Балаклавой. Сообщения о ее работе среди раненых достигли Англии в начале ноября.
А вот одна более близкая подруга Джорджа Комба дала волю своим любовным чувствам. В июле 1854 года Мэриан Эванс бежала в Германию с Джорджем Генри Льюисом, женатым мужчиной, давно не живущим со своей женой. Номинально они с Льюисом стояли во главе светской и прогрессивной мысли в Британии, а их поведение грозило дискредитировать философию их круга. Комб был «глубоко оскорблен и огорчен», узнав о побеге. Но он и удивился, поскольку обследование черепа мисс Эванс в 1840-х не выявило избытка эротизма (как она сама ожидала), а напротив – привязчивости. В ноябре, в том же месяце, когда он ответил на письмо Изабеллы, Комб написал их общему другу Чарлзу Брею: «Хотелось бы мне знать, нет ли душевнобольных в семье мисс Эванс, ибо ее поведение, при ее уме, кажется мне болезненным умственным отклонением». Они с Льюисом, «по моему мнению, своим фактическим поведением нанесли огромный ущерб делу религиозной свободы». По их поведению можно было судить, что прогрессивное мышление ведет к аморальной анархии.
Тем временем Джордж Дрисдейл закончил наконец свою книгу «Физическая, сексуальная и натуральная религия», над которой работал четыре года. Этот труд не только подтверждал, но и прославлял связь между свободомыслием и свободной любовью. Руководство объемом в четыреста пятьдесят страниц, охватывавшее вопросы контрацепции, сексуальных расстройств и контроля над рождаемостью, было опубликовано в декабре 1854 года радикальным издателем Эдвардом Трулавом. В «Народной газете» книгу приветствовали как «Библию тела», а в прессе мейнстрима заклеймили «Библией борделя» [73]73
Упомянуто в работе У.Х. Джонса «Жизнь Чарлза Брэдлоу, члена парламента» (1888).
[Закрыть]. Чтобы защитить семью, Джордж держал свое авторство в секрете: на титульном листе значилось «Студент-медик». В работе прятались воспоминания о мучительной юности самого Джорджа, рассказанные от третьего лица и представленные как клинический случай.
Искалеченный в молодости стыдом, ныне Джордж отбросил свои комплексы. Он доказывал, что сексуальное желание естественно для мужчин и женщин и должно удовлетворяться. «Каждой личности, – писал он, – следует осознать, что у него или у нее должно быть достаточное количество любви, чтобы удовлетворить сексуальные запросы своей натуры, и другим вокруг него следует иметь то же». Он писал, что многие женщины заболевают, поскольку лишены достаточной половой жизни. «До тех пор пока мы не сможем дать женским органам надлежащей естественной стимуляции и здорового и естественного количества практики, женские заболевания будут возникать вокруг нас со всех сторон». Джордж утверждал, что у женщин, как и у мужчин, «сильное половое влечение – большое достоинство… Если продолжать рассматривать целомудрие как высшую женскую добродетель, невозможно дать женщинам подлинной свободы».
Мастурбация, заявлял Джордж, распространена как среди мужчин, так и среди женщин, и безвредна. Он отмечал «пагубный эффект» сдерживания природных страстей, «заключенных в мрачных пещерах разума». Он побуждал своих читателей пользоваться контрацептивными средствами, чтобы они могли наслаждаться частыми половыми актами, а не прибегать к онанизму. Для предотвращения беременности он рекомендовал совокупляться через восемь дней после менструации (здесь он случайно выявил фазу высокой фертильности) или извлекать пенис перед эякуляцией (хотя предостерегал, что этот метод влечет за собой тот же риск для здоровья, что и мастурбация), или промывать влагалище теплой водой сразу после полового акта, или (его любимая процедура) заранее затыкать шейку матки губкой. Также он пропагандировал презервативы из овечьих кишок, «искусственный чехол для пениса, сделанный из очень тонкой пленки».
Использование любого из этих способов бросало вызов христианскому учению о том, что основной целью секса является продолжение рода, а не удовольствие. Джордж Дрисдейл защищал противозачаточные средства, ссылаясь на «Опыт о законе народонаселения» (1798), влиятельную работу священника Томаса Мальтуса, предостерегавшего, что только принудительное сдерживание рождаемости предотвратит катастрофическое перенаселение Земли. Контрацептивы, доказывал Джордж, могли искоренить бедность и венерические заболевания, равно как и сексуальную неудовлетворенность. Мальтус рекомендовал воздержание от половых отношений, но многие викторианские либералы восприняли его аргументы для оправдания противозачаточных средств. Среди неомальтузианцев, собиравшихся в Мур-парке в 1850-х, были Джордж Комб, психиатр Александр Бэйн и Джеймс Стюарт Лори, школьный инспектор, порекомендовавший Джона Тома Робинсонам.
Джордж Дрисдейл составил поразительно откровенный и радостный манифест сексуальной свободы, не имеющий себе равных в викторианской литературе, даже если основой для него послужило зло онанизма. Но для замужних женщин среднего класса, таких как Изабелла, польза его была ограничена: Изабелла не могла поступить, как Джордж, и платить другим ради удовлетворения своих сексуальных потребностей.
29 января 1855 года Изабелла встала в восемь часов, «чувствуя себя не очень хорошо» после тревожного сна, в котором она ребенком гуляла в саду с матерью, отцом и одним из братьев. Сон напомнил ей, что она сама теперь находится «в середине жизни, моя мать стара и больна, отец – в могиле, мои собственные дети растут, ныне настала моя очередь, еще несколько лет – и я одряхлею и умру». «Я никогда не постигну великой тайны жизни», испугалась Изабелла, но лишь «сделаюсь словно никогда и не бывшей – мои мысли, моя любовь, мои мечты превратятся в прах! О Боже! Какой пустой насмешкой кажется дар жизни – как бы я хотела, чтобы моя работа завершилась и я могла ее отложить; жизнь не была для меня блаженством».
В нескладном начале своей жизни она винила других – «моя юность была загублена нетерпимостью, невежеством и недостатком заботы тех, кто отвечал за мое воспитание», – но признавала, что окончательно решило ее судьбу собственное поведение. «Увы! На склоне лет я оплакиваю ошибки, которые не в состоянии исправить; моя душа омрачена сожалениями и горечью. Я стремлюсь, со слабой надеждой на успех, воспитать трех моих сыновей, которым (при всей моей любви к ним) следовало бы находиться в лучших руках». Дневник заманивал Изабеллу в мрачный эгоцентризм, уводил в свои темные размышления, так что впереди и позади она не видела ничего, кроме пустоты: «Прошлое – пустыня, настоящее – тяжело, будущее – ужасно, вечность – пустота».
Дни рождения Изабеллы часто вызывали у нее грустные чувства. «Юность прошла без возврата, – написала она, когда ей исполнилось тридцать девять лет. – Я содрогаюсь при мысли о старости, с которой должна буду столкнуться!» 28 февраля 1855 года, в день своего сорокадвухлетия, она «увидела болезненный сон о своей последней прогулке с доктором Лейном, мучительном расставании, разоблачении и блуждании по миру со стыдом и в отчаянии». Это была первая запись в дневнике, в которой Изабелла намекала на страх быть изобличенной – она представляла себя выброшенной из дома и бродящей по земле как падшая женщина. «Проснулась (1 марта) встревоженная и несчастная, – добавила она, – и весь день у меня болела голова».

![Книга Цитатник жизни [от колыбели – до могилы] автора Як Робинсон](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-citatnik-zhizni-ot-kolybeli-do-mogily-369902.jpg)