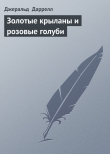Текст книги "Деревянные голуби"
Автор книги: Казис Сая
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Казис Казисович Сая
Деревянные голуби

I
Сельский музыкант Ляонас Лабжянтис, или попросту Лявукас, что жил в деревне Гарде, даже не догадывался, зачем его вызывает к себе дядя Людвикас, и поэтому по привычке прихватил с собой гармонику. С трудом волоча тяжеленный футляр по раскисшей осенней дороге, он продолжал ломать голову, по какому случаю придется играть в той деревне. Не может того быть, чтобы дядя, который совсем недавно похоронил единственную сестру и сам частенько покашливал, разрешил устроить своему батраку или работнице вечеринку. Да и какую голову надо иметь, чтобы зазывать к себе в музыканты Лявукаса, сына той самой покойной сестры…
От родной деревни до дядиной почти три мили, или, выражаясь теперешним языком, около двадцати километров. Клумпы, того и гляди, развалятся на такой раскисшей дороге. Один деревянный чебот успел уже треснуть, когда Ляонас перепрыгивал через лужу. Пришлось музыканту стучаться к незнакомым людям, клянчить кусочек проволоки, молоток и клещи, чтобы хоть как-то скрепить раззявившуюся обувку. А свои единственные сапоги жалко стало бить по такой дороге. Они да гармоника и составляли все отцовское наследство, которое тот завещал своему младшенькому. Братья решили, что Лявукас музыкой на хлеб себе заработает, а они как-нибудь перебьются на своих завещанных гектарах.
А что, если до дяди дошли слухи о Тересе? Ведь могли же она или ее мать встретить на храмовый праздник Сребалюса, старосту деревни Пашакяй, старшого местного прихода, крестного отца Лявукаса, и поплакаться ему…
Хотя опять же трудно в такое поверить. Тереса давеча сама сказала, что мать еще не прознала о ее беде. И на вид девушка, пожалуй, не переменилась. Разве что слезы могли выдать… В тот раз Таруте насквозь измочила рубашку на его груди, хотя Ляонас, как мог, утешал ее, ласкал, клятвенно обещался ни за что на свете не покинуть одну со своим лихом. Неужели ей самой непонятно, что негоже ему теперь, сразу после смерти матери, свадьбу закатывать? Да и что братья, что люди скажут? Сам настоятель во время исповеди посоветовал ему повременить полгодика, а уже тогда свой долг выполнять. Ну, а коли люди и заметят, что Тереса Буйвидайте уж «не одна», все равно потом сойдутся на том, что Ляонас не по-свински поступил. Другой бы давно левой рукой открестился от такого подарочка, – мол, по матери и дочка…
(Однажды, когда Ляонас деликатненько так подъехал к Тересе: «Таруте, а кто, интересно, твой отец?» – девушка вспыхнула, потом слезами залилась – и к дереву, обхватила его руками и плачет. Видно, вконец допек ее материнский позор, доняли людские пересуды.)
Допустим, дядя Сребалюс услышал бы краем уха про все это, стал бы его журить, а у Ляонаса уж и ответ заготовлен. Заварил он кашу, спору нет. Пусть она малость и подгорела, так ведь и они с Таруте не барского роду-племени, как-нибудь проглотят. Свиньям не оставят. Такую девушку, как Тереса Буйвидайте, еще поискать, и все равно вовек не найдешь. И на работу спорая, и собой пригожа, и нрава покладистого… Вот только ни гроша у бедняги за душой. На козьем молоке выросла.
Прикинув все и так, и этак, повеселевший музыкант почувствовал, как на дороге посуше ноги в деревянных клумпах сами отстукивают полюбившийся всем танец. А раз есть мелодия, будут и слова, и Лявукас затянул такую придуманную когда-то им самим песенку:
Скачи в постолах
Вновь и вновь –
Всему началом та любовь.
О клумпу клумпой бей резвей,
Танцуй, но с девушкой своей…
С этой-то песенки, можно сказать, все и началось…
Самому ему, как музыканту, не до танцев было, вот и прижимался Лабжянтис любовно щекой к своей гармонике-концертинке, а порой, выхватив глазами из круга танцующих Тересу, словно для нее одной затягивал эту песенку.
В ту пору Тересу чаще других выводил на танец Юргис Даукинтис, завзятый кобель, у которого еще велосипед чуть ли не американский был, сиял не хуже дароносицы… Лявукасу почему-то ужасно хотелось, чтобы Таруте Буйвидайте дала спесивому ухажеру от ворот поворот. Другие-то, стоило Даукинтису подкатиться, все хи-хи-хи да ха-ха-ха… А там, глядишь, и взгромоздится иная на перекладину велосипеда. Юргис же, позвякивая звоночком, танцоров разгоняя, словно паук, обхвативший глупую муху, уже мчит взопревшую, разгоряченную девицу в темные, пропахшие сеном луга…
И когда однажды Таруте, приметив, каким печальным, проникающим в самую душу взглядом смотрит на нее Лявукас, отказалась ехать с Юргисом и, поджидая «подружек», дождалась кого хотела, Даукинтис, проезжая мимо, и заехал музыканту насосом по шее. А когда эта дорогая штуковина колбасой от удара погнулась, влюбленный наездник, разъярившись еще пуще, с велосипеда соскочил и давай топтать ногами Лабжянтисову гармонику. Музыка была единственным преимуществом, которое признавал за Лявукасом Даукинтис. Чем он был бы, тот Лабжянтис, без своей гармошки? Мозгляком, замухрышкой. Соплей его перешибешь…
Тогда обалдевший от удара Лявукас из последних сил вцепился руками и ногами в свою концертинку (он ее в те времена просто так, без рундучка, таскал) – будь что будет… Хорошо еще, Тереса не растерялась, в кусты не подалась, – Юргис мехи гармоники пинает, а Тереса – ступицы его велосипеда…
Позже, когда музыкант залечивал ушибленные места, а Даукинтис чинил свой велосипед, Таруте стала для Лявукаса совсем своей, чем-то вроде родной мамы, а может, и больше… Поначалу он даже голову повернуть не мог, в ушах пищало, пуговицу на груди застегнуть был не в силах, а благодаря Тересе все хвори за несколько дней как рукой сняло. Тут погладит, там почешет, здесь еще что-нибудь придумает… Всего и не расскажешь.
«Вот и знай, что тебе на пользу, – размышлял путник, хлябая по проселочной дороге. – Ведь кабы не Даукинтис, ни за что бы мне в тот вечер к Таруте не прикоснуться, даже повыше локтя. А коли все утрясется, придется этому чертяке Юргису новый насос купить. Шутки ради, за то, что сосватал нас тогда…»
И как вспомнил Ляонас про все это, сердце его затопила такая волна нежности к Тересе, такое сумасбродное желание побыть рядом с ней, что казалось, появись она здесь, подхватил бы ее на руки – и в чащу или в тот полуразрушенный овин, а может, повел бы прямиком к самому дяде Сребалюсу. Так, мол, и так, дядюшка, ты как-никак крестный, хочешь – отругай, но и совет дай, как нам из той беды выкарабкаться.
А почему бы Сребалюсу и не приютить их? Ляонас за работника мог побыть, а Тереса, убаюкав ребеночка на меже, тоже в накладе не осталась бы…
Твердо решив выложить все это Сребалюсу, Лявукас мысленно вытащил из ларя гармонику, перекинул ее на ремне через плечо наподобие лукошка, тряхнул волосами и заиграл, продолжая шагать вперед… Словно во сне – какой-то удивительный танец, который подхватил его и понес, как ветер пушинку одуванчика. Только за клумпами успевай следить…
Вскоре медленно парящего над землей музыканта нагнал на лошадях Стасис Астрейкис, которого все называли Горбатеньким. Видать, господь сотворил беднягу в назидание здоровым и красивым, чтобы те, увидев его, скрюченного под дверями божьего храма, еще пуще благодарили создателя за свои здоровые руки-ноги и прочие милости.
Стасялис тоже уродился на радость родителям здоровеньким и крепеньким. А как шестой годок ему пошел, прицепилась к нему какая-то страшная хвороба и так его скрючила, обезобразила, что мать его от печали сердечной угасла. Одна рука и одна нога мальчика почти перестали расти, на груди и спине появилось по огромному горбу, а для шеи и места не осталось. Когда горбатый Стасис сидит, словно нахохлившись, кое-как привыкнуть к нему можно… Но когда встанет да пойдет, тут уж тебе, отец наш всевышний, лучше зажмуриться, что сотворил такое по образу своему и подобию, иначе от стыда сгоришь… Ко всему прочему Астрейкис хромал на эту свою короткую ногу, которая, казалось, гнется куда-то вбок. Если же Горбатенький ступал на нее, то здоровой левой рукой, длинной, как молотильный цеп, касался земли. Прямо не человек, а галка, которую у кота из зубов выдрали…
Несмотря на это, Горбатенький и в мыслях не держал перебиваться подаянием на паперти. Землицы, правда, у него было всего около пяти гектаров, но отец, сам он да сестра от нужды с горем пополам пока отбивались…
– Не знаю только, как жить будем, когда сестра замуж выскочит, – делился своими заботами Горбатенький, усадив рядом-музыканта. – Есть у нее кое-кто на примете, да все никак в дом к нам идти не соглашается. Кому ж охота взваливать на себя дряхлого старца и меня, убогого… Папаша, похоже, долго не протянет. Лекарства вот ему везу. Все уши мне прожужжал: пора, мол, и тебе подыскать себе вдовушку или, на худой конец, вековуху… Лошадь, телега да бричка мне отойдут, коровенка дойная имеется. Да и сам-то я не только ложку удержать могу. Кой-когда мне и горб не помеха…
При этих словах Горбатенький вытащил из-под облучка искусно выструганную палочку, с одного конца которой был приделан к поперечине пестрый деревянный голубь на колесиках. Толкаешь перед собой палку, колесики крутятся, а деревянная птица крыльями хлоп-хлоп-хлоп…
– Аптекарю подарил одну, чтобы лекарство получше сделал. Уж он радовался да благодарил… Сказал, что и лекарства отпустил отменные, и денег ни цента не взял. Иногда в Тельшяй или Плунге на продажу такие вожу. Все лишний лит[1]1
Л и т – денежная единица в буржуазной Литве.
[Закрыть]. Только вот с деревом у меня загвоздка. Правда, на взгорке, на чумном кладбище, приметил я подходящее, да только разве ж рука поднимется на таком месте рубить…
Лявукас покосился на сухую руку Стасиса, на его скрюченные пальцы и подумал: как он справляется с таким делом? Ведь игрушку нужно выстругать, сколотить…
– А я в козлы упрусь или зубами придерживаю и строгаю, – угадав мысли попутчика, пояснил Горбатенький и передал ему вожжи. Сам же поглядел, не пролились ли в кармане лекарства, уж больно подозрительно запахло чем-то.
Вполне возможно, что Стасялис хотел еще раз взглянуть на нарядный пузырек с гофрированной шляпкой на пробке, перетянутой резинкой, и приклеенным сбоку длинным нарядным «фартучком» – рецептом с государственным гербом, который, казалось, служил ручательством, что от этих лекарств больной сможет скакать галопом…
Расплывшись в довольной улыбке, Стасис понюхал пузырек, почтительно сложил в несколько раз рецепт и, снова засовывая лекарство в карман, сказал:
– Придется спрятать подальше от кота. Уж больно вкусно валерьянка пахнет. Будь я котом, тоже не удержался бы.
Когда Ляонас в ответ на его вопрос признался, что не догадывается о причине странного поведения дяди Людвикаса, Горбатенький, который жил неподалеку от Сребалюса, вдруг огорошил его:
– Сдается мне, на него порой накатывает…
– О чем это ты? Ведь он мой дядя, а я про это ничего… Первый раз слышу.
– Оба они, Сребалюсы, не такие, как все, – снова неопределенно выдавил Стасис.
– Но почему? Ведь дядя староста и хозяин хоть куда…
– А знаешь, почему у них детей нет?
Ляонас краем уха слышал про причуды тетки Серапины, но ему любопытно стало, что об этом толкуют соседи.
– Откуда мне знать, – ответил он. – Как говорят, бог не дал или аист не принес…
– Аистиха виновата, – отрезал Станисловас. – А уж если один с приветом, так и другой со временем не отстанет. Сребалене, барыня Серапина, сама как-то сказала: «Фу, какая гадость! Появился бы, скажем, младенец откуда-нибудь из-под мышки или из яйца вылупился, как цыпленок… А тут – фу-фу-фу!..»
Серапина, дочь местного русского, который при царе занимал в этих местах должность волостного старшины, отличалась редкой красотой, получила благородное воспитание, и приданое за ней давали солидное. Но и Сребалюс тогда был хорош собой, как Георгий Победоносец с иконы в Леплаукском костеле. Грамоте выучился, остер на язык был, голову на плечах имел и с властями ладил… Поначалу старшина назначил его старостой, потом хозяйство подарил и свою единственную дочку Серафиму Петровну в придачу.
Нынче ее отца-матери уж нет на свете, и неизвестно, как у Сребалюсов все сложилось, одно только ясно – что любовь эта была беззаветной, коль скоро Серапина приняла чужую веру. Но земля так и не стала ей ближе, и, видать, Серапина сразу заявила, что свои белые пальчики в черной грязи марать не намерена. Люди говорили, до сих пор все ее обязанности нанятые девки выполняли… Барыне же главное, чтобы не грубили и чистоту соблюдали, а она все больше книжки почитывала да самовар разогревала.
Соседей Сребалюсов барскими замашками не удивишь, всякого понавидались, но то, что они со временем узнали о Серапине, и бывалых людей в смущение привело. Оказывается, дочка старшины узнала о своем женском предназначении лишь в первую брачную ночь. И так это напугало бедняжку, что едва она рассудка не лишилась. Несколько недель подряд навзрыд проплакала, и ни родители, ни супруг, ни настоятель с доктором не смогли ей втолковать, что так уж самим богом определено…
Серапина с детства поверила россказням, что и корова теленка, и овца ягненка в навозе откапывают, словно картошку осенью. Она и разговоры людей про то, как мать вынашивает дитя под сердцем, истолковала так, будто ребенок появляется у женщин наподобие… третьего бугорка на груди. Бугорок все растет, увеличивается, появляются ручки, головка и прочее, а потом р-раз – и обрывается, словно шишка.
А как узнала юная Серапина всю подноготную, руки хотела на себя наложить, такое унижение и стыд испытала. Все сокрушалась, отчего травинкой неприметной не родилась или деревцем, – цвела бы тогда, благоухала, семена рассыпала и не ведала, что есть на свете такие непристойности…
Теперь уж толком никто не знает, может, Людвикас и приручил со временем свою благоверную, но судя по всему, нет. Детишек они так и не дождались, а барыня Серапина и по сей день не может о таких вещах говорить, сразу за свое: «Фу! фу! фу!..»
Люди в открытую над ней не подтрунивают – сочувствуют бедняжке, уважительно называют ее барыней, как она того хочет. И неизвестно, что тому причиной, – может, достоинство и печаль, не сходящие с ее увядающего лица, или не такой, как у всех, славянский выговор, или люди сердцем чуют, как одинока и неустроенна эта женщина – вроде той бегонии из разбитого горшка, которую пришлось вынести во двор и пересадить по соседству с георгинами, лавандой и майораном…
Даже Горбатенький, поведав эту историю Лявукасу, со вздохом произнес:
– Ну вот, пока доброму человеку косточки перемывали, глядишь, и доехали.
II
Новая изба Сребалюса с застекленной верандой, цементными ступенями и множеством окон выглядела ничуть не хуже настоятельского дома. Правда, одна ее сторона была еще не закончена – окна закрыты ставнями. Скорее всего дяде Людвикасу не хватило на это дело здоровья или денег. Не исключено, что на старости лет он пораскинул умом и решил: на что им вдвоем с Серапиной такие хоромы? Кому в них жить? Зови другого – не дозовешься. Вот и сейчас, когда больному Людвикасу нужно позвать жену, он принимается дудеть в охотничий рог, который лежит у него под рукой на тумбочке, рядом с молитвенником, очками и лекарствами.
Несколько лет назад, когда в их местах собирались открыть школу, барыня Серапина сказала, что неплохо бы сдать угол в их будущем новом доме той деликатной и на редкость приятной учительнице Мальвине. Будет с кем словом переброситься по вечерам, у кого ума-разума понабраться – и той хорошо, и им какой ни на есть, а почет.
Но покуда Людвикас строился, Мальвина успела выйти замуж, родить сына и угодить с перерезанными венами в больницу.
Как-то раз, возвращаясь из школы, свернула она на лужайку, окруженную цветущими кустами сирени, рябинником, и вдруг увидела своего Доминикаса в обнимку со Сребалюсовой работницей. Ее словно колом оглушило, кинулась она домой и там в отчаянии принялась прямо голыми руками окна высаживать. Староста Сребалюс, сходив поглядеть, сказал, что там все подоконники кровью забрызганы, будто петухам головы рубили.
А девушку ту по имени Зося, что своей волнующейся грудью, полными икрами и щедрой улыбкой могла даже столетнего старца выманить с теплой печки, скрепя сердце пришлось Сребалюсу уволить. Видно, оттого Людвикас и сдал, стал раздражительным, отощал – из святого Георгия превратился в Лазаря. Серапина что ни день мазала мужа благовонными притираниями и каждый раз при виде его обнаженного тела брезгливо отворачивала носик в сторону: «Фу! фу! фу!..»
Вот почему когда Ляонас Лабжянтис прибыл к крестному, тот хоть и благоухал сладко, но пребывал в кислом настроении. В ответ на поцелуй больной лишь буркнул:
– Никак, табаком балуешь?
– Что вы, дядя, и не пробовал!
– Эвон как прокоптился!
– Меня досюда какой-то горбатенький подвез, это он всю дорогу дымил.
– Присаживайся, наври чего-нибудь. Что в ваших краях слышно?
– Так ведь вы, верно, про все уже знаете… Матушку вот схоронили. Вас уж очень ждали и только потом узнали, что и дядюшка не совсем здоровы…
– Чего ж не притащились наследство клянчить? Самое время, самое время…
Однако, внимательно приглядевшись к крестнику, Сребалюс не приметил на его лице наглой надежды разжиться на дядином наследстве. Довольный таким открытием, больной взял в руки рог и громко затрубил в него. В ответ где-то заголосил петух, захлопали двери – одни, другие, и вот на пороге комнаты появилась Серапина в вязаной шали на плечах, держа на руках только что проснувшегося кота. Ляонас суетливо поцеловал ей руку, кот недовольно зашипел и спрыгнул на пол. Из-под шали выпала карта, которую Серапина, видно, до этого безуспешно искала, оттого женщина и просияла, когда гость поспешно поднял карту и подал ей.
– Поставь самовар да вели Ядвиге приготовить человеку яичницу. Видала, каков!.. Хоть и ростом не вышел, зато парень хват! Узнаешь?
Серапина и в самом деле не узнала Лявукаса, поэтому вместо ответа лишь кинула взгляд на карту и произнесла лениво-приятным голосом:
– Пиковая дама… ха-ха-ха!.. У Пушкина есть одна история про Пиковую даму… А вы, уважаемый, что-нибудь о Пушкине слышали? – обратилась она к Ляонасу.
– Не морочь ты ему голову. Откуда человеку знать? Парень пешком притопал, проголодался…
– Фу-фу… Ты груб, как извозчик. Наша Ядя где-то там, в хлеву. Ну, а я пойду пока самовар поставлю.
И снова Сребалюс пристально посмотрел на племянника: не смешной ли показалась ему хозяйка? Нет, парень, видно, не успел испортиться, умеет с почтением относиться к старшим…
– Сделай милость, поймай ты ту проклятую муху, – ворчливо попросил дядя Людвикас. – Вроде я не совсем протух, а она кружит и кружит…
Ляонас схватил картуз, подставил стул, поскольку насекомое сидело уже на потолке, оглядел свои носки, не промокли ли, и лишь тогда взобрался и шлепнул муху по макушке. Затем, найдя на полу, Лявукас двумя пальцами взял ее за крылышко и выбросил в посудину, которую приметил под дядиной кроватью.
И если до этого Сребалюс колебался, стоит ли посвящать крестника в тайны своего замысла, то теперь та поздняя муха, с которой так ловко, так аккуратненько разделался Лявукас, решила судьбу всех троих – Людвикаса, Серапины и, самое главное, Лабжянтиса. У старика язык так и чесался тут же выложить этому ничего не подозревающему простаку все как есть, но он справился с собой и продолжал разговаривать с Ляонасом как ни в чем не бывало.
– Скажи, а матушка твоя, царство ей небесное, перед концом сильно мучилась?
– Так ведь от рака этого все, говорят, мучаются. Разве что в больницу ее надо было… Да откуда денег-то взять?
– Уж и кляли меня, поди? Думали, у Сребалюса денег куры не клюют…
– Говорят, от рака даже деньгами не излечишься, – уклонился от ответа Лявукас.
– Куда там от рака, от насморка тебя никто не вылечит, ежели пришла пора помирать. Взять хотя бы соседа моего Адомаса Контаутаса… И на войне побывал, и ранен был трижды, на волосок от смерти висел, а нынешней весной пчелка его возьми да и ужаль в висок – назавтра и преставился. Так-то вот… Угостим тебя медком к чаю, те самые пчелы натаскали. Такой уж козырь бедняге выпал…
Из всех этих разговоров Ляонас понял, что Сребалюс ничегошеньки про Тересу не знает. Скорее всего дядя вызвал его, чтобы порасспросить о сестре, узнать, как дети распорядились после ее смерти наследством. Ляонас рассказал Людвикасу, что сестра и один брат будут жить, как жили, по разным концам избы, а старшему его доля почти выплачена…
– А тебе, выходит, шиш с маслом? – укоризненно спросил Сребалюс.
– Мне папаша еще при жизни гармонику купил, сапоги свои оставил… А землицы той у нас – кот наплакал. Кабы стали мы ее, словно псы тряпку, на клочки раздирать, глядишь, и под картошку не всем хватило бы.
– Вот это ты дело говоришь, – одобрительно произнес Сребалюс. – Что с того, если лягушка станет просить у быка: «Отдай мне, бычок, рога или хотя бы хвост… Видишь, какая я разнесчастная да голая – от аиста защититься нечем…» А бык по простоте душевной возьми и отдай, что тогда? Хороши были бы вол да лягушка, ведь верно, а?..
– Ясное дело… О чем речь… – промямлил крестник, поражаясь дядиному красноречию.
– У каждого свои невзгоды, свои радости, – продолжал разглагольствовать Сребалюс. – Вон Вероника, сестра моя, в нужде прожила, умерла до срока, зато четверых детишек после себя оставила! Будет хотя бы кому за упокой души помолиться…
– Помолимся и за вас, дядя Людвикас, будьте спокойны, – простодушно заверил старика Лабжянтис.
– Хочешь не хочешь, а придется. Я ведь тебе, сукин ты сын, все хозяйство собираюсь отписать. Да не после смерти, а сейчас, нечего часы считать, когда окочурюсь. Смекаешь, о чем я?
– О господи, дядюшка, да я… – захлебнувшись, словно его теплой водой из ушата окатили, пробормотал Лявукас.
– Все, что ты тут видишь и чего не видишь, отныне будет твое! – с нарастающим торжеством в голосе произнес Сребалюс. – Братья твои, словно Якововы чада Иосифа, тебя с гармошкой по миру пустили, а я, не в сравненье будь сказано, как фаравон агипецкий, дарую тебе свои владения! И барыню Серапину в придачу, которая тебя насчет историй Пушкина просветит… Ну, и чего рот раззявил?.. Становись на колени да горшок этот подальше задвинь – благословить тебя собираюсь… А то и усыновлю… «Кто был ничем, тот станет всем» – так, кажется?..
Людвикас Сребалюс перекрестил Лабжянтиса, и на плечи музыканта свалились нежданно-негаданно тридцать гектаров земли, недостроенный дом, хлева со скотиной, полные амбары зерна, батрак, девка, работница, пастух и долг Сельскохозяйственному банку – что-то около тысячи литов… Но эту дыру, по словам Сребалюса, должна будет залатать суженая Лявукаса. Шутка ли – принять такое хозяйство! Вот пусть будущая его половина и запасется подходящим приданым, чтобы и на долги хватило, и дом достроить можно было.
Барыня Серапина, которая неслышно вскользнула в комнату, чтобы пригласить к чаю, увидела, что гость стоит на коленях возле кровати Людвикаса и что-то бессвязно бормочет сквозь слезы, а растроганный больной бледной рукой гладит его по затылку.
– Ликеру! – срывающимся голосом приказал Людвикас жене. – Ликеру нам к чаю… Хозяйство в дар отдаю. Теперь уж мы с тобой у него на хлебах…
Лявукас всплакнул и у Серапининой руки. До женщины только теперь дошло, что племянник сквозь слезы просил у Людвика согласия называть его отцом, а ее собирается считать своей матерью.
– Нет, нет, ни за что!.. Встаньте, ради бога! – растерянно отпрянула Серапина. – Когда-то только мужики, холопы вот так на коленях перед господами… Да я же вас, сударь, и не знаю даже, но как уж мой Людвикас распорядился, так… Самовар поспел! Людвикас, может, и ты встанешь?
– Не видишь разве, штаны уже надеваю!
– Фу-фу! – замахала руками Серапина и, прикрыв глаза углом шали, поспешно скрылась за дверью.
– Сам видишь, чудаковатая она у меня, – объяснил дядя Лявукасу. – Меня как хошь называй, все одно, а ее барыней Серапиной Петровной величать изволь. А уж коли ублажить тетушку захочешь, – подмигнул старик, – спроси, что за птица этот Пушкин.
– Хорошо, дядюшка. Как молитву заучу – Пушкин, Пушкин…
– А как дом достроим, эту спаленку и еще пару комнат за собой хотели бы оставить. Окна на юг, в самый раз старикам косточки погреть на солнышке…
– Что за разговор, дядюшка!.. Боже милостивый! Да ведь тут все вашим потом и кровью!.. – воскликнул Ляонас. – Да берите что хотите. А я и тому, что перепадет, буду рад.
Сребалюс поглядел на него, прямо как тот бык на лягушку, – уж больно невзрачен, совсем мозгляк его наследник, – но сделанного не воротишь. Не беда, что хил, лишь бы благодарен был. Теперь надо бумаги в порядок привести и установить себе с Серапиной пожизненную ренту – оставить коровенку, борова, овцу с ягнятами, парочку ульев, кусок сада, пяток кур, оговорить, чтобы каждую осень им картошки, сколько нужно, запасали да зерна, а после смерти чтобы памятник на могилке поставили да не забыли оградкой железной обнести…