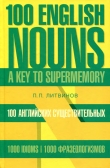Текст книги "Как я изучаю языки. Заметки полиглота"
Автор книги: Като Ломб
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Итак, каждый язык стремится дать средства для максимального однозначного и полного выражения мысли и чувства. И всякий язык в процессе исторического развития формировался и совершенствовался, пока не нашел формы, устраняющие возможность недоразумений. И некоторые процессы в отдельных языках завершились не так уж давно.
Все средства языка направлены на выражение возможных оттенков мыслей и чувств человека, носителя данного языка. Кто, например, боится взяться за финский язык из-за сложной грамматики глагола, пусть подумает о том, как бесконечно сложна система лексических комбинаций, дающая с одними и теми же словами всякий раз иные значения, например в английском языке, который по капризу общественного мнения считается «нетрудным».
Возьмем обычный, в общем-то, ничем не примечательный глагол to turn. Его значения – «вертеть, поворачивать, становиться, превращаться, выворачивать наизнанку», однако они иногда совершенно пропадают (при сравнении с родным языком; в логике английского все эти значения сохраняются!) в различных словосочетаниях, которые надо запоминать отдельно как «выражения», «обороты». Вот, например, небольшой букет вариантов употребления этого глагола:
I turned down – я отклонил, отверг
you turned up – ты появился
he turned in – он лег спать (разг.)
we turned over – мы перевернули, передали, обдумали
you turned out – ты погасил свет, выгнал, исключил
they turned on – они включили
В таком современном «модизме», как he is turned on, глагол означает «быть под воздействием какого-либо наркотика».
Вопрос о трудности – легкости (если его вообще стоит ставить), может быть, надо сформулировать так: труден тот язык, в котором радиус действия правил ограничен. Другими словами: чем меньшую часть данной области покрывает правило, которое должно бы охватить ее целиком, тем больше энергии требует изучение этой области языка или языка в целом.
Из трех основных групп правил, образующих систему языка (фонетических, словообразовательных, синтаксических), возьмем первую группу.
Если радиус действия фонетических правил невелик, то есть один и тот же звук приходится обозначать разными буквами, то такое письмо я предложила бы назвать афонетическим.
В английском языке мы можем, например, усвоить правило чтения буквосочетания ее как долгого i. Но, к сожалению, радиус действия правила очень невелик: е в слове to be, ea в слове leaf, ie в siege, еу в key, ei в слове seize тоже произносятся как долгое i:

Если радиус правила какого-либо словообразования не «описывает всей площади круга», то язык – носитель такого рода правил – можно было бы назвать алогичным. У живых языков есть свойство – для начинающих неуловимое – образовывать слова не по шаблону. Алогичность, так же как и афонетичность, – явления, конечно, только кажущиеся. Всякий, кто готов углубиться в историю языка и приняться за изучение синхронных (то есть взятых в современном разрезе) правил, а также правил диахронных (то есть в их становлении во времени), сразу поймет, что никаких исключений нет, радиус действия правил станет максимально большим и количество самих правил окажется минимальным. Но если теория нам скучна или недоступна по объективным причинам, то, изучая, к примеру, венгерский язык, необходимо просто запомнить, что суффиксом принуждения к действию – tat, – tet мы можем видоизменить не все глагольные слова («чистого» глагола как части речи в смысле индоевропейских языков в венгерском, принадлежащем к угро-финской группе, нет). Из olvas (читать) можно сделать olvastat (заставить читать, побудить к чтению), но из r (писать) нельзя сделать rtat (заставить писать, побудить к письму), то есть воспользоваться тем же суффиксом нельзя. Есть исторические пары этого суффикса: – at, – еt, по смыслу те же, имеющие тот же корень, что легко заметить, но ставшие, как говорят языковеды, непродуктивными (то есть непереносимыми со слова на слово). Такие явления можно наблюдать и в других языках. Например, в русском из глагола «изобретать» можно образовать существительное «изобретатель», но из глагола «открывать» (в значении «делать открытие»), пользуясь тем же окончанием, как-то нескладно сделать «открыватель»…
Если же слово не укладывается в правила морфологических операций, или, точнее говоря, если эти правила не имеют смысловой или формальной аналогии с правилами родного языка, то такие слова или словосочетания мы называем «-измами» (галлицизм, англицизм, русизм). Выражаясь иначе, это такие слова и словосочетания, которые имеют значение иное, чем можно заключить из их составных. Достаточно богат «унгаризмами» и венгерский язык: например, bogarat tettél a fülembe (положить в ухо жука – постоянно думать о чем-либо) и т. п.
С этими «измами», которые составляют красоту языка и многое могут рассказать о быте, характере, истории народа, бывает порой интересно, порой трудно. А сколько недоразумений, нередко анекдотических, они порождают!
Одному моему коллеге-переводчику очень понравилось русское выражение «скатертью дорога», которое он выудил из какой-то книги. По смыслу заключенных в нем слов мой коллега решил, что это очень красивое образное напутствие – пожелание приятного пути, ровного и чистого, без препятствий и неприятностей. И вот он, не чувствуя и тени подвоха, «испытал» это выражение, провожая высокого советского гостя. Можете представить себе эффект и последствия: вместо сердечных слов пришлось объясняться…
Возвращаясь к итальянскому, можно, наверное, сказать, что славу легкого языка он приобрел потому, что правила чтения, произношения, словообразования и построения предложений обладают в нем довольно широким радиусом действия. А что касается Венгрии, то еще и потому, что с итальянским у нас сталкиваются обычно после старших классов, где – если направление гуманитарное – одним из обязательных языков бывает зачастую французский или латынь. Латынь – прародительница всех романских языков, к которым относятся и французский, и итальянский, и испанский, и португальский, и румынский. Итальянский и французский очень близки друг другу, а итальянский наряду с испанским более, чем остальные романские языки, близок к латыни. Ну а если человек возьмется за итальянский, не зная ни латыни, ни другого романского языка, ему придется не менее солоно, чем при изучении любого другого языка.
Трудными окрестило общественное мнение те языки, которые пишутся нелатинским алфавитом. Каждый, кто овладел хоть одним из таких языков, скажет, что трудность эта явно переоценена, тем более что усвоение алфавита – по сути, изучение нового, ограниченного количественно набора рисунков – относится только к первой, относительно короткой стадии изучения языка. Если мы, к примеру, изучаем русский или арабский, то кривая прогресса будет выглядеть примерно так:

После затруднительного начала наступает равномерный и уверенный подъем.
А в отношении таких «легких» языков, как английский, испанский, итальянский, та же кривая будет выглядеть наоборот:

Поначалу нас охватывает радостное чувство быстрого продвижения вперед. Но чем дальше, тем яснее мы видим, что многих слов и правил мы еще не знаем. Их, правда, относительно меньше, чем в вышеупомянутых «трудных» языках, но в них мы должны выразить и понять – а главное, различить все богатство отношений между предметами и явлениями действительности, все оттенки человеческих чувств и мыслей. Вот и получается, что надо искать способы – практические уже способы – приложения одних и тех же правил для выражения самых разнообразных явлений. «Какой легкий английский язык, правда ведь?» – часто спрашивают меня. «Да, легкий в первые десять лет, а потом становится невыносимо трудным», – отвечаю я всегда.
Если и велика трудность – понятие, как вы, вероятно, уже догадываетесь, очень субъективное, – языков с иероглифической письменностью, то вовсе не потому, что трудно выучить иероглифы! У всех этих знаков есть внутренняя логика. Занятие ими доставляет радость, служащую стимулом для преодоления трудностей. Нет, для овладения японским или китайским нужно, по-моему, в три раза больше времени по совершенно иным причинам. Правила чтения алфавитных языков усваиваются легко. Овладев ими, нам нужно отыскать в словаре только смысл незнакомого слова (а иногда и этого не нужно, потому что смысл подсказывается контекстом, то есть определенным окружением, или уже известным корнем слова). В случае иероглифа необходимо прежде всего выяснить, как он звучит, и только потом искать его значение. Но правило «что потеряли на одном, выиграли на другом» действительно и для этих языков. Возьмем, например, три немецких слова: Eiche, Birke, Linde. С произнесением этих слов трудностей не возникает, но по их графической форме не узнаешь, что все три слова обозначают дерево (дуб, береза, липа). В японском же и китайском языках достаточно одного дня занятий, чтобы при первом же взгляде на иероглиф понять, что он означает принадлежность к какой-то разновидности деревьев.
Один из моих коллег как-то писал мне, что английский – такой же иероглифический язык, как и китайский, японский или корейский: глядя на английское слово, невозможно определить, как оно произносится, – постоянно надо иметь под рукой фонетический словарь.
Вернемся еще раз к притче во языцех о «богатых» и «бедных» языках. Не исключено, что для обозначения каких-то понятий в том или ином языке имеется больше синонимов (кстати, насколько мне известно, сравнительной синонимикой языков не занимался еще никто и никаких действительно объективных данных по этому разделу языкознания не имеется). Бывает, что в каких-то языках для обозначения определенных понятий находится огромное количество синонимов и тот же язык при описании другой сферы явлений оказывается поразительно бедным и бесцветным. Не исключение в этом смысле и наш родной, венгерский.
Как часто литературные переводчики вздыхают, жалуются на невозможность передать на родном языке все оттенки оригинала. Ну конечно! И ничего трагичного нет в том, что немецкие слова Stimme (голос), Ton (тон, звук), Laut (звук) переводятся на венгерский только одним словом hang. Такая «нехватка» восполнима ситуативным употреблением слова или дополнительными определениями. Это переводческое правило эксплуатирует так называемый закон компенсации, о котором мы уже несколько раз говорили. Английские seed (семя), nucleus (ячейка, ядро), pip (зернышко), core (сердцевина), semen (семя, сперматозоид) переводятся на венгерский словом mag всегда, a kernel (ядро), grain (зерно, гранула), stone (косточка плода) – тем же словом иногда. Но в каком языке есть разница между felszabadulás и fejlesztés (на русский язык и то и другое переводится одним словом – felszabadi'tás, только первое означает «освобождение само по себе», а второе – «освобождение кем-то, кого-то»)? Или между felhalmozás и felhalmozódás (первое – «нагромождение»: кто-то нагромоздил, а второе – «нагромождение»: само нагромоздилось)?
К «богатым» языкам нередко причисляют немецкий. И все же в нем нет специальных слов для обозначения «умения» и «способности», точнее говоря, для разделения этих понятий, и есть только один глагол для выражения и того и другого – können. Но, конечно же, это не аргумент, как не является аргументом наличие во французском, русском и польском лексического разделения этих понятий: je sais écrire – «умею писать», umiem pisac' и соответственно je peux écrire – «могу писать», moge pisac'. Разница в значениях французских savoir и pouvoir сделала возможным выражение Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait («если бы молодость знала, если бы старость могла»).
Для выражения возможности, зависящей от разрешения, в английском есть специальный глагол may. Это он подсказал остроумному Бернарду Шоу ответ на просьбу посредственного переводчика разрешить ему взяться за перевод одной из пьес великого драматурга: «You may, but you can’t». По-венгерски (и по-русски тоже) это возможно передать только таким грубым переводом, как «можете, но вы на это неспособны».
Вспомогательные глаголы, о которых шла речь выше, навеяли мне мысль о языке, который так часто обсуждают в наши дни, – о языке молодежи, о специфических словах и оборотах, которыми молодежь пользуется. Одни при этом ругаются, другие удивляются изобретательности и выразительности этого языка. Я принадлежу к последним…
Клара Сёллёши, наша именитая переводчица русской и немецкой литературы, заметила как-то, сколько труда доставил ей перевод одного предложения из романа Томаса Манна «Волшебная гора». Как жаль, пишет Манн, что все чувства – от самого высокого духовного влечения до телесного вожделения – приходится выражать одним-единственным словом Liebe (любовь). В венгерском переводе такое сожаление теряет смысл (если не вставлять немецкого слова), ибо для обозначения духовной любви (к родине, матери, близким, друзьям и т. п.) и любви к женщине как физического влечения в венгерском языке есть два разных, хотя и одинаковых по корню слова: szeretet и szerelem. Именно это и поставило в тупик замечательную переводчицу.
Словарный запас и контекст
– Мама, что значит tb?
– Зависит, сынок, от того, что ты читаешь. Может быть tiszteletbeli (почетный [член общества]). В спортивной газете, возможно, означает Testnevelési Bizottság (комитет по физкультуре и спорту), а в медицинской статье – туберкулез. В каком-нибудь историческом тексте не исключено, что táblabi'ró (член апелляционного суда).
Этот пример, который может показаться крайностью, взят тем не менее из жизни. Из него следует вывод, что слова, так же как и всевозможные сокращения, нельзя рассматривать вне их связи с другими словами. Понять и заучить их можно только из контекста.
Слово это мы употребляем довольно часто как в прямом, так и в переносном смысле. Но, может быть, мало кому известна его этимология. Латинское слово contextum означает «сотканный, сплетенный, связанный». Его исходный смысл интересно знать потому, что всякий текст – будь то письменный или устный – представляет собою, по сути дела, сплетение. Из него можно изъять какое-либо слово или выражение, но, изолированные, они будут представлять целое лишь в той же мере, в какой представляет цепь одно ее звено или вышитый узор – пара ниток. Нити сплетаются, закрепляют друг друга, подчеркивают цвет друг друга и вместе образуют гармонию красок, формы, крепкую ткань.
Вероятно, всем, кто изучал хоть один иностранный язык, знакомо ощущение, какое испытываешь, когда впервые за много лет оказываешься вынужден на этом языке заговорить. Со скрипом вращаются колесики мышления, и в досаде разводишь руками: знал, помнил, но забыл. В голову не приходят простейшие слова. И вытеснили их, как мне кажется, в таких случаях не соответствующие слова родного языка, а слова другого языка, которым сейчас живешь, на котором читаешь, разговариваешь. И вот спустя 10–20 минут негодования на свою память и удивления – «Надо же, так хорошо знал и забыл!» – слова и формы потихоньку начинают восстанавливаться. Выплывают на поверхность существительные, годами пылившиеся на складе памяти, к ним сами собой начинают прилипать определения и правильно спряженные глаголы. Партнер по беседе удивляется, а ты про себя торжествуешь: «До склероза пока еще очень далеко, да и сам я вроде не такой уж и тупица, как перед этим только что себя честил». А дело в том, что начался процесс, который в будничных ситуациях редко осознается, но присущ человеческому восприятию вообще, – процесс ассоциирования. Слова и выражения, воспринятые, усвоенные в определенной смысловой связи, а через смысловую – и в связи формально-грамматической, то есть в контексте, – начали проявлять свою гравитационную силу, стали как бы сами становиться на свои места.
Я долго ломала голову над общеизвестным фактом: почему так слаба у человека так называемая память на имена? Бытовые или профессиональные понятия приходят нам в голову по первому зову даже в том случае, если мы не пользовались ими годами, а имена – наших знакомых, друзей, родственников, – бывает, прямо безнадежно куда-то проваливаются. И если в пожилом возрасте начинает отказывать память, то первой перестает служить нам именно память на имена. Томас Манн пишет об одной из своих героинь, что она была в том возрасте, когда память работает еще безупречно, но память на имена (Namengedächtnis) уже ржавеет.
Мне кажется, что это явление возможно объяснить через понятие контекста. Слова не приходится искать потому, что в памяти они пребывают не в изолированном виде, а логически привязаны к определенным структурам, явлениям, образам, ситуациям и т. п. А между именем и его носителем нет таких «контекстообразующих» связей, которые помогли бы разом вспомнить, что девочку, которая живет по соседству, зовут Ева, одноклассницу, которая вчера бросилась мне на шею в автобусе, – Мария Ковач, а страшно знакомый голос, звучащий сейчас в телефонной трубке, принадлежит моему старинному приятелю Лайошу Барта, пропавшему несколько лет назад бог весть куда и теперь вновь объявившемуся.
Тот, кто не раз попадал в трагикомические ситуации, возникающие в связи с забыванием имен близких, хороших людей, вероятно, нашел уже и противоядие: разговаривать таким образом, чтобы избегать обращения, а пользоваться шутливо-ироническим «дорогой, дорогая» или дружески фамильярным «старик, мать», как говорит современная молодежь. Или беседу направляют так, чтобы «сюрпризный визави» сам назвал свое имя.
Я же предложила бы средство для предупреждения подобных ситуаций вообще. Этот на первый взгляд чисто светский прием может оказаться и способом – подчеркиваю: только общим способом – заучивания новых слов иностранного языка. Речь идет о так называемых «мнемотехнических приемах», которые представляют, по сути, не что иное, как построение искусственного контекста. Слову или имени никогда не следует давать повиснуть в вакууме, а надо ассоциировать его с каким-либо другим, уже известным выражением или понятием. Не нужно искать обязательно смысловые связи: для закрепления достаточно и формального сходства. Никогда не забуду, как будет по-японски «бедный человек» и по-итальянски «мальчик»: и то и другое звучит как «бимбо».
Конечно же, эти формальные ассоциации небезопасны. В одной из своих книг Рихард Катц пишет, что японское «спасибо» (арригато) он запомнил через «аллигатора». Наверное, поэтому сказал он милой маленькой гейше, помогавшей ему надеть пальто, «крокодил».
Контекстом служат не только лексические элементы речи, но и все, что речь сопровождает, – выражение лица, интонация, жест руки. Поэтому мы лучше понимаем живого, жестикулирующего партнера, чем порою фонетически безупречную речь невидимого диктора радио. А в моей практике был случай – критический случай, – когда спасительным контекстом послужил мне цвет лица говорящего. Произошло это на одной международной конференции, на которой я работала в качестве переводчика-синхрониста. Надо сказать, что некоторые синхронисты (к ним принадлежу и я) имеют привычку переводить с закрытыми глазами – благо никто не видит этого, так как синхронисты работают обычно в специальных закрытых кабинах. Так лучше сосредоточиться, устранить все мешающие, рассеивающие внимание визуальные впечатления. Один из делегатов выступил с таким политэкономическим предложением, за которым даже в лихорадке одной-единственной заботы: «не отстать больше, чем на три-четыре слова» – я почувствовала расовую дискриминацию. Ответная реплика по-французски была выразительной, но очень краткой, и я не расслышала одного важнейшего слова – не поняла, счел ли выступивший это предложение acceptable (приемлемым) или inacceptable (неприемлемым). Наверное, от страха я открыла глаза, посмотрела в окошко кабины и была спасена: темное лицо африканца, выступившего с замечанием по предложению, рассеяло мои сомнения.
Роль господина учителя Контекста состоит, однако, не в наведении порядка в случае недоразумений или промахов памяти, а в облегчении приобретения необходимых нам знаний.
Опять начну со словарного запаса, потому что это наиболее конкретная, лучше всего «прощупываемая» составная часть наших языковых знаний. Этим фактом часто пользуются и словарный запас отождествляют со знанием языка, а память на слова – с языковыми навыками. А это разные вещи.
Однажды я слышала, как гордый отец заявил, что его дочь учит немецкий и уже «освоила половину языка». Как это «половину» языка? Очень просто: она уже знает примерно 1500 слов, и когда выучит еще 1500, то будет прекрасно говорить по-немецки.
Еще более наивное замечание, тоже в связи с немецким языком, слыхала я от одного из наших юных коллег – ему было, должно быть, лет семь-восемь. Он ехал в трамвае с мамой и болтал без умолку:
– Мам, ты представляешь, завтра у нас будет урок немецкого языка.
Мама, погруженная, очевидно, в другие заботы, отреагировала на это великое событие только кивком головы. Мальчуган разочарованно замолчал, но новость волновала его настолько, что через пару минут он опять стал теребить свою мать:
– Мам, правда, что после урока я уже буду говорить только по-немецки?
Нет, к сожалению, этот юный энтузиаст после урока по-немецки не заговорит. Не будет он знать языка ни через неделю, ни через месяц, не будет знать и тогда, когда выучит пресловутый лексический минимум в три тысячи слов.
Словарный запас языка, согласно утверждению Дюлы Лазициуса, – это безбрежное море, которое беспрерывно увеличивается за счет внутренних возможностей словообразования и из-за постоянно расширяющихся контактов с другими языками.
Мы даже еще не начали заигрывать с мыслью овладеть новым языком, а уже владеем, нередко сами того не осознавая, какой-то частью его лексики. Только в одной-единственной полосе музыкально-критического текста я насчитала как-то 14 итальянских слов, а текст был венгерским. А футбольные болельщики, можно сказать, ссорятся исключительно по-английски, обсуждая результаты только что закончившегося матча. Во многие языки вошло русское слово «спутник». Но даже в таких языках-аутсайдерах, как японский, мы тоже находим вошедшие во многие языки слова: «кимоно», «тайфун», «гейша», «харакири»…
Большая часть географических понятий во всех языках и львиная доля научных понятий вообще – международные слова, а морская терминология во всех европейских языках голландского происхождения.
Языки впитали в себя много тысяч иностранных слов и выражений. Но дело в том, что они дали им свое гражданство и включили их в свою систему грамматических изменений. Некоторые из этих иностранных слов и выражений в процессе ассимиляции настолько изменились, что порою и филологу приходится трудно. Венгерский язык, например, вобрал в себя массу славянских слов, имеющих отношение к оседлой жизни и сельскому хозяйству, ибо мадьяры, прекратив кочевой образ жизни в эпоху Великого переселения народов, около середины первого тысячелетия нашей эры осели в прикарпатской котловине, где жили славянские племена. В венгерском языке появились такие слова, как ebéd (обед), villa (вилы, вилка), vacsora (ужин, от слова «вечер»), mezsgye (межа), kormány (правительство, от «кормило») и т. п.
Один из моих знакомых на спор составил такой английский текст, в котором все слова были греческого или латинского происхождения. Текст был медицинским. Его прочли врачам, которые английского языка не знали, но знали латынь и немногие греческий. Однако никто ничего не понял. Неудивительно! Действительно, из-за фонетических правил английского трудно узнать в слове «изофёгс» – aesophagus, а в «сайки» – psyche, в «фитес» – foetus. А французские слова nature morte (натюрморт) и chef d’oeuvre (шедевр) помогут русскому, изучающему французский язык, только в том случае, если ему известна этимология этих слов.
Но понимание, точнее узнавание, в иностранном тексте заимствований все же не проблема, если этот текст читается. И такая лексическая помощь не проблема, если речь идет о высоких материях. Но по мере приближения к повседневности заимствованная лексика языка становится все более национальной. Тут уж ничего не поделаешь: надо заучивать. Без ниток ткани не соткешь.