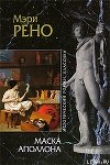Текст книги "Совсем не Аполлон"
Автор книги: Катарина Киери
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
7
У меня еще побаливало горло, сил было мало, но в среду я все-таки решила пойти в школу.
Лена не звонила. Странно. Обычно мы всегда знали друг о друге главное – больна или здорова, дома или уехала. А теперь все было не как прежде, все было иначе. И на этот раз я опять не могла понять, что правильнее – позвонить или оставить в покое. Что для нее лучше? Потом я спросила себя, какое обвинение хуже: что ты звонишь слишком часто или слишком редко. «Слишком редко – хуже», – решила я. К тому же я не имела представления о том, что сказать, когда она возьмет трубку.
После десяти сигналов я почувствовала облегчение с примесью стыда. А потом возникло беспокойство, неприятное чувство, трепещущее в животе, как аквариумная рыбка. А вдруг что-то случилось? Вдруг кто-то серьезно заболел? Лена. Или кто-то из родителей. А клин, втиснувшийся между нами, – не я ли его вбила? – из-за него я чувствовала не просто тревогу, но и какую-то отлученность. Как будто я не имела права даже волноваться. В то же время я пыталась понять, чья дверь захлопнулась, и пришла к выводу, что Ленина. Но кто ее захлопнул? И кто должен ее открыть? И должна ли я сидеть у Лениного порога, как собака, ждущая, когда впустят? Или надо стучать, пока она не поймет, что я хочу войти? И хочу ли я?
Лены не было и в школе. И накануне ее не было. Барбру, наша классная и учительница шведского, дала понять, что не в восторге от нашего исчезновения, – особенно учитывая, что ни одна из нас даже не позвонила. Я извинилась, не в силах объяснять, что на этот раз отвечаю только за себя. Вообще это не редкость: учителя бросают обвинения, а у тебя нет сил объясняться. Иногда мы с Леной говорили об этом: пусть учителя ругают учеников, ради бога, только пусть ругают за дело и по-умному.
Я решила зайти к Лене после школы. По крайней мере чтобы посмотреть, на месте ли дом, водятся ли там еще люди, цел ли телефонный провод.
Конечно, без Лены в школе в сто раз скучнее. Мы знаем друг друга. Точно знаем, что означает поднятая бровь и как бесят иногда некоторые учителя и одноклассники. Есть, конечно, и нормальные ребята: на обществознании было даже интересно – я попала в одну группу со Стефаном и Йеспером, мы говорили о преступлении и наказании, законе и праве.
У меня возникло чувство, будто я встретилась с ними впервые за несколько лет. Как престарелая родственница, которая последний раз видела их на юбилее какой-нибудь тетушки и теперь удивляется: оказывается, маленький мальчик успел вырасти. Не знаю, чего я от них ожидала, – думала, наверное, что Йеспер полушутя предложит вернуть смертную казнь. Я ошибалась. И он, и Стефан оказались настоящими гуманистами, оба считали, что в тюрьмах должно быть качественное образование – чтобы у любого заключенного был шанс начать новую жизнь. Честно говоря, раньше я не замечала, что Йеспера сильно интересует образование и все такое. Похоже, я мало смотрела по сторонам и много чего упустила. Со Стефаном все всегда было более или менее ясно: все-таки у него мама – художник, а папа – джазовый музыкант или что-то в этом роде, они должны хорошо влиять на сына.
Зато они не согласились со мной в том, что в тюрьмах надо больше рассказывать о правах женщин. Наверное, я слишком многого требую. Если честно, я и сама не знаю толком, что имела в виду. Может быть, мне просто хотелось высказать точку зрения, с которой они никак не согласятся, не была я готова к тому, что у нас так много общего.
В обед я пошла в библиотеку. Обожаю библиотеки! То есть, извините, это уже перебор. Но я хочу сказать, библиотека – классное место. Дело не только в книгах; сама библиотека – это одно большое «пожалуйста, на здоровье, добро пожаловать!». Пожалуйста, сядьте почитать журнал. Пожалуйста, вот новые книги. Или, если хотите, вот старые. Прячьтесь себе за стеллажом от всего остального мира, если угодно.
А все эти случайные находки, которые делаешь, разыскивая что-то другое или просто перебирая книги без цели. На этот раз я буквально споткнулась об одну такую книгу. Она упала с подставки. «Летняя книга» Туве Янссон. Той самой, которая написала про муми-троллей. Но это произведение было не для детей. Я узнала обложку – видела ее раньше. Внутри разлилось тепло – Анника. Эта книга есть у Анники.
Анника – сестра моего папы. То есть моя тетя. Или подруга. Она всегда со мной, даже если мы совсем редко видимся.
Это она научила меня читать, когда нянчила меня, хотя сама говорит, что просто помогла мне «овладеть механизмом чтения» (по-моему, эта формулировка гораздо сложнее). Мне было пять лет. Она взяла карточки с буквами из игры «Алфавит» и разложила на кухонном столе. Я знала почти все буквы, но совсем не понимала, что есть принцип, который их организует. Буквы были вроде магических знаков – я сидела и делала вид, что пишу. То есть до меня все-таки дошло, что буквы надо писать. Я исписывала страницу за страницей в блокнотах в клеточку, которые папа приносил с работы.
Вдруг тайна раскрылась, словно по волшебству! Я помню тот вечер – это было событие, как будто отворилась дверь в новый мир. Видимо, сама того не понимая, я уже некоторое время стояла на пороге этого открытия. Когда Анника ушла домой, я заперлась в туалете и стала читать «Карлсона, который живет на крыше». У меня получалось! Но были и минусы: мама с папой перестали читать мне перед сном. Зачем, если я и сама справлялась. Если у меня когда-нибудь появятся дети, я всегда буду читать им перед сном. Каждый вечер, пока они не станут совсем взрослыми и не уедут от меня.
Анника – не просто тетя и подруга. Иногда она мой личный библиотекарь. Она читает огромное количество книг и любит рассказывать о них. И мне что-нибудь всегда советует. Возле ее кровати всегда громоздятся стопки книг, и еще она составляет длиннющие списки того, что нужно прочесть. Я не понимаю, как человек успевает столько читать.
У мамы с Анникой что-то не ладится. Я стала замечать это, когда немного подросла, но в чем дело – до сих пор не знаю. Они как будто держат друг друга на расстоянии. Всякий раз, как кто-нибудь заговаривает об Аннике, у мамы холодеет взгляд, тон делается более резким. И папа умолкает, как будто бережет силы. Я никогда не спрашивала, в чем дело, – просто не смела, не решалась приблизиться.
А с самой Анникой разговаривать легко – почти о чем угодно. Она слушает и принимает тебя всерьез, и сама она откровенна. Пару раз я ходила к Аннике вместе с Леной, но это было уже не то. Мне все казалось, что я пытаюсь угодить обеим, а расстояние между ними не уменьшается.
Мне кажется, Аннике понравился бы Андерс Страндберг.
Я взяла «Летнюю книгу» Туве Янссон. Карина, библиотекарь, просияла, одарив меня довольной улыбкой.
После обеда у нас была пара математики. Не могу сказать, что люблю этот предмет. Лена же по какой-то непостижимой причине любит, да еще и умеет, в отличие от нашей ненаглядной математички Май-Бритт, объяснять так, что даже я начинаю понимать. Не то чтоб я была совсем тупой, просто мозг закипает и пот течет по всему телу, когда цифры и знаки заводят в голове хоровод. Пара математики без Лены – это, прямо скажу, не подарок.
Лена. Я твердо решила зайти к ней после школы, хоть это и нелегко. Почему все так изменилось всего за несколько дней? Человек – хрупкий сосуд, как говорит Лена. Наверное, это строчка, которую она прочла в одной из трехсот тысяч своих книг.
А потом кое-что случилось, и мне стало не до книжек. Май-Бритт заболела – и кто, скажите, кто заменял ее?
Мы вошли в класс и расселись по местам. Я сидела одна – и хорошо, что успела сесть, когда дверь открылась и вошел Андерс Страндберг. У меня заколотилось сердце, колени задрожали, в горле пересохло. На этот раз он был в пиджаке поверх свитера. Простой черный пиджак. И никаких снежинок на воротнике.
Книга, которую я только что взяла в библиотеке, лежала на парте, и я стала читать текст на задней стороне обложки. То есть я изо всех сил пыталась прочесть, что там написано, не понимая ни слова, – наверное, так чувствуют себя дислексики. Но мне надо было куда-то уткнуться взглядом – не могла же я сидеть и таращиться на него с пылающими щеками, словно какая-нибудь барышня из усадьбы девятнадцатого века. Будто какая-нибудь Лидия Стилле.
Перечитав текст трижды, я осторожно подняла голову. Он стоял перед кафедрой, чуть откинувшись назад. Ждал, когда класс утихнет. Я не хотела, чтобы он смотрел на меня. Я хотела, чтобы он смотрел на меня. Я не хотела, чтобы он смотрел на меня. Я хотела, чтобы он…
Он посмотрел на меня. Просиял. Или просто испытал облегчение. Не то чтоб улыбка у него была до ушей (вообще жутко представить себе «улыбку до ушей») и в тридцать два, как говорится, зуба – будто в диснеевском мультике. Но я видела, что он приятно удивлен. Честное слово, я не выдумываю. У него был и вправду радостный вид. Такие вещи замечаешь с первого взгляда. Я знаю, что он обрадовался, увидев меня.
Урок был на повторение материала. Впереди была последняя в этом семестре контрольная. Андерс Страндберг раздал листки с упражнениями. Я с каким-то облегчением поняла, что он не будет два часа стоять у доски, повторяя параграф за параграфом, и мне не придется постоянно смотреть на него. Все время видеть его перед собой и думать о том, не слишком ли заметно обожание в моих глазах или, наоборот, не слишком ли часто я отворачиваюсь, было бы тяжело. И еще я испытывала облегчение, хотя и с примесью стыда, – от того, что рядом нет Лены.
Неужели я влюбилась?
Неужели Бог, существование которого я отрицала, все же указал на меня перстом?
Неужели этот Бог, в которого я не верю, сказал: «Вот она. Теперь ее очередь. Теперь у нее по коже побегут мурашки, мысли будут путаться, ее постигнут любовные разочарования, она испытает приливы счастья. Будет ворочаться во сне, просыпаться ни свет ни заря, ходить вокруг с расширенными от возбуждения зрачками. Будет дрожать, услышав его имя».
Неужели всё так?
И если всё так, если так оно на самом деле и есть, по-настоящему, всерьез, то дело плохо. Слишком уж неудачные исходные данные, они лишают эту влюбленность всякого смысла. Влюбиться в учителя – заведомо провальный проект. И очевидная глупость. Безумие. Ку-ку, у тебя все дома? Я видела себя со стороны, в классе, среди неуклюжих сопливых пятнадцатилеток. Если бы они вдруг узнали, что я сижу и пытаюсь понять, влюблена я в нашего нового математика или нет, то в их глазах я тут же превратилась бы в пришельца. Никто, это точно, никто из них не понял бы, о чем идет речь. А о чем они сами думали? О снегоходе, который достанут из гаража на выходных? О Леонардо Ди Каприо? О новом средстве против прыщей?
Может, влюбленность и превращает тебя в избранного, не такого, как все, но в то же время ты становишься одиночкой. Влюбленность связана с одиночеством. По крайней мере если влюбиться не там, не в того и не тогда, когда надо.
– Она хорошая.
Я вздрогнула. Он стоял совсем рядом, я испуганно подняла голову, почувствовав себя маленькой девочкой за большой партой. Хорошая? Кто? Что?
Он кивнул в сторону книги, лежащей передо мной:
– Туве Янссон. Хорошая писательница.
Он взял книгу хорошей писательницы с моей парты. Посмотрел на нее. Потом на меня. И улыбнулся. Эта улыбка предвещала прекрасную беседу. Теплота и мягкость. Кошка потерлась о мою ногу, робко взглянула на него снизу вверх.
– Ты ее читала?
– Да… то есть нет. Я ее только что взяла. На перемене.
Он положил книгу на парту. Кольца нет. Нет кольца. На пальце нет кольца.
– Все получается?
Я растерянно посмотрела на него. Наверное, он уже решил, что в тупости со мной никто не сравнится: что бы он ни сказал, я смотрю на него с таким видом, будто он говорит на иностранном языке.
– Справляешься с упражнениями?
– Да…
Сказала я, не написав ни единой цифры, не решив ни одного примера, не выполнив ни одного математического действия.
– Если что, обращайся, – сказал он и отправился дальше, от парты к парте. Интересно, их в институте учат этой медленной учительской походке?
«Если что, обращайся…»
– Господин учитель, извините, но я, кажется, в вас влюбилась.
– У меня вопрос. Что вы делаете сегодня вечером?
– Такое дело, парень: хочу быть с тобой!
Андерс Страндберг был хорошим учителем математики. Было видно, что он любил свой предмет, но не так, как некоторые учителя, которые словно мечтают, чтобы не осталось ничего, кроме их предмета. Он терпеливо помогал тем, для кого математика оставалась тайной за семью печатями. Однако я не спешила позвать на помощь. Все мои силы уходили на борьбу с дурацкими фантазиями, в которых мы лежали рядом на траве, в мягких лучах солнца, и он объяснял мне какую-то божественную математическую формулу. Формулу, которая раскрывала тайну Вселенной. Я пересмотрела фильмов, это точно.
И чувство юмора у него было. В нашем с Леной списке самых важных учительских качеств это – чуть ли не на первом месте. У всех умных людей есть чувство юмора, это мы давно поняли. Я слышала громкий визгливый смех Лиисы и Марии, когда он помогал им с каким-то упражнением. Громкий и визгливый смех говорит о недостатке интеллекта. Иногда и я так смеюсь.
Йеспер и Стефан смеялись совсем по-другому, когда Андерс Страндберг стоял возле них. Все трое хихикали, как первоклассники. Интересно, над чем. Вряд ли над каким-то уравнением.
Я совсем не собиралась оставаться в классе последней. Правда, я даже не думала об этом. Просто так получилось: Андерс Страндберг и я остались в классе, когда все остальные ушли. Он перебирал бумаги, лежащие на кафедре.
Некоторые слова, звучащие совсем обыденно в рядовой ситуации, порой бывает ужасно сложно произнести. Как, например, сейчас: я сто раз прокрутила в голове простые слова о том, что читала его статью, но никак не решалась сказать об этом. А вдруг он неправильно поймет? А вдруг увидит меня насквозь? А вдруг, вернувшись в учительскую, расскажет директору – тут-то они и посмеются всласть!
Я дала себе десять секунд. Молча отсчитывала, аккуратно укладывая книгу Туве Янссон в сумку поверх остальных. Вынула книгу, перевернула, снова положила… пять, шесть, семь, восемь…
– Я читала вашу статью. Про книгу.
– Правда?
Удивленно. И неподдельно радостно. Некоторые вещи действительно видны с первого взгляда. И порой это очень ободряет.
– И книгу прочла. Она есть у нас дома.
Он оставил свои бумаги. Посмотрел на меня. Как-то по-новому. Как будто всерьез приглядываясь.
– Вот как… это… здорово, – заключил он и коротко засмеялся. Таким дружеским смехом. – И как она тебе? Эта книга?
Ой. Об этом я и не подумала. Что надо что-то сказать и о самой книге. Я задумалась, пытаясь вспомнить свои впечатления.
– Хорошая. Довольно грустная. Они как будто в плену.
Кажется, он даже не догадывался о том, как внимательно рассматривает меня. Зато я догадывалась и даже знала наверняка, что у меня горят щеки. Его взгляд и смущал, и радовал меня. Время замерло. А потом в класс ворвались Лииса и Мария. То есть они вовсе не врывались, но все равно помешали, разрушили атмосферу. Они хихикали, топали, чавкали жвачкой. Одна из них, оказывается, забыла шарф. В классе тут же стало тесно.
Андерс Страндберг посмотрел на них растерянным и каким-то отсутствующим взглядом. Я застегнула молнию на сумке и пошла к двери. Как будто в классе мне больше не было места. Затем быстро обернулась и посмотрела на него с прежней неуверенностью.
– До свидания.
Попрощаться, по крайней мере, я смогла.
– Да, до свидания, – он вернулся к своим бумагам.
Потом поднял голову, посмотрел на меня еще раз и улыбнулся:
– Передавай привет Туве.
– Передам.
Как только мы вышли за дверь, Лииса и Мария с любопытством посмотрели на меня.
– Какой Туве? – спросила Лииса.
– Из 9-го «А»? – добавила Мария.
– Нет. Янссон, – ответила я. – Туве Янссон.
– Она из нашей школы? – спросила Мария.
– Не совсем. Она лежит у меня в сумке.
Они вытаращили глаза.
На улице почти стемнело. Шел снег. «Покой опускается снегом с неба» – это я однажды прочла такое стихотворение. Поэт из Йокмокка. Когда идет снег, я иногда его вспоминаю. Понимаю этот неяркий образ. Падал снег, а я отправилась к Лене.
Я шла к Лене, которая была моей лучшей подругой, с которой я последние несколько лет встречалась едва ли не каждый день, у которой гостила бессчетное количество раз. Теперь же мне казалось, что я иду к незнакомому человеку.
Несколько минут назад я стояла рядом с Андерсом Страндбергом. Разговаривала, пусть коротко и напряженно, но доверительно, с мужчиной, о существовании которого не подозревала неделю назад, а вот теперь он казался старым знакомым. Если бы меня спросили: «Ты знаешь Андерса Страндберга?» – то я ответила бы: «Знаю». Мне почти ничего не было известно о нем, и все же он был таким… своим.
Один человек стал чужим. Другой стал… нечужим. И одно случилось из-за другого. Если Андерс Страндберг снова будет чужим, станет ли Лена автоматически нечужой?
Я позвонила в дверь. Раз, другой, третий. Наконец мне открыли.
Человека, который стоял передо мной, казалось, только что достали из центрифуги. Или целый год не давали спать. Или, может быть, человек сутки проплакал. Красные глаза. Бледное лицо. Волосы, остриженные аккуратным каре, лежат не слишком опрятно. Ленина мама.
В первую секунду мне захотелось повернуться и уйти: я почувствовала, что это уже слишком для меня, пятнадцатилетней девчонки, заигравшейся в любовь. Но я не ушла.
– Ох, Лаура… тут немного…
Уголки рта задергались, она в любую секунду могла заплакать. В животе резануло, обдало холодом. Господи, что случилось?
– Лена не дома?..
Она глубоко, прерывисто вдохнула.
– Она у бабушки.
Я видела, как она борется с собой, стараясь сохранить самообладание.
– Хорошо… Понятно.
Я шагнула назад. Должна ли я остаться на месте? Спросить, что случилось? Еще шаг. Хочет ли она что-то добавить? Или мечтает поскорее закрыть дверь? Она с отчаянием посмотрела на меня. Раскрыла губы, словно собираясь что-то сказать, но слов не прозвучало. И закрыла дверь, бросив на меня извиняющийся взгляд.
Весь вечер я просидела, глядя в учебник математики, но никак не могла сосредоточиться. В голове вертелись образы прошедшего дня, заслоняя собой страницы учебника. Андерс Страндберг рассматривает меня, стоя в пустом классе. Полные отчаяния глаза Лениной мамы, стоящей на пороге дома.
Я так и не решилась открыть телефонный справочник, чтобы найти номер Лениной бабушки. Я должна была это сделать. Каждые пять минут я вспоминала об этом. Но так и не сделала.
8
Бессонница – не самое обычное для меня состояние, со мной такого почти не бывает. Иногда, особенно перед месячными, немного слабеют ноги и в животе какое-то беспокойство. И те несколько раз, когда я лежала с высокой температурой, спалось плохо: мне снились путаные, странные сны, которые переплетались с явью. Но когда я здорова, никаких трудностей со сном я не испытываю. Однако теперь все не так, как прежде.
Утром у меня было чувство, будто я проспала три минуты, не больше. Ночь выдалась беспокойной. Тело не слушалось, мне приходилось уговаривать себя пошевелиться и встать, хотя голова оставалась ясной. Мозг приказывал: «Встань, оденься, позавтракай». И тело понимало, но делало все не так: доставало не те продукты из холодильника, несколько лишних минут просидело на кровати с носком в руке, не понимая, на что его нужно надеть, дольше обычного чистило зубы. Образы вчерашнего дня роились в голове. Я пыталась упорядочить их, но безуспешно.
Я, конечно же, опоздала. Последние несколько сотен метров пришлось бежать. Сначала хотела зайти в приемную и узнать, нет ли вестей от Лены, – вдруг что-то прояснилось, – но это пришлось отложить на потом.
Уже ступив на лестницу и взявшись за ручку двери, я вдруг услышала:
– Лаура!
На школьном дворе никого, кроме меня. Ни души, никаких преград для этого голоса. Мое имя еще долго отзывалось бы эхом между каменными стенами, если бы не снег, если бы не тихий, приглушающий снег. Его голос, произносящий мое имя, отзывался бы эхом. Его голос, выкрикнувший мое имя на парковке у школы.
– Подожди.
Он подбежал ко мне с пачкой бумаг в одной руке и тяжелым портфелем в другой. Он выкрикнул мое имя, а потом подбежал ко мне. Перевел дыхание, прежде чем заговорить:
– Здравствуй. Да. Я хотел кое-что спросить.
«Я хотел кое-что спросить». Нервные волны побежали по всему телу, поднялись к горлу, растеклись по кровеносным сосудам, пока он переводил дыхание, чтобы продолжить.
– Или ты спешишь?
– Урок начался… – я посмотрела на часы, – пять минут назад.
– Ой. Прости.
Он легко засмеялся. Мы оба засмеялись.
– Можешь потом зайти в учительскую? Перед обедом? Тогда поговорим.
О чем? И как?
– У меня после этого урока окно.
– Отлично. Приходи. То есть если можешь.
Он зажал стопку бумаг под мышкой – той рукой, которой держал портфель, – и открыл передо мною дверь. Впервые в жизни мужчина открыл передо мною дверь. Я спокойно вошла, хотя мне было бы удобнее открыть дверь самой и впустить его, и побежала на английский.
Была я внимательна на уроке? Ответила ли я на вопросы о том, почему Лены нет уже неделю? Нет и нет.
Рабочий кабинет Андерса Страндберга представлял собой маленькую каморку рядом с учительской. Наверное, не очень-то весело там сидеть. Честно говоря, я никогда не задумывалась о том, в каких условиях приходится работать учителям, когда они не ведут уроки. К тому же эта каморка была рассчитана на двоих: он плюс, кажется, Май-Бритт. Математики должны держаться вместе. На его рабочем столе лежали стопки бумаг, сложенные кое-как, того и гляди рассыплются по полу.
Стоя рядом, я чувствовала, что начинаю привыкать к его присутствию. То, что я нахожусь рядом с ним, было уже не так непостижимо странно. Даже вполне естественно. Кошка стояла рядом, глядя прямо на него.
– Присаживайся, – сказал он, быстро взглянув на меня, и положил лист бумаги, на котором только что писал, на самый верх стопки – та чуть не упала. – Спасибо, что нашла время прийти.
На секунду мне стало немного неприятно. От всей этой ситуации вдруг повеяло холодом и сухостью. Как будто он был представителем власти, который вызвал меня для серьезной беседы, для начала обманув мою бдительность притворно-дружеским тоном. Как будто он вовсе не был тем Андерсом Страндбергом, каким я его себе представляла.
Но стоило ему оглядеться по сторонам, взглянуть на меня и засмеяться, как это неприятное чувство исчезло.
– Да, вот так я и живу!
Я немного расслабилась и даже пошутить смогла:
– Очень уютно.
И мы снова оказались на равных.
– Я тут кое о чем подумал. Не хочешь ли написать для газеты о какой-нибудь книге? Ну, знаешь, для той газеты, в которую я пишу.
Чего?! Простите, извините, я верно расслышала? Разве можно просто так взять и спросить? О таком? Это же огромный, гигантский, необъятный вопрос! Он что, этого не понимал?
Наверное, понимал. Он смотрел на меня дружеским и открытым взглядом, не торопя с ответом на огромный вопрос, который пока не нашел себе места в этой каморке. И у меня внутри.
– Не обязательно решать сейчас. Но я знаю, что Анки, редактор отдела культуры, хотела бы найти молодого автора, который может написать о любимой книге. Рекомендацию читателям перед Рождеством.
Господи боже мой! Написать статью для газеты! Подписанную моим именем! Да такую газету, может быть, читает куча народу! Писать в школьную газету – это одно, а в настоящую, ежедневную, подписка на которую стоит несколько сотен крон каждый месяц, – это, мягко говоря, нечто иное. И откуда мне знать, могу я или нет написать о книге так, чтобы это было интересно другим.
– Если тебе понравится книга Туве Янссон, например. Прочесть темной зимой повесть, действие которой разворачивается летом в финских шхерах, – неплохо, по-моему. Или можно написать о другой книге. Выбор, конечно, за тобой.
– Я не знаю…
Ну почему именно сейчас мне надо думать над вопросом, на который так трудно ответить? Над вопросом, который и радует, и пугает. Почему мне нельзя просто продолжать заниматься тем, что я наверняка знаю и отлично умею? И почему этот вопрос мне задает именно Андерс Страндберг?
– Никакой спешки. И ты ничего не должна. Если не хочешь, то просто скажи.
Слишком поздно – неужели он не понимает? Слишком поздно для таких слов. Теперь я все равно буду мучиться над этим вопросом, пока не позеленею. Что бы я ни решила.
– Хотя, конечно, – подмигнул он, – было бы здорово, если бы у меня в школе появилась коллега.
– Ну, я не знаю…
Какой словарный запас! Какие прекрасные данные для будущего рецензента!
В приемной мне сказали, что Ленин папа позвонил и сообщил, что Лена болеет и не придет в школу до конца недели. То есть Лена жива, мама жива, папа жив, бабушка жива. Уже что-то. Живы-то живы, но что происходит в их жизни?
Дома. Мама, кажется, заметила, что все не как обычно.
Я сидела у себя в комнате, пытаясь готовиться к контрольной по математике. Вчера вечером у меня ничего не получилось, и теперь я чувствовала, что никогда в жизни не была так плохо готова к контрольной. Завтра передо мной ляжет лист с заданиями, и это конец.
Голос Моррисси звучит достаточно громко, чтобы прочувствовать весь трагизм его песен. Длинные ряды уравнений. И вдруг я чувствую, что она стоит у меня за спиной. Вижу отражение в темном оконном стекле, чувствую ее присутствие. И воздух вокруг нее вибрирует от непонятной злобы. Дрожит. Выжидает.
– Что с тобой вообще происходит?
Голос неуверенно-визгливый, и я знаю, даже не глядя на нее, что она держится скованно. Слезы поднимаются на поверхность, из самого живота в горло, к глазам. Держаться. Не плакать. Проглоти ком. Еще раз проглоти.
– Что?
– Что-то происходит. Ты последнее время на себя не похожа.
Что-то происходит – но почему она так сердится? Почему ее так злит, что я не похожа на себя?
– А Лена, где она? Вы больше не общаетесь?
Этот голос, обращенный ко мне. Обвинительные интонации. Я ничего не могу сказать. Не могу рассказать, что происходит на самом деле, не могу объяснить, почему я не похожа на себя, не могу описать своих чувств. И я знаю, что от моего молчания только хуже.
Я слышу, как она садится на мою кровать, как берет в руки две книги, лежащие на тумбочке.
– Тебе Анника велела их прочесть?
Что вообще происходит? Теперь всем достанется, что ли, кто под горячую руку попался? Ну ладно, на этот вопрос по крайней мере можно ответить.
– Нет, не Анника.
Я все еще не смотрю в ее сторону. Но, судя по молчанию, она поняла, что зашла слишком далеко. Я уверена, что она не признается в этом. Поднимаю голову от учебника математики. Рождественская звезда светит тускло, синие шары утратили блеск и бессмысленно болтаются в окне. Во рту пресный вкус.
– Ты уроки делаешь?
Тщетная попытка спасти то, что давным-давно испорчено.
– У нас завтра контрольная по математике.
– Понятно.
Неловкое прикосновение руки к моим волосам – видимо, это было проявление нежности. Вздох с выражением – то ли чего-то хорошего, то ли чего-то плохого. Она выходит из комнаты, мы так ни к чему и не пришли, ничего не сказали друг другу.
И я так и не открыла телефонный справочник. Не нашла номер Лениной бабушки.