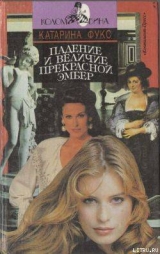
Текст книги "Падение и величие прекрасной Эмбер. Книга 2"
Автор книги: Катарина Фукс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
А между тем время шло. Мы росли, из мальчиков превращались в юношей. Господин Хараламбос действовал хитро, борясь со своей супругой госпожой Пульхерией, то есть, с ее желанием сделать Николаоса священником. Господин Хараламбос начал предлагать сыну сопровождать его в торговых поездках. Любознательный, как все подростки, тот охотно соглашался. Конечно, Николаос хотел, чтобы я ехал вместе с ним, но госпожа Пульхерия не позволяла. Сын пытался убеждать ее, что я очень предан ему и ни за что не убегу, и все же она стояла на своем. Она просто видела, что сын выходит из-под ее влияния, это огорчало ее, и сама того не сознавая, она мстила юноше и при этом всячески отстаивала и подчеркивала свои права хозяйки Дома.
Итак, у меня не было возможности сопровождать моего друга. Казалось бы, познав столько нового, увидев многообразную жизнь за стенами родного дома, Николаос должен был бы отдалиться и от меня. Но этого не произошло. Напротив, мы сдружились еще более. Ему доставляло огромное удовольствие без конца рассказывать мне о людях, с которыми он сталкивался в поездках, о городах и дорогах.
Мы были уже юношами лет по шестнадцать. В этом возрасте желания начинают волновать сердце. В книгах московита Михаила я читал о любви и о красавицах, но в доме госпожи Пульхерии не было молодых женщин. Мне позволяли отлучаться лишь в церковь, и то вместе с другими слугами, людьми далеко не молодыми и бдительно следившими за мной. Несмотря на этот докучный надзор, я ухитрялся поглядывать на женщин и девушек на улице, а в церкви только и делал, что разглядывал женскую половину. Разумеется, мы с Николаосом много рассуждали о любви и женщинах, но оставались теоретиками, а не практиками. Занятия с отцом Герасимосом прекратились, Николаос делался все более независимым.
Ему нравились постоянные разъезды, нравилось ремесло торговца. Но он мечтал о торговле необычной. Он говорил мне, что будет продавать европейцам те древние эллинские статуи и расписные сосуды, которые здесь в изобилии находили в земле. Церковь считала, что эти языческие кумиры следует уничтожать, таким образом погибало несметное число прекрасных произведений искусства.
– Я не буду жить здесь, – горячо говорил Николаос. – Я уеду в Европу! Там у меня будет богатый дом. Я соберу под кровлей этого дома множество антиков…
Разумеется, само собой подразумевалось, что я поеду с ним.
Частенько я спрашивал своего друга, чем же так манит его эта самая Европа.
– Свободой духовной жизни, – отвечал Николаос, – Там не как у нас. Там церковники не смеют осуждать людей за то, что те пишут стихи, поют песни, ходят в театры. Там никто не настаивает на том, будто жизнь бренна и греховна. Там любят жизнь!
И мне уже хотелось поскорее покинуть дом госпожи Пульхерии и начать жить!
Однажды Николаос вернулся из очередной поездки веселым и возбужденным. У меня была каморка под лестницей, но часто Николаос оставлял меня ночевать в своей комнате. Мы спали на его широкой постели, обняв друг друга, соприкосновение наших гладких, еще мальчишеских тел было приятно нам обоим. Но даже строгая госпожа Пульхерия не находила ничего дурного в этом нашем стремлении не разлучаться даже во сне. Мы были невинны.
В тот вечер Николаос позвал меня к себе. Мы уселись на полу на ковре и он принялся рассказывать. В поездке с ним действительно произошло необычайное. Видя его ум, отец предоставлял ему все большую свободу. Николаос мог бродить по улицам тех городов, где они останавливались. В гостинице познакомился он с молодым торговцем по имени Стефанос. Тот был старше Николаоса, уже женат. Стефанос предложил вечером пойти к женщинам.
– К продажным? – перебил я с любопытством.
– Да, конечно, – ответил Николаос.
Стефанос повел его в один тайный притон и там произошло важное для моего друга событие: он впервые познал женщину.
Я, конечно, узнав об этом, тотчас осыпал его градом вопросов. Мне хотелось знать решительно все: как это делается, что при этом говорится, какое удовольствие получается… Николаосу и самому хотелось говорить, он охотно удовлетворял мое ненасытное любопытство. И, конечно, он легко догадался о моем сокровенном желании.
– Ты тоже должен познать женщину! – заявил он. – Человек, не познавший женщину, это человек неполноценный. Ты не можешь быть таким…
Сказано – сделано! Наш огромный город Истанбул предоставлял нам огромное число возможностей. Теперь Николаос хорошо узнал свой родной город. С тех пор как он стал ездить с отцом и участвовать в торговых операциях, у него завелись деньги. Отец поощрял его усердие в торговых делах, отделяя ему часть выручки. Николаос не пожалел денег на мое «крещение». Он повел меня к одной из дорогих блудниц. Сам он остался на ночь с ее подругой.
Было хорошо. Вкусная пряная пища, музыка, вино, аромат благовоний в курильницах, сладость женской плоти. Мы вернулись домой лишь под утро.
Днем у Николаоса были дела, а вечером мы с ним сидели, как у нас повелось, в его комнате. Я горячо благодарил его.
– Я рад, что тебе было хорошо, – задумчиво сказал он. – Хорошо было и мне. Однако все же мне кажется, что здесь что-то не так. Это хорошая сладкая любовь, но ведь, если честно признаться, это вовсе не та любовь, о которой мы читали в книгах Михаила. Да, не та.
Я отвечал не сразу. Мне надо было подумать.
– Пожалуй, ты прав, – начал я. – Но почему не та – вот вопрос! Неужели потому что мы имели дело с продажными женщинами?
– Мне так не кажется, – решительно возразил Николаос. – Любить можно всякого человека, и продажную женщину можно любить. Нет, я что-то другое имел в виду.
– Что же?
Он посмотрел на меня с внезапным смущением, лицо его залилось румянцем. Он, казалось, не находил себе места. Вот он скрестил пальцы рук, затем вдруг кинул руки на колени. Затем подтянул колени к подбородку (мы сидели на ковре)… Затем откинулся к стене…
– Ну хорошо! – он глубоко вздохнул. – Я скажу тебе. Понимаешь, когда я был с женщиной, мне было так сладко, как бывает, когда наслаждаешься чем-нибудь вкусным – знаешь ведь, как я люблю сладкое вино, каленые орехи, яблоки и баранину с пряностями. Вот такое приятное чувство вкусности, – он невольно рассмеялся, и я вслед за ним. – Вот такое приятное чувство вкусности, – повторил он, – я испытывал, когда мои губы целовали упругую женскую плоть, когда мои ноздри обоняли женские запахи, когда язык мой проскальзывал в поцелуе к женской гортани, когда мои зубы покусывали напряженный сосок.
Я уж не говорю о том вершинном моменте, когда отвердевший мой член входил в сладкое женское лоно и сознание мое мутилось в судороге наслаждения… – он прямо посмотрел на меня, щеки его раскраснелись еще более.
– Теперь, благодаря твоей щедрости, я и сам это знаю, – тихо проговорил я и кивнул ему.
– Но ведь это совсем не та любовь! – произнес он почти с отчаянием, – совсем не та…
– Почему?.. – осторожно спросил я, начиная волноваться.
– Потому что… – он на мгновение прикусил верхнюю губу, затем продолжил решительно, – потому что я знаю: бывает и другая любовь. Потому что есть ты!
Глаза мои широко раскрылись. Я пытался понять, что происходит со мной. Я прикрыл своей ладонью его ладонь, я чувствовал мягкое Тепло его руки. Он бережно взял мою ладонь и с нежностью смотрел на нее.
– С тобой все иначе, – заговорил он, не поднимая глаз от моей руки. – Мне хочется долго-долго смотреть на тебя, каждый твой жест умиляет меня, ты кажешься мне таким беззащитным, хочется согреть тебя, укрыть от бед. Хочется длить это общение с тобой долго-долго. Каждое прикосновение к тебе – неимоверная драгоценность. Сердце мое вздрагивает от сладкой боли, губы мои горят, когда прикладываются едва-едва к твоей щеке. Я хочу, я умираю от желания слиться с тобой воедино. Я не знаю, как это может произойти, но мне кажется, что если это произойдет, у меня будет ощущение, будто я обладаю всей Вселенной, одновременно являясь ее непреложной частицей… – Николаос внезапно оборвал свою страстную речь, резко повернулся, вытянулся на ковре и уткнулся пылающим лицом в свои скрещенные ладони.
Мне было странно, сладко и горделиво. Все эти чувства в нем вызвал я. Что же такое я? Неужели я – такое удивительное существо? А он? А что я чувствую к нему? Я чувствую его силу. Да, он сильнее меня. Но он беззащитен передо мной и эта его беззащитность трогает, умиляет меня. Мне хочется одарить его радостью, тогда я и сам стану радостным. Мне… мне хочется слиться с ним…
Я наклонился, потом положил голову на ковер, прижался щекой к щеке моего друга. Он протянул руки, обнял меня. Пальцы его с такой бережной нежностью касались моего тела, моей шеи, моих сосков. Он с такой трогательной торжественной серьезностью прикладывал свои горячие губы к моим губам и щекам, к моему лбу. Он целовал мои глаза. Я невольно зажмуривался, он целовал мои веки вновь и вновь.
Мы крепко обнялись. Мы наслаждались и томились одновременно. Мы не знали, как нам слиться воедино, сама природа должна была подсказать нам это…
Снова и снова мы прижимались друг к другу, в мучительной радостности сплетали руки… Снова и снова сливались наши губы…
Мы незаметно для себя порывистыми движениями раздели друг друга. Я почувствовал, как его напряженный мужской орган проник в мое тело, с этой мучительной и сладкой силой прошел меж моих ягодиц… Пальцы его, между тем, нежно и порывисто ласкали мой член… Я ощутил влажность семени… Я, не теряя сознания, погрузился в какую-то бездну сладких и мучительных ощущений… Я откидывал голову, стонал и вскрикивал…
Но вот все завершилось. Некоторое время мы лежали недвижно. Казалось, только что мы испытали всю полноту слияния тела и духа…
Николаос очнулся первым и тотчас принялся нежно и бережно ухаживать за мной. Мне было неимоверно приятно ощущать эту ласковую бережность. Он перенес меня на постель, заботливо укрыл покрывалом, затем тихо лег рядом со мной и мы уснули в объятиях друг друга…
С тех пор мы еженощно предавались наслаждениям. Мы изучили каждый вершок, каждый участок наших тел, мы наслаждались полно и сильно. Мы находили все новые и новые способы телесной любви. Но и души наши сливались в любовных порывах. Мы без устали могли часами разговаривать, беседовать о философии, об искусстве. Мы даже иной раз спорили, но и это доставляло нам наслаждение. Иногда мы отправлялись к женщинам и получали от женской любви такое же удовольствие, как от вкусного сытного обеда…
Услышав это, я невольно улыбнулась. Чоки в полутьме уловил мою улыбку и улыбнулся в ответ. Меня не обижало его мнение о женщинах. Я признавала именно сейчас, как никогда прежде, все виды любви и наслаждения, лишь бы они не были связаны с насилием, с грубым вмешательством в чужую жизнь… Мне было так хорошо сидеть рядом с этим юношей, слушать его голос, улавливать запахи его тела, запахи молодости и здоровья… Между тем он продолжил свой рассказ.
– Когда Николаосу приходилось уезжать, мы расставались в отчаянии. Странно, но, кажется, никто не понимал, какие чувства и отношения связали нас. Госпожа Пульхерия уже знала, что окончательно утратила власть над сыном. Она искренне любила его, но, должно быть, самолюбие все же одолевало, и она, показывая свою власть если не над сыном и мужем, то над домом, не желала отпускать меня вместе с моим другом.
Теперь я исполнял в доме ту же должность, что и некогда Михаил, сын Козмаса, моим попечениям была вверена библиотека. Когда не было со мной Николаоса, я проводил время за книгами. По моей просьбе госпожа Пульхерия приглашала в дом книготорговцев. Я заказывал книги. Труды отцов церкви я ставил на видное место. Книги из Европы прятал в комнате Николаоса. Действительно, совсем другая жизнь вставала со страниц этих книг, сочиненных французами, англичанами, немцами, итальянцами, испанцами…
Как-то раз, изучая какой-то географический трактат, я внезапно понял, что, оказывается живу и жил в Европе. Более того, именно здесь, где некогда творили эллины, зародилось все то, что теперь цвело и развивалось там, на Западе. И тем не менее, и у меня, и у Николаоса держалось это упорное ощущение, что Европа – далеко, что мы не в Европе, а в каком-то отсталом затхлом мире. И, в сущности, это ощущение было верным. Но почему, почему так?
Я не переставал размышлять обо всем этом. В конце концов я пришел к выводу, что во всем виновно христианство, происходящее от религии древних иудеев. Иудейство и христианство не любят мирской живой жизни, не любят, когда творение множественно, когда все имеют право в меру своего таланта создавать стихи, картины, статуи, разыгрывать картины жизни на театральной сцене. Эти религиозные учения признают лишь одного творца и лишь несколько книг, именуемых священными. Дозволительно еще комментировать священные книги, но всякое иное искусство всячески оплевывается и предается проклятию… Но, кажется, в той Европе, о которой мы с Николаосом грезим, все иначе. Там церковь не имеет такой силы, как здесь, и не мешает людям жить…
Но сделался ли я безбожником после подобных своих выводов? Нет. Я по-прежнему истово молился в церкви. Я подолгу стоял на коленях перед иконами и молился. Я ощущал, что Господь добр, все понимает, все прощает людям, хочет, чтобы они были счастливы в своей земной жизни, и простит их земные прегрешения. И в жизни вечной люди будут счастливы по велению Господа, потому что Он желает для них всяческого счастья…
Однажды, когда вместе с другими слугами, я возвращался из церкви, нас застал сильный дождь с градом. Еще утром один из старых слуг предупреждал меня, что погода портится, но я, подобно многим юношам, мало обращавший внимания на подобные мелочи, не обратил внимания своего и на слова старика. Я одет был довольно легко, и когда вернулся домой, вскоре почувствовал озноб и жар. Николаос в то время был в отлучке с отцом.
Целую неделю пролежал я в жару и ознобе. Меня начали лечить домашними средствами: поили горячим молоком с маслом, растирали шерстью. Жар и озноб оставили меня, но еще неделю я не вставал. Затем здоровье мое, казалось, восстановилось. Во время болезни я страшно тосковал без моего любимого друга. Когда же он вернется?
Миновала еще неделя. Я снова начал недомогать. Теперь меня мучила слабость. В иное утро я не имел силы подняться с постели в своей каморке. Слабость нарастала. Не хотелось ни есть, ни пить. Иногда не хотелось открывать глаза. Целые дни проводил я в каком-то полузабытье.
Душа моя не восставала против моей болезни. Напротив, я кротко примирялся. «Наверное, так нужно, – думал я. – Так судил мне Господь. Но неужели я умру, так и не увидевшись вновь с моим любимым другом? Но если так случится, значит, и это суждено мне Господом…»
Входившие в мою каморку говорили тихими голосами, жалели меня, признавали, что я обречен.
Но вот однажды, словно вихрь ворвался в мое болезненное уединение. Знакомые милые руки приподняли мою голову, знакомый встревоженный голос повторял:
– Чоки! Что с тобой? Что болит? Скажи мне! Это я, Николаос!
Губы мои шевельнулись в улыбке. Я сделал усилие и открыл глаза. Первое, что я увидел, было лицо моего любимого друга. Дело было в самом начале зимы, которая в тот год выдалась необыкновенно холодной. Впервые за много лет выпал снег. Николаос вошел ко мне с холода. Видно, он только что приехал. Пальцы его еще были холодны, щеки раскраснелись, он даже не снял еще свой теплый шерстяной плащ. Я попытался приподнять руки, взять его за руку, но мне было тяжело сделать это. Но все равно мне было радостно. Я умру, простившись с моим Николаосом. Я снова улыбнулся.
Но он вовсе не разделял моего смирения. На лице его ясно читалась энергическая тревога. Он не хотел отдавать меня смерти. Он жаждал действия, он хотел во что бы то ни стало спасти меня.
У двери стоял старый слуга. Николаос принялся отрывисто спрашивать, звали ли ко мне лекаря, чем лечат меня. Он заметил, что я лежу на свалявшейся подушке, на грязной простыне. Старик отвечал, что лекаря ко мне не звали, да и незачем, ведь по всему видно, что я скоро умру, мне не лекарь нужен, а священник-исповедник.
Николаос не стал тратить время на споры с ним. Он поспешно поднял меня на руки. Я заметил, что на его лице выразилась еще большая тревога. Я ведь очень исхудал, сделался совсем легким. Когда он взял меня на руки, голова у меня сильно закружилась, перед глазами все заволоклось темной пеленой. Я потерял сознание.
Очнулся я в его комнате. Здесь было просторно, мне легче дышалось. Я лежал на ковре. Ни есть, ни пить мне по-прежнему не хотелось. Но не хотелось и огорчать Николаоса. Он принес мне молока с медом и сладкое вино. Я заставил себя сделать несколько глотков. Он уговаривал меня отпить еще, но, заметив страдальческое выражение моего лица, отказался от своего намерения.
Слуги принесли корыто с теплой водой, мыло и полотенца. С помощью старого слуги Николаос вымыл меня. Я то забывался, то снова открывал глаза. Мне было приятно в теплой воде. Старик печально качал головой. Он явно полагал, что Николаос понапрасну хлопочет о спасении моего тела, и что лучше спасать мою душу, призвав ко мне священника. Но мой друг полагал иначе, он думал, что моя душа и мое тело – это нечто единое, и спасал их по-своему.
Он осторожно растер меня и уложил на свою постель. Слуги унесли корыто. Он снова поднес мне молоко. В угоду ему я сделал несколько глотков. Теперь он стал давать мне пищу и питье через малые промежутки времени, я глотал понемногу, и это подкрепило меня. Я мог подольше оставаться с открытыми глазами. Он устроил себе постель на ковре, на полу, чтобы не отлучаться от меня.
Я лежал в той самой комнате, на той самой постели, где мы провели столько часов, полных радостного наслаждения. Мне вдруг захотелось, чтобы он лег рядом со мной. Он тихо лежал на полу; должно быть, уснул. В комнате было полутемно, только лампадки теплились перед иконами. Вдруг Николаос поднялся. Он во сне почувствовал мое желание. Вот он присел на край постели и лицо его склонилось ко мне.
– Ляг… со мной… – с трудом выговорил я.
Он с таким трогательным послушанием лег рядом и осторожно обнял меня. Я был очень слаб. Не хотелось мне телесных утех. Но когда мой любимый друг так нежно обнял меня, возникло у меня ощущение, будто мое тело обрело некие члены, до сих пор недостававшие ему. Мне чудилось, будто я уже выздоравливаю. Я уснул в его объятиях.
Госпожа Пульхерия возмущалась тем, что сын едва успел перемолвиться с ней несколькими словами, и все свое время отдает уходу за мной. Но господин Хараламбос убеждал ее, что в этом нет ничего дурного, это всего лишь проявление милосердия. Наутро явились лекари, которых призвали по приказанию Николаоса. Они стали предлагать различные методы лечения. Мой друг сразу отверг кровопускания и прижигания, он боялся, что мне причинят излишнюю и бесполезную боль. Стали меня лечить травяными настоями, микстурами и притираниями. Порою мне делалось легче. Но затем слабость вновь одолевала меня. И по-прежнему я не в силах был подняться с постели.
Николаос не отлучался от меня, преданно ухаживал. Однажды я проснулся и увидел его лицо, склонившееся к моему. Теперь он показался мне немного похудевшим, щеки темные и колючие. В глазах – тревога. Вдруг мне подумалось, что и я выгляжу таким же. Я с трудом поднял руку и пальцем коснулся его темной колючей щеки. Он сделал то же самое и тронул мою щеку. Мы вглядывались друг в друга, словно служа друг другу самым верным зеркалом. Глаза наши выражали тревожную пытливость, словно вглядываясь вот так друг в друга, мы могли проникнуть в тайны бытия. Затем оба мы разом улыбнулись.
Николаос спросил меня, не хочу ли я, чтобы он побрил мне щеки.
– Нет, – тихо ответил я. – А ты?
Тогда он сказал, что дал зарок не бриться до моего окончательного выздоровления.
– Сделаем это, когда я поправлюсь, – сказал я.
В глубине души я не верил, что выживу, и говорил это просто для утешения друга. Но глаза его вспыхнули радостью. Ведь впервые я высказал надежду на свое выздоровление.
Наконец Николаос решил пригласить врача-француза, о котором был наслышан от других лекарей. Госпожа Пульхерия возражала против того, чтобы в ее дом входил «латинянин». Николаос сказал ей, что глубоко ее почитает, но если умру я, умрет и он, он воззвал к ее милосердию. Она, польщенная тем, что сын все же дорожит ее мнением, уступила.
Этот врач хорошо говорил по-гречески. Он был уже не первой молодости, лицо смуглое, продолговатое, глаза большие, чуть запавшие. Лечение у него стоило недешево. Он лечил самого султана и его семью. Звали этого человека – Амбруаз. Я подумал, что и это имя – эллинское по происхождению. На нем была черная куртка с большим накрахмаленным белым воротником, на ногах – черные чулки из плотной шерсти и темные сапоги.
Врач осмотрел меня. Он сказал, что я перенес тяжелую простуду, перешедшую в воспаление легких. Он добавил, что я теперь страдаю болезнью легких, которая может свести меня в могилу.
– Что же делать? – взволнованно перебил его Николаос.
Господин Амбруаз снова начал спрашивать, как меня лечили до сих пор. Николаос отвечал, стараясь ничего не пропустить.
– Этого больного надо увезти высоко в горы, – сделал наконец свое заключение врач. – Ему должны помочь горный воздух и сухой холод.
Николаос поблагодарил и заплатил за совет. Он почтительно проводил врача, затем вернулся ко мне.
– Надо мне скорее увезти тебя, – озабоченно сказал он.
От слабости я не мог говорить. Мне не хотелось ехать. Хотелось лежать с закрытыми глазами и постепенно уходить в небытие. В доме полагали, что Николаос напрасно мучает меня лечением, задерживая насильно в моем бренном теле бессмертную мою душу, уже готовую к новой жизни. Теперь я и сам готов был согласиться с ними. Я думал о том, что мой друг так доверился этому врачу, потому что врач «европеец». Я ощутил странное раздражение. Я не хотел этого «европейского» исцеления, я хотел умереть в своей «восточной» вере, призывающей к отрешению от мирской жизни. Я сознавал, что раздражение это глупо и несправедливо. Но оно существовало во мне и я не мог сделать вид, будто его не существует.
Николаос готовился к нашему дальнему путешествию. Он заказал для меня крытую повозку, нанял телохранителей. И вот в одно утро меня, тепло укутанного, вынесли на носилках и уложили в повозку. Впервые за время моей болезни меня вынесли на воздух. Разумеется, я лишился чувств. Домашние, видя это, вновь и вновь повторяли, что Николаос грешит, силком держа мою душу в истомленном моем теле.
Николаос простился с родителями. Мы поехали. Он ехал верхом рядом с моей повозкой.
Это путешествие я проделал в полузабытье и, стало быть, почти ничего о нем не помню. Мы останавливались в каких-то гостиницах, на постоялых дворах, иногда мне становилось совсем плохо. Николаос пережил со мной немало горя. Подумайте о том, что он переживал, видя меня почти при смерти и полагая себя виновником моего состояния…
Но врач оказался прав, и высоко в горах я начал поправляться. С помощью слуг Николаос приспособил под жилье заброшенный дом. Оттуда где-то за день пути можно было добраться до ближайшей деревни. Там мы запасались провизией. Так прожили полгода. Здоровье мое улучшалось с каждым месяцем. Сначала я стал сидеть в постели, затем ходить. Прошло еще время, и мы уже совершали пешие прогулки. У меня появился аппетит.
Оба мы возмужали. Округлые густые бородки украсили наши вновь округлившиеся лица. Ноги и руки налились силой. Однажды вечером мы сидели у очага, пили подогретое вино и заедали печеными каштанами.
– Я твой вечный должник, Николаос, – просто сказал я. – Ты спас меня. Теперь я буду жить дальше. Так судил Господь.
– Господь судил нам быть деятельными и изо всех сил противиться смерти, – Николаос погладил меня по плечу. – Но я о другом жалею. Я ведь и сам удивился, какие силы пробудились во мне, пока я спасал тебя. Я жалею о том, что нет у меня сил для спасения других людей.
– Ну, ты ведь не Христос, – я улыбнулся. – Мы с тобой любим друг друга, а любить с такой же силой еще людей нам, должно быть, не дано. Но представь себе, Николаос, Богочеловека на Земле, у которого такая сила была!
Мы замолчали. Здесь, высоко в горах, мы ощутили, что такая сила возможна, но как же она велика и величественна… Человек, в котором воплотилась Божественная суть, и который может любить с такой силой всех людей. Дух захватывает от одной только мысли!..
– Мы уедем, – сказал Николаос, – Родители согласятся на наш отъезд. Ведь когда-то и отец покинул дом своих родителей, чтобы начать самостоятельную жизнь. Родители поймут меня.
И действительно родители Николаоса отпустили нас. Конечно, госпожа Пульхерия какое-то время противилась, но в конце концов и она смирилась.
Помню, незадолго до отъезда случилось так, что Николаос с гордостью сказал старому слуге:
– Видишь, я спас Андреаса. Господь ждет от нас проявлений силы и энергии, а не вялого смирения.
– Кто знает, молодой господин, – хмуро заметил старик. – С помощью всемогущего Бога нашего или же с помощью дьявола спасли вы вашего друга.
Николаос в ответ только пожал плечами. Спорить со стариком он не хотел. Кроме того, он оценил смелость старого слуги, ведь тот решился возразить своему господину.
Позднее я спросил Николаоса, что он думает о словах этого человека.
– Он не единственный. Многие полагают, будто любовь, сила, действенность в жизни нашей – это все от дьявола. А мне порою кажется, что дьявол – всего лишь выдумка трусов. Нет дьявола, есть только Бог, и он любит нас и хочет помочь нам!
Я обнял моего друга…
И вот мы отправились в нашу мечтанную Европу. Мы посетили не одну страну. Николаос вел прибыльную торговлю. Много мы видели и хорошего и дурного. Но я должен признать, Европа – это некий универсум, это при всех своих недостатках – то лучшее, оптимальное, что выработалось, чтобы хоть как-то сохранять свободу отдельной личности в обществе, в государстве. И когда нас пытаются убедить, будто муравьиная, пчелиная общность, всяческая зависимость лучше, чище, духовнее европейской свободы; я понимаю подобные утверждения как попытку искусственного задержания нашего нормального человеческого развития…
Чоки-Андреас посмотрел на меня и снова улыбнулся. Все это он говорил словно бы и не мне. Может быть, он представлял себе своего друга Николаоса, или кого-то еще, не знаю… Но вот он отпил воды из кувшина и продолжил свой рассказ.
– Должно быть, некое бессознательное желание такой «восточной» зависимости, несвободы мы с Николаосом несли в душах своих и сами того не сознавали. Потому что жить мы захотели именно здесь, в Испании. Здесь было тепло и зелено, как в наших краях. Здесь странным образом сочетались «западная» свобода и «восточная» духовная суровость.
И вот мы обосновались в Мадриде. Николаос вел прибыльную торговлю. Несколько раз приезжал его отец, господин Хараламбос, и радовался успехам сына. Дважды Николаос ездил навещать мать. Дом у нас был большой и красивый, с внутренним двором. Мы любили мадридские театры, празднества, музыку, сборища поэтов и художников. Господин Хараламбос с тревогой спросил, как мы обходимся без православной церкви, не впадаем ли в соблазн того, что он называл «латинской ересью»… Разумеется, Николаос ответил, что ничего подобного нет. Хотя на самом деле мы и вправду охотно посещали мадридские церкви. Суровая набожность местных священнослужителей и прихожан напоминала Николаосу его родной город. Кроме того, мы уже полагали, что к Богу ведет любая вера, если у верующего чистые помыслы.
Господин Хараламбос заговаривал со своим единственным сыном и о женитьбе. Он опасался опять-таки, что Николаос женится на католичке. Но тот отвечал, что пока и не думает о женитьбе. Мы с ним и вправду о женитьбе" не помышляли.
Так жили мы и были счастливы. Разумеется, нам было хорошо известно о существовании инквизиции. Но это как бы и не касалось нас, мы жили свободно.
Не оставляла нас и наша давняя любовь к чтению. Мы по-прежнему собирали книги. Заботились мы и о своем образовании. Изучали разные науки, участвовали в ученых диспутах. Это и привело к беде.
Как-то мы проводили вечер в компании литераторов. Разговор зашел о писании любовных сонетов, затем заговорили о любви. Николаос, которому нравилось иной раз щегольнуть своим безупречным знанием древнегреческого языка, завел речь о Платоне, Сократе и Алквиаде, о том, что любовь мужчины к мужчине отнюдь не является грехом. Он так и сыпал цитатами и снискал общее восхищение. Я предпочел скромно молчать. Конечно, и я владел древнегреческим не хуже, но я вовсе не желал портить другу это маленькое удовольствие.
А дома нас ждало печальное, только что полученное известие. Тяжело захворала госпожа Пульхерия. Николаос немедленно начал собираться, чтобы выехать уже рано утром. Я должен был остаться, поскольку нельзя было бросать без надзора наши торговые дела. Утром Николаос уехал в сопровождении лишь одного слуги-грека. Они должны были сесть на корабль.
А спустя еще несколько дней, поздно ночью, в дом явились стражники и чиновники инквизиции. Я был арестован. Меня бросили в тюрьму. Я понимал, что никто из здешних моих друзей не посмеет вступиться за меня. Что же будет, когда вернется Николаос? Его схватят. Я надеялся только на то, что наши слуги были верны нам, ведь им хорошо платили. Дай Бог, чтобы кто-нибудь из них успел предупредить Николаоса о грозящей опасности, когда тот вернется…
Я понимал, что Николаос – единственный человек на свете, который любит меня и захочет спасти во что бы то ни стало. Но сейчас я искренне готов был погибнуть, лишь бы его жизнь не подверглась опасности.
Сначала мне задавали множество вопросов, касавшихся различных мелочей нашего с Николаосом быта. Я спокойно отвечал, чувствуя, что меня пытаются поймать, уличить. Но в чем? Мы с Николаосом не были замешаны ни в чем дурном.
Наконец открылось. Кто-то (наверняка кто-то из наших приятелей) давно следил за нами и писал подробный донос. Рассуждения Николаоса о философии Платона и Сократа явились последней каплей. Ведь он говорил при свидетелях, и, конечно, свидетели все подтвердят. Инквизиции боялись все.
Меня (и отсутствовавшего Николаоса) обвинили в преступлении против нравственности, в мужеложестве. И мы такими и были, только вовсе не полагали это грехом. Я так и сказал. Меня спросили, раскаиваюсь ли я. Сначала я чистосердечно ответил, что раскаиваться мне не в чем. Но когда меня привели в пыточный зал и я увидел огонь и разложенные напоказ орудия пытки, я просто испугался. Если бы, например, мое раскаяние грозило опасностью Николаосу, или даже совсем посторонним для меня людям, я бы, конечно, упорствовал. А так… я всего лишь спасал свою жизнь… И вот я покаялся. Что будет дальше? Что ждет меня? Я не строил особых иллюзий, мне не верилось, что меня вдруг отпустят. Вероятно, я всего лишь звенышко в какой-то неведомой мне цепи, всего лишь пешка в чужой, непонятной мне игре. Что им нужно от меня? Может быть, им просто предписывается арестовать и уничтожить определенное число еретиков?








