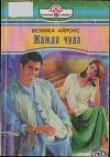Текст книги "И вот – свобода"
Автор книги: Каролин Лоран
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Эвелин Пизье, Каролин Лоран
И вот – свобода
Ж.M.Р., другу, который знал, что две жизни – это лучше, чем одна.
Отцу, матери, сестре, которые этого не знали.
Э. П.
Тебе.
И той дружбе, которая сделала наши жизни прекраснее.
К. Л.
Se va un barco de papel
Por el mar de la esperanza
…
Se va, se va y no volvera
Se va, se va, se va la libertad[1]1
Бумажный кораблик плыветБумажный кораблик плыветПо морю надежды…Он уходит, он уходит и больше не вернется.Так проходит, так проходит, так проходит свобода.Тео Сааведра, «Бумажный кораблик»
[Закрыть]
Evelyne Pisier, Caroline Laurent
Et soudain, la libertе́
* * *
Published by arrangement with Lester Literary Agency.
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Copyright © Editions Les Escales / EDI8 – Paris 2017
© Брагинская Е., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2020
Часть первая
Меня сочтут за сумасшедшую, за экзальтированную дамочку, за честолюбивую интриганку, за девушку с нестабильной психикой. Мне будут говорить: «Да ты просто не можешь этого сделать», «Так не бывает» – или просто интересоваться с беспокойством в голосе: «А ты уверена в себе?» Конечно, нет, я не уверена. А как я могу быть уверенной? Все произошло так быстро. Я не контролировала ситуацию. Я и не хотела ничего контролировать. Просто Эвелин была здесь, со мной. Этого было достаточно.
16 сентября 2016. Это должна была быть встреча по работе, обычная встреча, какие у меня происходят постоянно. Встретиться с автором, которого я хочу опубликовать, разделить с ним неистовую, страстную необходимость сделать это как можно скорее. А потом дать четкие указания: это вырезать, это сократить, здесь переработать, здесь добавить деталей, четче выразить мысль, подчистить стиль.
Некоторые редакторы склонны к мечтательному созерцанию. Тонкие длинные пальцы селенита; мозг в вечной полудреме; сад в стиле дзен, маленькие грабельки. Я принадлежу к другому подвиду: издатели – автомеханики, которые обожают копаться во внутренностях машины, с руками, испачканными машинным маслом и отработкой, с ящичком инструментов на все случаи жизни. Но тут был вовсе не обычный текст и тем более не обычный автор.
На моем рабочем столе, заваленном бумагами и ручками, лежала аннотированная рукопись. На этот раз мое внимание привлек даже не стиль, не композиция – меня поразил образ женщины, которую я увидела за этим текстом. Я дочитала – и во мне зародилось смутное, странное ощущение, волной прокатывающееся от сердца к голове и от головы к сердцу: какой-то огненный шар с голубоватыми контурами. Это было предчувствие грядущей встречи, не иначе. Я набралась мужества и позвонила ей, услышала «Алло» и выпалила: «Алло, здравствуйте, мадам Пизье».
Ее хрипловатый голос был теплым и обволакивающим. По мере того, как я говорила с ней, мой ужас рассеивался, я оттаивала, как ткань, принесенная с мороза, – и вот уже страх перешел в адреналиновый восторг. Ее история потрясла меня. Она была удивлена, не могла поверить, переспрашивала: «Что, правда? В самом деле?» Я видела, как ее сомнения материализуются перед моими глазами, как ни странно, каждое из них только подпитывало мою решимость. Из этого повествования нужно было делать книгу. Мы назначили встречу на следующую пятницу. Перед тем, как повесить трубку, я почувствовала, что на другом конце провода она улыбается.
Воздух был насыщен влагой, моросил дождь, какой-то слишком холодный для конца августа; набережные Сены казались нарисованными пастелью, в тумане плавала громада Нотр-Дама. Я была без зонтика, на ногах – сандалии. Плечо оттягивала сумка с тяжелой рукописью. Момент настал. Я глубоко вдохнула и позвонила в дверь.
Маленькая фея. Вот что я подумала, когда увидела ее силуэт в дверном проеме. Она была хрупкой, как птичка. Меня сразу пленили ее глаза, светлые и прозрачные, как небо Прованса, с морщинками-лучиками от улыбки. Она поздоровалась со мной, и мне понравилось, как она произносит мое имя своим хриплым, прокуренным голосом, перекатывая его в горле. Я вошла в студию, первый этаж выходил окнами в садик, где росли деревья. «Вы же совершенно продрогли! Дать вам свитер?» Я скромно отказалась. Много месяцев спустя я, в свою очередь, прислала ей теплую накидку, которую она так и не успела поносить.
Мы сидели напротив друг друга, передо мной дымилась чашка горячего кофе из кофемашины «Неспрессо». Понадобилась моя помощь; погодите, капсулу вот сюда, вот, готово, – обычно этим занимался ее муж. «Когда Оливье нет дома, я ничего не пью, ничего не ем. Мне на это наплевать». У меня, вероятно, был удивленный вид, и она пояснила: «Я ничего не умею делать на кухне. Моя мать всегда запрещала мне прикасаться к плите и швабре. Но это вы уже знаете». Она мотнула головой в сторону рукописи. Я улыбнулась. Выпила кофе.
Дождь барабанил в окна. Внутри было хорошо – теплый свет, мягкие, спокойные цвета. Эвелин закурила. «Вам не мешает дым?» Это «вы» исчезло очень быстро. Да и дым мне не мешал. Я не курю, но мне нравятся курильщики. Она засмеялась. Начала перелистывать рукопись, просматривая мои записи на полях. Удивленно покачала головой: «Вы немало потрудились».
Я видела коричневые пятна на ее руках, незаметные созвездия времени. Она носила свой возраст, как просторное платье. Он ее не стеснял. За ее почти семидесятилетним обликом проступали золотистые волосы, белая, как снег, кожа, слегка тронутая солнцем, лукавая улыбка – вечные приметы юности.
Мы разговаривали три часа подряд. О рукописи, о ее матери, о месте женщин в обществе, о зле, которое причиняют нам религии, о мужчинах, о сексе, о литературе. Ее улыбка на мгновение омрачалась тенью, ее взгляд устремлялся в пространство, но тут же вновь возвращался ко мне; она казалась мне очень красивой. По молчаливому соглашению мы обошлись без преамбул. Может быть, мы обе чувствовали, что времени не хватает, а может быть, это была такая таинственная и изящная форма взаимного признания: сходные вкусы, сходное мнение по поводу самых главных вещей, невозможность поступить иначе. Некоторые встречи нам предназначены, предопределены всем течением жизни. Они, как мне ни сложно написать это слово, поскольку ни я, ни она больше не верим в Бога, предначертаны где-то там, в неизвестности. Наш час пришел, час выхода на связь, час взаимопонимания, воспоминания о котором всегда приносят мне радость, час рождения дружбы, столь же сильной, сколь краткой, всеобъемлющей, которой до лампочки сорок семь лет, разделяющих нас.
Эвелин хотела рассказать о своей матери и через ее историю поведать свою. Увлекательную историю, охватывающую шестьдесят лет политической жизни, сражений, любви и драм, – с какой-то стороны портрет Франции: страны колоний и революций, страны освобождения женщин. Текст тяготел попеременно то к автобиографической повести, то к мемуарам. Мы единогласно решили: нужно сделать из него роман. Не стремиться к биографической точности, а следовать романической достоверности характеров и судеб. Разрешить себе изменить имена, дать волю воображению, углубить описания чувств и переживаний. Делать из этого цельное произведение. Эвелин захлопала в ладоши. Вместе у нас получится.
Мы писали друг другу почти каждый день. Она жила на юге, но это было не так уж далеко. Когда она приезжала в Париж, мы встречались в маленькой квартирке-коконе, работали среди бутылок и пепельниц, я слушала ее, улыбалась в ответ на ее улыбку, огорчалась ее огорчениям, смеялась вместе с ней – потом наступал час ужина, и разговор продолжался в ресторане, словно и не прерываясь, и снова бокал, и снова сигарета. Я была счастлива.
Все закончилось в один февральский четверг. Она была уже несколько дней в больнице, в тяжелом состоянии – еще одно испытание для нее, и без того преодолевшей столько всего. «Ты самая сильная» – вот последние слова, которые я ей написала. И это была правда. Но когда я увидела имя Оливье, определившееся на экране моего телефона, я сразу все поняла. Катастрофа. Я повесила трубку и разрыдалась.
Вокруг меня жизнь текла, как обычно, – на улице, в моем кабинете на площади Италии, – и это было невыразимо жестоко и безумно странно. Я не хотела видеть этих людей, бегущих по своим делам, эти отвратительно гудящие машины, эти мейлы, сыплющиеся на мою почту. Вспомнились слова друга-писателя: «Смерть, эта бездарная стерва…». От них лучше не стало. Гнев заливал мозг алой волной. Вернуться назад. Чего бы мне это ни стоило.
Остальное никому не интересно: мое горе, дрожащие руки, тактичное и внимательное отношение коллег и начальника, который тоже расстроился и переживал, и, главное, – пустота. Я вернулась домой, позвонила. Дома никого не было. Мой спутник был в отъезде, мама отправилась к родственникам в провинции. Я поставила кантату Баха, поступила банально – банальности иногда идут на пользу – и зажгла свечку. В чашке чая, стоящей передо мной, проплывали все воспоминания, те, которые связывали нас с ней напрямую, наши встречи, наша переписка, наши ужины; но еще и все остальные, те, которые были ей близки и которые, путем некоего действа, волнующего и волшебного, стали близкими и мне: история ее семьи, ее жизни, которую она подарила мне, избрав форму художественного произведения для своих воспоминаний.
Кантата замолкла, в квартире воцарилась тишина. Я вынула и положила в коробку компакт-диск, выключила проигрыватель. Что-то тяжелое, но очень спокойное воцарилось во мне. Я включила компьютер, открыла файл с рукописью. И начала писать.
Последние слова Эвелин, которые Оливье доверил мне, как сокровище, жгли меня изнутри. «Что бы со мной ни случилось, обещай закончить книгу вместе с Каролин». Она все переслала мне перед Рождеством: нить повествования, недостающую информацию, забавные факты, ключевые эпизоды. Оставалось только привести в порядок эту изобильную фактуру. Мы делали это вместе. Мы смеялись, пили белое вино, ставшее уже теплым, задавали друг другу бесконечные вопросы. Нужно ли оставить эту сцену? Представляет ли интерес эта деталь? Ты думаешь, это будет интересно читателям? Были безумная нежность и нежное безумие. Мы планировали летом устроить шумный праздник.
В ночи, которая уже начала обволакивать Париж, я увидела ее голубые глаза, ее улыбку и протянутую ко мне руку. «Теперь твоя очередь» – словно говорила мне она. Я подмигнула ей. Я – ее редакторша. Ее двадцативосьмилетняя подруга. Она была самым безумным и невероятным, что со мной случалось в жизни. Я обещала.
Я закончу эту книгу.
* * *
Она смеялась, как смеются дети, когда солнечный свет пропитан запахами сладостей и праздника. На кухне были выставлены сковородки, кастрюли и воки[3]3
Распространенная в Юго-Восточной Азии сковородка с выпуклым дном.
[Закрыть] всевозможных размеров, и Люси наедине с этой маленькой хозяйственной армией парила в мечтах в ожидании, когда придет няня. Воскресенье в Сайгоне. Жизнь казалась тогда еще такой легкой и радостной. С самого утра квартира утопала в цветах. Теплый ветер задувал в окна, защищенные решетками, и он был вестником, несущим радостные новости. Он, наконец, пришел, этот день, которого она ждала на протяжении долгих месяцев и который должен изменить все – отныне она одна будет принимать ванну, сама выбирать одежду в шкафу, сама учиться читать и писать. Она станет Большой, и это слово таило в себе множество магических обещаний. Круг, начертанный вокруг нее детством, становится шире. Она была к этому готова. Когда этим утром кюре сказал ей: «Мир вам, да пребудет с вами Благодать! Во имя любви к Христу осеним себя крестным знамением!» Она опередила родителей и протянула негнущуюся руку перед собой – эпоха поцелуев во время мессы уже миновала для нее. «Господи, помилуй!» – прошептала она. «Мир вам», – прошептала она. Так делали взрослые. Достаточно было повторить за ними.
Скрипнула дверь кухни – это зашла Тибаи. Люси нравилась ее гладкая кожа, ее миндалевидные усталые глаза, ее рот, узкий, как карандашный штрих. Служанка вытерла ноги, чтобы стряхнуть дворовую пыль, и поставила на стол блюдо, покрытое полотенцем.
– Это мой подарок?
Няня кивнула. Люси восторженно захлопала в ладоши.
– Что это, что это, что это? – Она хотела сдернуть тряпку, но Тибаи ловко удержала ее.
– Ты обещаешь ничего не говорить господину? И госпоже тоже, договорились?
Люси обещала.
Где-то вдалеке колокола собора прозвонили двенадцать раз. Можно было подумать, что они во Франции. Они и были во Франции.
Волшебница сдернула полотенце и открыла тарелку.
Люси сначала раскрыла рот от удивления: там было что-то желтоватое, местами белое, пахнущее медом. Тибаи с закрытыми глазами понюхала блюдо и внезапно схватила кусок:
– Попробуй.
Люси, в свою очередь, погрузила руку в лакомство. Оно оказалось одновременно хрустящим, сочным, сладким и соленым. Вкуснятина. Она съела еще, безо всяких вилок, липкий сок тек по пальцам, она начала обсасывать их один за другим. Очень быстро на тарелке ничего не осталось.
Служанка плюхнулась на стул, а Люси уселась ей на колени.
– А что это было, Тибаи?
– А ты не догадалась? – Она улыбнулась. – Личинки ос!
Люси прыснула в ладошку. Она первый раз в жизни ела насекомых, никогда родители ей этого не разрешали, даже в дни праздников. Няня настойчиво повторила:
– Ты ведь никому не скажешь, правда же?
Потом она убрала со стола и разрезала спелую-преспелую папайю. Ее черные семена напоминали маленькие шарики для игры в марбл.
– Если ты их помоешь, можешь с ними поиграть, – сказала Тибаи.
Она нарезала плод дольками, достала сахар, ваниль; распустила масло на дне кастрюли. Перед окном завис колибри.
– Слушай, а давай поиграем?
Няня ничего не ответила, только откинула длинные черные волосы назад.
– Но ведь сегодня же мой день рождения!
– Я уже выбросила семечки, Люси.
– Да не в это. Давай в полицейского и вора?
– Кто будет полицейским, а кто вором?
– Да как всегда. Я – полицейский, ты – вор.
Оранжевые дольки обжаривались в сахаре. Тибаи помешала лопаточкой в кастрюле. Люси не обращала внимания на аромат жженого сахара, окутывающий кухню, она была настороже. Ее няня постоянно применяла одну и ту же тактику: с невинным видом изображая, что полностью погружена в свои занятия, внезапно атаковала. Люси напряженно следила за ее спиной, таящей молчаливую угрозу. Сейчас или позже? Но когда Тибаи внезапно оказалась к ней лицом, она все равно подпрыгнула от неожиданности.
Воздух разрезала белокурая молния. Растрепанные волосы, развевающаяся юбка и уже семь лет с самого утра. «Держи вора!» – кричала она, хохоча. Коридор наполнился пронзительным визгом, в воздухе мелькали босые пятки, Тибаи почти рядом, «Тебе меня не поймать!» – и внезапно хлопнула дверь в гостиную.
– Люси! – резкий окрик отца мгновенно остановил ее. Она оцепенела от страха.
– Папа…
– Замолчи.
Он встал с кресла, положил газету на журнальный столик.
– А вы что здесь?
Тибаи склонила голову. Рассыпалась в извинениях, пятясь, удалилась. Люси попыталась ускользнуть за ней.
– Нет уж, останься, погоди минуту.
Длинные худые пальцы прочертили дорожки по ее затылку.
– Мона? – отрывисто бросил он в сторону комнаты. Нежный голос ответил ему:
– Да, дорогой, что случилось?
Андре пожал плечами:
– Да тут твоя дочь.
Розовые, как раковинки, с тщательным маникюром, ногти Моны сияли в полуденном свете. Ясными голубыми глазами она глядела на дочь, удивляясь в душе, как тут она такая стоит сама отдельно от нее, со своим собственным телом и своим собственным разумом, которые до этого так долго были ее телом и ее разумом, плотью от плоти ее, кровью от крови, – и так и не могла уложить в голове такое загадочное явление, происходящее и с ней тоже.
Сидя рядом с мужем, она слушала его. Сколько она его знала, всегда только слушала. В безукоризненном костюме-тройке, красивый той мужественной, суровой красотой, которая особенно бросается в глаза у военных в форме (хоть он и был штатским), Андре уверенно воздевал вверх палец: «Так надо». Мона улыбалась. Именно так должны разговаривать мужчины: авторитетно утверждать, вещать. «Надо, чтобы ты поняла это, Люси». Величественным жестом он указал на стол, покрытый перкалевой скатертью, на букет орхидей, китайский фарфор, хрустальные бокалы, серебряные приборы. Люси стояла прямо, словно навытяжку. Маленький серьезный солдатик.
– Сегодня…
– Я знаю, – перебила она, – сегодня я вступила в возраст благоразумия.
Он чуть не задохнулся от неожиданности, откинулся в кресле и повернулся к жене; Мона почувствовала, как сердце ее затрепетало. В глазах мужа дрожало парижское зимнее небо. Это небо серо-стального цвета пленило ее в тот ноябрьский вечер восемь лет назад…
Банк Индокитая устроил коктейль возле Лувра. Джин и шампанское лились рекой. Ивон Магала, отец Моны, который много лет руководил этим банком, пригласил семью Дефоре – Анри был его коллегой, которого он очень ценил. Отпрысков семейств незамедлительно представили друг другу. Коктейли тоже послужили главной цели: выдать замуж дочку, устроить жизнь сына. Первое, что поразило Мону, которой было в ту пору семнадцать лет, когда к ней подошел молодой человек, на вид несколько постарше ее, – эти невероятные глаза цвета городского тумана.
– Возраст благоразумия… – повторил Андре.
Он не знал, что за много недель до предстоящего события Мона готовила к нему Люси. «Семь лет, семь лет, дорогая! Возраст взрослых платьев с длинным рукавом, возраст осознания мира». Малышка только и говорила, что об этом, 21 октября.
– Возраст благоразумия? А ты носишься повсюду, сломя голову? И, кстати, где твои туфли? – Он стиснул пальцами тоненькую нежно-розовую ручку. – Ты себя ведешь хуже, чем служанка!
Мона уже знала, что за этим последует. Андре разбушуется, вены на висках вздуются, забьются, как маленькие лиловые угри.
– Ты слышишь меня, Люси? Хуже, чем туземка!
Мона положила руку на плечо мужа.
– Андре, ну, пожалуйста…
– Замолчи, сейчас я говорю!
Гнев заострил его черты, глаза потемнели, линия губ стала жестче. Мона любила эти порывы бури; только она умела нежной улыбкой или трепетанием ресниц усмирить Андре. Она снова попыталась поймать его взгляд; вытянула свои обнаженные ноги, скрестила так, скрестила эдак – никакого эффекта. Он не сводил глаз с девочки. В сердце закралась горечь. Как бы ей хотелось в этот момент быть не матерью, а ребенком, которого ругают…
По квартире распространился запах горелого.
– А это еще что?
У Моны появилось предположение.
– Подожди здесь, любовь моя. Я схожу посмотрю.
Она встала, в коридоре заспешила, побежала и тотчас же одумалась, замедлила шаги – нельзя!
В кухне, наполненной дымом, Тибаи уже выбросила подгоревший компот из папайи и начала готовить новый. Ее руки порхали не так быстро, как обычно.
– Поспешите, скоро уже нужно подавать.
Служанка ответила ей такой грустной улыбкой, что у Моны заныло сердце от жалости.
– Все получится, – подбодрила она Тибаи, – но, умоляю, проветрите сейчас же кухню!
Тибаи открыла окно, и тут Мона тихонько вскрикнула от изумления. Подошла на шаг к окну. За решеткой колибри смотрел прямо на нее. Но вмиг упорхнул.
В столовой нотация продолжалась.
– Тебе не нужно быть приветливой со слугами, – втолковывал Андре. – Только вежливой, не более того.
Мона села рядом с ним и принялась гладить его по руке. Однажды он признался ей: «Обожаю, когда ты так делаешь». За годы жизни с ним (по сути, хватило всего одного года) она мысленно составила список того, что он обожал, а чего не обожал. Человеческое тело не дает неисчерпаемых возможностей для игр, у него есть свои лимиты и свои привычки. Свои зоны комфорта. Свои болевые точки и источники неприятных ощущений.
Мона не претендовала на какое-то высшее знание: ее занятия медициной прекратились практически сразу после замужества, в университете она проучилась всего лишь год, но власть тела она изучила подробно – власть неустойчивую, неверную, находящуюся в вечной зависимости от неумолимого времени.
Звонкий голосок Люси вернул ее на землю.
– Я что-то не понимаю. Приветливая и вежливая – это разве не одно и то же, папа?
– Ничего общего.
Луч солнца вспыхнул в ее белокурых волосах.
– Почему?
Мона подумала: «Я тоже хотела бы родиться блондинкой».
– Потому что речь идет о слугах!
Она начала красить волосы в более светлые оттенки, когда вышла замуж: то в пепельный блонд, то в золотистый, то в светло-русый, но с первого взгляда было заметно, что цвет – ненатуральный. Андре не доверял брюнеткам, считал их вертихвостками и авантюристками. Сперва он и ей не доверял, кстати. «Мадемуазель, – объявил он ей в тот ноябрьский вечер, – вы прекрасней, чем картинка из журнала мод. Но могут ли мужчины вам доверять?» В день помолвки она обещала ему стать блондинкой; он увидел в этом знак естественного женского послушания.
– Слуги – они цветные. А ты – белая. Ты не можешь с ними дружить.
Люси заерзала в кресле, ей явно надоели бесконечные упреки. Мона почувствовала, как в Андре поднимается гнев, это может плохо кончиться, и к тому же еще даже не начали подавать блюда для торжественного обеда по случаю дня рождения… Она попыталась вмешаться:
– Обещай отцу, что ты так больше не будешь, детка.
Андре резко перебил ее:
– Надо, чтобы она поняла! Люси, слушай меня внимательно. Если ты приветлива со слугами, это означает, что ты их обманываешь. Ты заставляешь их поверить в то, что они нам ровня. А они нам не ровня.
Мона знала наизусть, что он скажет дальше. Движимая непреодолимым порывом, она тотчас же выпалила:
– Потому что мы живем в обществе, которое было, есть и будет естественным образом иерархичным.
Буквально накануне он возмущался дипломатическими инициативами Франции по отношению к Вьетминю. Рубленые фразы намертво впечатались в ее мозг. Белые не должны уступать. Желтые – низшая раса. Наше общество было, есть и будет…
На лице Андре неожиданно расцвела широченная радостная улыбка. Ее сердце забилось сильнее. Он повторил, словно смакуя эту фразу:
– Общество, которое было, есть и будет естественным образом иерархичным.
Развалился в кресле. Расстегнул пуговицу пиджака.
– Люси, твоя мама – самая умная из всех женщин, которых я знаю.
Но когда он это говорил, он смотрел только на Мону.
В дверном проеме показалась Тибаи, низко поклонилась. Обед готов… Андре жестом отослал ее. Что касается девочки, она больше не двигалась, бессознательно сознавая, как воздух вокруг них сгущается, делается теплее. Мона знаком попросила ее выйти из комнаты. Она тут же убежала. Они остались одни в гостиной, алой и влажной, как огромный раскрытый рот. Она вновь скрестила ноги, потом опять развела их, не сводя с него внимательных глаз. Легкий ветер ерошил волосы, спадающие ей на глаза. Когда она улыбнулась ему, он уже знал, что момент настал. Склонился к ней, провел губами по ее шее, щекам, затылку, застыл, затаив дыхание. Она прикрыла глаза, когда тонкий, изысканный запах, смесь амбры и сандала, задержался прямо возле ее сердца.
* * *
Однажды вечером Эвелин попросила меня дать героям вымышленные имена. «У меня не получается, не хватает воображения». Ясное дело, неправда. Этим словом – «воображение» – она просто наслаждалась, приятно было посмотреть, она смаковала его.
«Мона» пришло практически сразу. Я привожу здесь первые строчки первоначального пролога к книге.
Нужно было рассказать все.
Проследить за судьбой супруги, матери, женщины, ставшей свободной, которую мы назвали Мона.
Мы со священным трепетом, бережно восстановили бы дневники пятидесятилетней давности, черно-белые фотографии, на которых запечатлено все семейство при полном параде, письма, пахнущие сухим деревом, архивы.
Но от этой супруги, от этой матери, от этой женщины, ставшей свободной, не осталось ни слова, ни фотографии – Мона все унесла с собой.
Ее самоубийство поставило вопросы, которые требовали ответов. Но их не было. Единственный ответ, возможно, содержался в теплых звуках ее имени. Мона. Как Джоконда, она была улыбкой и загадкой.
Этот пролог утратил актуальность. По воле обстоятельств Эвелин заняла место своей матери. Она стала главным героем книги, ее отправной точкой, ее горизонтом. Но от Моны все равно остались улыбка и загадка.
Что происходит с вами в тот день, когда вы узнаете, что женщина, которую вы любили больше всего на свете, ваша мать, покончила с собой? Какая часть вашей души навсегда отомрет в это мгновение? Когда я пишу эти строки, я не могу не вспомнить о Дельфине де Виган и о ее книге «Отрицание Ночи». «Я не могла уместить в голове эту мысль, она была неприемлема, она была невозможна, это было – нет». И однако.
Эта сцена разворачивается перед моими глазами: Эвелин с детьми возвращается домой из воскресной поездки, звонит матери, ответа нет, звонит опять, ищет, набирает брата, он тоже ничего не знает, беспокойство нарастает, почему она не объявляется, не подходит к телефону, обычно всегда быстро отвечает, надо к ней поехать, они спешат, бегут, никаких звуков внутри. «Мама!» – никого, ничего, голоса срываются от страха, они находят ключи в почтовом ящике, открывают дверь, руки дрожат, мысли путаются – и вот они заходят.
Эвелин сидит напротив меня и курит третью сигарету подряд. Можно ли построить роман из вопросов и ответов? Высветить из событий жизни абсолютный смысл поступков и действий? У самоубийства свои резоны, неподвластные разуму. Смерть Моны осталась загадкой, и даже не потому, что Эвелин не знала его причин, – наоборот, потому что причин она знала слишком много. Ее мать отказывалась стареть. Ей невыносима была мысль, что она может утратить красоту, перестать быть желанной. То, что, без сомнения, было бы самой банальной мотивацией, хотя Мона и провела тридцать лет в феминистических баталиях. Она, бунтарка, которая долгие годы боролась за освобождение от сексуального ига, за право на аборт и на предохранение, не смогла избавиться от власти своего тела. «В пятьдесят, в пятьдесят лет любая женщина перестает быть желанной». Эвелин тогда вскипела: «Это ты такое говоришь? Ты, феминистка?» Мона стояла на своем. Женщина, которая больше не вызывает в мужчинах желания, потеряна для мира. Эвелин возмущалась, а потом расхохоталась. «Не смейся, пожалуйста. Если ты живешь с парнем, который моложе тебя, они обязательно назовут тебя старухой». Нет, это было несерьезно. Ее мать не могла так думать. Эвелин раздавила сигарету в пепельнице и подняла на меня глаза: «Она действительно так думала».
* * *
Лабиринт из воды и камня. Река вилась вокруг Сайгона и сверкала так, что было больно глазам. По воскресеньям совершались прогулки, благопристойные и чинные, досуг выходного дня. «Париж на Дальнем Востоке!» Обводя широким жестом окрестности, Андре объяснял Люси, как устроен город, рассказывал о его архитектуре, о богатствах улицы Катина, самой красивой, без сомнения, ведь они жили на ней. Вдоль дороги росли тамаринды, мимо проезжали коляски и кабриолеты, это была одна из главных улиц города. Собор Нотр-Дам из тулузского красного кирпича вздымал к небу две башни, увенчанные черепичными крышами и шпилями, придавая окрестностям вид французской деревушки. Лучшие рестораны, конкурируя между собой, зазывали посетителей. Здесь был еще муниципальный театр, его фасад в точности повторял линии и краски Пти-Пале. Был отель «Континенталь», за его величественными террасами, сделанными в виде палуб теплохода, угадывались роскошь и нега многокомнатных дорогих номеров. Андре Мальро и его жена провели здесь десять месяцев. «Браво, советские, от колониализма вы плюетесь, а подрыхнуть-то любите на шелковых простынях!» Чуть дальше пролегала улица Ла Грандьер с Дворцом спорта, где делались гигантские ставки. Там тренировали тело и душу, а также развлекались, как могли: танцы, бильярд, бридж, коктейли, концерты. Это был чистенький, ухоженный район, белей той белой элиты, которая там жила. Андре относился с подозрением только к банку. Там, говорил он, понизив голос, происходит трафик пиастров! «Ох…» – испуганно шептала Люси. Он успокаивал ее. Во всем виноваты проезжие, белые путешественники, безыдейные посредственности, не имеющие такой четкой системы ценностей, как у нас, коренных колонистов.
Моне все казалось интересным: и рикши, одетые в яркие, кричащие цвета, и рынки, где продавались неизвестные животные и непривычные овощи, и продавцы пончиков, сидящие прямо на тротуаре и заворачивающие свой товар в газетную бумагу, и велосипеды, с трудом выдерживающие вес кур, клеток и тушек разделанных лягушек, и канатоходцы, танцующие на проволоках. Это был Индокитай, колоритный, поэтичный, лубочный – колония бедных.
Когда ей становилось скучно, хотя такое случалось редко, или когда все ее подруги, с которыми она ходила на занятия или на танцы во Дворец спорта, были заняты, она провожала Тибаи до школы Сен-Луи. Все дети высокопоставленных чиновников там учились – от улицы Катина это всего минут десять пешком. Здание было просторным и светлым, оно открывалось во двор, затененный столетним баньяном. На тротуаре ее служанка терпеливо ожидала в толпе других тибаи, скромных и незаметных, казалось, лишенных возраста. Мона наблюдала за ними, отмечала тонкие черты лица одной, шелковистые волосы другой, жуткую ткань юбки, неухоженные ноги с пятками-терками, тонкие изящные запястья. Азиатские женщины мало говорили. Можно было подумать, что у них есть некий секретный код – взмах ресниц, наклон головы, скрещенные пальцы рассказывали о их жизни в домах Белого Человека, домашних заботах, муже, детях. Кто ходит в школу за их детьми в то время, когда они занимаются детьми своих хозяев? Потом она вспомнила: их дети не ходят в школу.
Открылись высокие двери, выпуская поток белых головок. Шум детской толпы перекрывал голоса взрослых. Примерно через минуту вышла Люси, сияющая, в нарядном платье с воланами. Она улыбалась, как улыбаются счастливые дети, дети без всяких проблем. «Детка моя!» – сказала Мона, подходя к ней. Ее сердце екнуло: дочь сначала бросилась на шею няне.
На обратном пути малышка монотонным голосом рассказывала таблицу умножения. «Дважды два – четыре. Дважды три – шесть. Дважды…» – вплоть до того момента, когда чуть не наступила на манго. Вот уже несколько дней они падали, и их было полно на тротуарах. Люси приготовилась, разбежалась и пнула его вперед. Другой плод упал и разбился с лопающимся звуком, который вызвал у Люси приступ хохота.