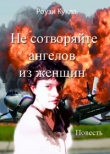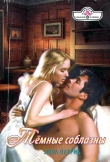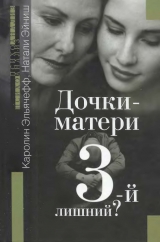
Текст книги "Дочки-матери. третий лишний?"
Автор книги: Каролин Эльячефф
Соавторы: Натали Эйниш
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Подобные отношения не подвергались всеобщему запрету, в отличие от прямого инцеста, к которому можно отнести «инцест первого типа», но в то же время они не вызывают и одобрения, поскольку нарушение даже такого запрета провоцируют по меньшей мере беспокойство. Оно постепенно перерастает в тревогу, которая только усиливается, когда оба участника этих отношений принадлежат к одному полу, особенно, если это две женщины, и тем более, если это мать и дочь: «На мой взгляд, самый главный, самый глубокий инцест, который затрагивает основы самой жизни и потому всегда проявляется и на словах, и в поведении только опосредованно – это инцест между матерью и дочерью. Одна и та же субстанция, одна и та же форма, один пол, даже одна плоть, одна рождена другой и станет такой же, и так до бесконечности. Мать и дочь проживают эти отношения как соучастницы или как враги, в любви или в ненависти, но это – всегда потрясение. Самые естественные в мире отношения могут обретать самые непредсказуемые, самые двусмысленные формы», – пишет Ф. Эритье.
По ее же утверждению, инцест второго типа (даже если не рассматривать его как основной тип инцеста) позволяет лучше понять инцест первого типа, «как будто он объясняет причины другого запрета, а именно, почему воспринимается как инцестуозная, плотская связь с духовными родителями, также как и с биологическими». Этот запрет с легкостью можно объяснить, опираясь на следующее утверждение: «наше общество испытывает отвращение к близости подобного с подобным»; и более того: «по определению считается, что замкнутый круг идентичного приводит к опустошительным последствиям».
Что же представляет собой это несущее опасность «идентичное», которого следует избегать любой ценой? Это жидкости тела, его секреты, ткани и кровь: «Если даже сексуальные отношения – далеко не одно и то же, что официальный брак, в любом случае, в биологическом и психологическом смысле они переносят от партнера к партнеру все то же самое, что и в брачных отношениях, так как подразумевают прямой контакт и передачу веществ. Если мужчина не может иметь сексуальных отношений с двумя сестрами или матерью своей партнерши в одно и то же время и в том же месте, так это потому, что они по сути, по составу веществ идентичны, следовательно, любые отношения с одной легко могут «заразить» другую». Итак, запрет на инцест второго типа «явным образом отмечает примат символического, и, не смотря на то, что он существует только на словах, он удивительным образом распространяется повсеместно, так как проистекает из посылки об «идентичном» и «различном», – утверждает Ф. Эритье.
Тогда возникает вопрос: если речь идет о «символическом», символизирует ли инцест второго типа физиологическое смешение телесной субстанции? В этом случае непонятно, что же считать тем «символическим» в сексуальных отношениях, в котором предположительно происходит контакт субстанций, и, при этом, никак не опосредуется в словах? Или же, что более правдоподобно, физиологическое смешение, производимое соитием с одним и тем же человеком (мужчиной) двух родственников (матери и дочери), само по себе что-то символизирует – но что именно? Ответ, как нам кажется, заключен в следующем: это воображаемое смешение материй в соитии символизирует в точности то, что подразумевается под этим «символическим», то есть позиция каждого участника этих отношений в семейной конфигурации.
Эту концепцию наглядно продемонстрировал нам знаменитый процесс между Миа Фарроу и Вуди Алленом, в связи с его близостью с ее приемной дочерью (Франсуаз Эритье, анализируя эту ситуацию, определяет ее именно как инцест второго типа). Между Миа Фарроу и ее дочерью отсутствует кровная связь, так как Сунь Ей – приемная дочь. Вуди Аллен не являлся ни ее биологическим отцом, ни даже приемным, потому что он ее не удочерял. Более того, он даже не претендовал на «отцовскую позицию» по отношению к девушке, так как был всего лишь сожителем ее матери. Тем не менее, решение суда было принято в пользу Миа Фарроу, несмотря на то, что подобие или близость двух женщин проявилась не телесно, а исключительно по отношению к его символическому отцовству, благодаря употреблению слов «мать» и «дочь». Ситуация, в которой оказался Вуди Аллен, вызывает «инцестуозное ощущение», потому что в семейной генеалогии он очутился на месте отца, тем более, что у него был общий биологический ребенок с Миа Фарроу. Что действительно сыграло свою роль, так это символические сами по себе генеалогические позиции, которые были предназначены одному и другому участнику, а отнюдь не телесное измерение сексуального акта (то есть обмен телесными веществами), на котором Франсуаз Эритье базирует свое определение.
Такой переход от телесного к идентициональному едва упомянут Ф. Эритье, тем не менее, нас он вполне устраивает, проливая свет на самый драматический аспект инцеста второго типа: невыносимое соперничество, вынуждающее мать и дочь занимать одно и то же место в сексуальном измерении. Эта невозможность разделить на двоих единственное место провоцирует слияние позиций в семейной конфигурации, психически непереносимую идентициональную неразличимость. Сексуальное соперничество, само по себе чреватое серьезными проблемами в обычной ситуации, может породить смятение или даже свести с ума всякого, кого оно вынуждает противопоставлять себя тому, кого нужно одновременно любить и отделить от себя: любовь и осознание отличия всегда сопутствуют отказу от соперничества.
Эту необходимость избегать соперничества совершенно недвусмысленно и неоднократно подчеркивала Франсуаз Эритье, объясняя причины запрета на инцест второго типа. Чем еще угрожает сексуальное соперничество, или даже оккупация чужого места, если не риском идентиционального смешения с точки зрения «логики идентичного и различного»? Избегание соперничества и уважение идентичности составляет двойной императив, который нарушается инцестом – как первого, так и второго типа, – вызывая смешение генеалогических позиций. Достаточно проследить элементарную логику – логику этого запрета и даже логику художественного произведения, чтобы прояснилось, что именно запрещено мужчине. Ему запрещено принуждать женщин делить одну и ту же символическую позицию, то есть провоцировать в одном и том же месте и в одно и то же время соперничество между ними, если они связаны друг с другом генеалогической близостью, самой сильной из всех возможных.
Причины вполне очевидны: как только мужчина преступает этот запрет, он тут же начинает пожинать разрушительные плоды соперничества, которое разобщает самых близких друг другу женщин, поскольку они вынуждены делить одно и то же место в сексуальной сфере, что самым серьезным образом угрожает их иден-тичностям. Именно об этом и повествуют нам художественные произведения.
Итак, понятие инцеста можно расширить в двух направлениях: с одной стороны, «платонический инцест», то есть не плотское слияние двух кровно связанных родственников (матери и дочери); с другой – «инцест второго типа», то есть физическая близость одного мужчины с двумя кровно связанными женщинами (соответственно, между матерью и дочерью). И в том, и в другом случае отсутствует то, что определяет ситуацию как инцест «первого типа», а именно, плотская связь между двумя кровными родственниками; но либо исключается третий участник, как в «платоническом инцесте», либо проявляется генеалогическая и идентициональная путаница из-за соперничества кровных родственников, как в случае «инцеста второго типа». Далее мы увидим, как эти два дополнительные измерения соотносятся с инцестом первого типа, осветив под иным углом загадку запрета на инцест.
Часть четвертая. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ МАТЕРИ
До настоящего момента мы рассматривали отношения матери и дочери с точки зрения объективной позиции, которую занимала в них мать. Теперь мы вплотную подошли к изучению субъективных переживаний дочери. Матери, которых мы определяем как «экстремальные», совсем не обязательно ведут себя таким образом в реальности, по крайней мере, мы относим их к этой категории совсем по другим причинам, даже если поступки некоторых из них можно охарактеризовать как экстремальные. Так или иначе, под эту категорию подпадают любые матери, которые вызывают у своих дочерей экстремально сильные эмоции. В дальнейшем мы будем руководствоваться именно этим критерием – субъективным восприятием дочери материнского поведения.
Почему же речь идет все-таки об «экстремальных матерях», а не об «экстремальных переживаниях дочерей»? Причина в том, что любые детско-родительские отношения – это всегда асимметричные отношения. За исключением внутренне заданного, точно такого же, как у взрослого, строения психики, с которой ребенок рождается (эта мысль давно уже стала прописной истиной), именно родители закладывают основу будущих взаимоотношений с детьми. Конечно, между родителями и детьми не может быть полного равенства, так как основная власть по-прежнему сосредоточена в руках родителей, даже когда они чувствуют, что ребенок манипулирует ими, как самостоятельная личность и равноправный партнер. Вот почему источник связанных с матерью детских переживаний, даже если они не слишком радужные и объективные, никогда не кроется в самом ребенке; и хотя из этого совсем не следует, что материнское поведение всегда незамедлительно отражается на психике дочери, именно в него уходят корнями все ранние эмоциональные реакции на мать.
Ни одна волшебная сказка не обходится без «экстремальных матерей». Они проявляются или в образе «хорошей матери», и, скорее всего, это будет добрая фея или крестная мать, а не родная, или в образе «плохой матери», и тогда, конечно, это – новая, приемная мать, то есть злая мачеха. Образ настоящей, то есть биологической матери появляется в сказках исключительно редко, тем более как один из главных персонажей (даже в «Красной шапочке» она играет второстепенную роль): словно эмоциональная жестокость со стороны матери может проявиться только при условии ее подмены на заместительную мать. Современные художественные произведения предоставляют нам на выбор множество разнообразных примеров «экстремальной матери»: идет ли речь о власти, о соперничестве между матерью и дочерью или о напряженности в любой другой ее форме.
Глава 13. Материнское превосходство
Любые отношения между матерью и ребенком можно рассматривать с точки зрения двойной иерархии, конъюнктурной и структурной. Конъюнктурная иерархия взаимозависимости со дня рождения младенца основывается на его потребности в матери (или в ее заместительнице), без которой он просто не выживет, тогда как выживание матери не зависит от ребенка, ее привязанность ограничивается эмоциональными и этическими аспектами, то есть ее жизнь не стоит на кону. Эта иерархия взаимозависимостей изменяется в течение жизни от одного возраста к другому. Зависимость ребенка обратно пропорциональна его развивающейся самостоятельности и может превратиться в свою противоположность, когда мать постареет и, в свою очередь, не сможет обойтись без собственного ребенка, как он когда-то не мог обойтись без нее.
Параллельно существует и другая иерархия, структурная, связанная, в отличие от конъюнктурной, не с возрастными изменениями, а, скорее, со сменой поколений. Она утверждает неустранимое преимущество матери над своим ребенком, так как мать появляется на свет раньше и предшествует ему как в жизни, так и на генеалогическом древе, где ее позиция располагается над позицией ребенка. Эта иерархия старшинства отражается почти в любой культуре как иерархия первенства, то есть принципиального превосходства: родителей над детьми, старших над младшими. Таким образом, она подтверждает права родителей на своих детей: право до их совершеннолетия принимать вместо них важные решения, право получать от них помощь в старости. Одновременно она налагает на родителей определенные обязательства: обязательство защищать ребенка в детстве, обязательство передать наследственные ценности во всех существующих формах и т.п. Конкретные проявления этих иерархий – зависимость и преимущества, конечно, могут значительно отличаться в различных культурах и разных семьях.
Мать также имеет двойное преимущество перед дочерью – ее превосходство закономерно, если можно так выразиться, «в квадрате»: дочь зависит от матери и появляется на свет после нее, и этот факт может вызывать у дочери очень сильные эмоции. Интенсивность ее переживаний объясняется «разницей в значимости». В экстремальном варианте мать способна полностью подавить дочь своей властью, причем, развитие детской психики в этом случае не только не будет сопровождаться поддержкой, а напротив, будет заблокированным или заторможенным.
Красота
«Красота совсем не обязательно приносит счастье; ее культурная обусловленность не задает критериев для распознавания ни ее наличия, ни, тем более, ее отсутствия в культуре», – писал 3. Фрейд. Тем не менее, детально исследована роль материнской красоты в развитии у дочери чувства уверенности в том, что собственная мать превосходит ее. «Моя мама – самая красивая»: в период, когда девочка воспринимает мать как самую лучшую, даже единственную модель женственности, она может ощущать только собственную незначительность перед идеализированным величием, приписываемым ею матери и воплощенным в материнской красоте. Эта красота особенно очевидна для дочери, так как она придает смысл взаимной любви между отцом и матерью. Именно эта любовь обеспечивает приемлемую для дочери причину, по которой сама она не может понравиться отцу так же как, как мать. Красота матери – реальная или только кажущаяся – служит дочери, если можно так выразиться, «основанием для чувства собственной второсортности» во всех областях.
Так, роман Элизабет Гудж «Арка в бурю» (1940) рассказывает о Ракель Фрок, которая предстает в глазах дочери во всем блеске и таинственности своего превосходства: «Она была очень красивая, прямая и стройная, как стебель лаванды, высокая и элегантная, словно сосна в долине, с роскошной копной черных волос, заплетенных в косу и уложенных короной вокруг головы; у нее была царственная осанка. [...] Без сомнения, она была обязана своей неувядающей красотой духу независимости, который она являла собой во плоти. Отдавая с любовью всю себя мужу и детям, принимая с радостью все, что бы ни встречалось ей на пути: хорошего или смешного, в глубине души [...] она держалась в стороне от всего этого. Какая-то скрытая, потайная часть ее существа всегда пребывала в полной безмятежности, которую она неизменно защищала от любого вмешательства. [...] Все, к чему она прикасалась, все, что ее окружало, казалось, было освещено и согрето ее теплом и шармом». Здесь мать предстает тем более величественной, так как она еще и недоступна, как звезды, – благодаря завесе тайны, которую они умеют создать вокруг себя. Дочери, которые в подростковом возрасте выбирают в качестве модели для подражания известных актрис или манекенщиц, переносят на внесемейные персонажи безусловное восхищение, которое они испытывали маленькими девочками по отношению к собственной матери.
Структурное превосходство
Героиня Элизабет Гудж ни в малейшей степени не злоупотребляет тем превосходством, которое три ее дочери, как, впрочем, и муж, признают за ней. Мы увидим, как отношение дочерей эволюционирует, у каждой на свой манер, к совсем другой, но спокойно реализуемой идентификационной модели, отличающейся от материнской и одновременно различной для каждой. Мать не предстает чересчур совершенной и не навязывает себя дочерям как обязательную модель, не принуждает их быть кем-то, кем они не являются, напротив, в полном согласии с мужем она поддерживает их собственный выбор.
В таких условиях превосходство матери и восприятие ее как модели женственности имеет все шансы остаться в рамках структурного: именно иерархия старшинства позволяет девочке мечтать о том, кем она станет потом, начиная с образа ее матери в настоящем. «Когда я вырасту...» Так, юная героиня романа Розамунды Леманн «Пыль» (1927) вспоминает свою мать: «Одетая к обеду во все белое, с чем-то розовым и радужным, которое колыхалось вокруг нее », и, готовясь в дальнейшем вести свою собственную тайную жизнь женщины, продолжает: «Я хотела бы – твердо произнесла я [...], я бы хотела быть женщиной тридцати шести лет, закутанной в черные шелка, с жемчужным ожерельем на шее». Такие картинки воплощают мечты маленькой девочки, которая спряталась в маминой гардеробной, где ощупывает материю ее платьев, вдыхает аромат ее духов, копирует ее макияж, примеряет ее меха и туфли на высоком каблуке, – все это дарит дочери иллюзию, что она тоже стала «дамой».
Когда дочь воспринимает мать, как обладающую чем-то большим, чем она сама, так как та действительно является большей: более красивой, более женственной, более дамой; и когда это «большее» относится к той части жизни матери, которая не сводится к самой дочери, но мать ни в коей мере не исключает ее (ни «мать в большей степени, чем женщина», ни «женщина в большей степени, чем мать»), тогда дочь, в свою очередь, может стремиться к этой таинственной жизни, которая однажды станет ее собственной. Материнское превосходство может стать основой для этой, в терминах Франсуазы Дольто, «устремленности в будущее», зародившейся из простого любопытства дочери и ее желания раскрыть, что же это за интересная жизнь, которую ведет мать и которая пока ей недоступна. Но, конечно, не всегда все происходит так благополучно.
Материнская немилость
Что происходит, когда дочь не читает в материнском взгляде признания своей собственной красоты? Превосходство матери в этом случае не означает больше обещания исполнить в будущем мечты дочери, теперь оно означает непоправимый, фатальный разрыв и постоянное чувство собственной ничтожности, которое в дальнейшем даже любовь и понимание матери никогда не смогут смягчить, так как мать сама поселила в дочери это представление о своей неполноценности.
В фильме «Осенняя соната» Ева, как мы помним, при встрече немедленно подтверждает превосходство своей матери, Шарлотты – и как пианистки, и как женщины. Но созерцание отстраненной и недоступной материнской красоты заставляет ее вспомнить о своей незначительности и неполноценности, и она замыкается в себе, потому что мать не обращает на нее ровно никакого внимания и даже не смотрит ей в глаза, то есть избегает элементарного визуального контакта, исключая саму возможность появления взаимности между собой и дочерью. Мать позволяет Еве любоваться собой, но сама абсолютно равнодушна к ней и просто не замечает взглядов дочери. Ева вспоминает свое отрочество: «Как-то раз ты разрешила мне поехать вместе с тобой на лодочную прогулку в бухте, на тебе было длинное белое платье из легкой ткани с глубоким вырезом, который открывал грудь, такую красивую, ты была босиком, а волосы заплела в тугую косу. [...] Я всегда боялась, что ты не любишь меня, тогда я чувствовала себя уродливой, тощей и нескладной, с громадными коровьими глазами». В данном случае не имеет значения, носит ли разрыв между матерью и дочерью объективный характер или рассказчица субъективно воспринимает его таковым. Ее восприятие само по себе становится источником страдания и ощущения безнадежности, потому что матери совсем нет дела до своей дочери, ее не интересует ни то, что с ней происходит в настоящем, ни то, какой женщиной она станет в будущем.
Бывает, что превосходство матери только подчеркивает недостаточно привлекательную внешность дочери. Но кто и каким образом способен оценить это объективно? Если мать способна стать в этом отношении союзницей дочери и поддерживает ее, несмотря на внешние недостатки, которые воспринимает как относительные и старается подчеркнуть ее достоинства, она может минимизировать негативные последствия и способствовать развитию положительных качеств дочери. В этом случае материнская холодность не скажется столь негативно на развитии идентичности дочери и ее отношениях с матерью. И наоборот, если дочь заметит или поймет по реакции матери, что единственное, чего на самом деле хочет мать, – чтобы ее дочь была красивой, хотя именно красоты ей и не хватает, личность дочери, как и ее отношение к матери, будут надломлены, и даже если смогут восстановиться, то лишь на основе осознания этой материнской «немилости» – именно такое название – «Немилость» – Николь Авриль дала своему роману (1981).
Изабель (ей совсем не идет это имя, так как она не слишком привлекательна) уже тринадцать лет, но она не способна критически воспринимать своих родителей: «Отец немного старше матери и чувствует себя уставшим от бремени славы, ответственности и знаний. Мать – юная, красивая, внимательная. Она подобна богине, звезде или королеве. До чего же прекрасны ее родители!» Но Изабель слишком любопытна и, подслушав разговор между родителями, узнает из него горькую правду о том, что на самом деле всегда знала, а именно, как много для ее матери значит красивая внешность, которой дочь совершенно лишена: «Понимаешь, Этьен, некрасивая женщина – это ничто, пустое место. Сколько ни пытались доказать противоположное – это все бред, бред, бред! Если это можно будет исправить, я непременно найду ей самых лучших хирургов. Один взмах скальпеля, и больше нет загнутого, как орлиный клюв, носа и подбородка в виде галоши. Правда, пластическая хирургия не исправит бесцветные глаза, некрасивую кожу или вечно поджатые губы. Она не только страшненькая, моя бедная девочка, она лишена обаяния, это еще хуже. [...] Я хочу быть для нее хорошей матерью, и любовь не ослепляет меня. Единственный подарок, который я хочу сделать ей на день рождения, – это красивая внешность. Поверь мне, красота необходима женщине, это единственное, что сразу бросается в глаза. Увы, я потерпела неудачу, мы потерпели неудачу, Этьен. Она совсем некрасива, нисколечко, наша малышка. – Да, ты права, совсем некрасива», – согласился отец».
Изабель не может сомневаться в справедливости родительского приговора: она всегда чувствовала себя страшилищем, так как окружающие давали ей это понять и взглядом и словом: «О ней никогда не говорили, что она брюнетка или блондинка, что у нее такие-то глаза или такие-то волосы; в лучшем случае, говорили, что она не блещет красотой, в худшем, что она безобразна». Она не упрекает мать в том, что та родила ее уродиной, но она обвиняет ее более изощренно в том, что та не отличается слепотой, которая якобы так свойственна материнской любви и благодаря которой все матери считают своих дочерей привлекательными: «Ты одна обладала властью второй раз подарить мне жизнь, если бы сказала всему остальному миру: нет, моя дочь не уродина, вы ошибаетесь. Вы просто ослепли. Ваши сердца не способны любить. Ты могла бы перехитрить судьбу, и я перестала бы чувствовать на себе осуждающие взгляды. [...] Добровольно признав свою дочь безобразной, мадам Мартино-Гули совершила роковую ошибку».
Именно этого материнского малодушия Изабель и не могла вынести: заплыв слишком далеко в море, она попыталась покончить с жизнью, но ее спас молодой человек, который случайно оказался поблизости. О ее попытке самоубийства, как это часто бывает, никто из окружающих так и не узнал, и дочь продолжала жить с тем же ощущением материнского величия и собственной ничтожности, ей ни разу не пришло в голову усомниться в справедливости их отношений, и они оставались неизменными: «Она по-прежнему признавала материнское превосходство, потому что мать есть мать, она была существом другого, высшего порядка, и ее красота всегда оставалась для дочери непреложной истиной».
Антинарциссические злоупотребления
Недостаток материнской поддержки, особенно, если дочь чувствует себя или действительно является неполноценной, может проявляться в пограничной форме систематических унижений, позволяющих матери с методичной жестокостью подкреплять свое превосходство. Так, в романе графини де Сегюр «Франсуа Горбатый» (1864), мадам Дезорм, мать маленькой Кристины регулярно нападает на свою дочь, постоянно критикует ее поведение и подавляет ее психику: «Ты далеко не красавица, моя бедняжка!»; «Она изомнет мне выходное платье или запачкает его ногами!»; «Кристина, ты слишком много ешь! Не заглатывай пищу так жадно! Ты хватаешь слишком большими кусками!» и т.д.
Тоже самое мы услышим от ужасной матери из пьесы «До конца» Томаса Бернхарда: мы уже рассказывали об этой вдове, которая не любила и не желала покойного мужа, а теперь живет вдвоем со своей взрослой дочерью. Она неустанно терроризирует дочь, всячески оскорбляет ее и осыпает бранными словами, которые оказывают непоправимо разрушительное воздействие, так как мать высказывает их прямо в лицо дочери и унижает ее человеческое достоинство (в отличие от матери Изабель из романа «Немилость», которая говорит об этом мужу, но этот разговор хотя бы не предназначался для ушей ее дочери):
«Ребенком ты всегда была уродом
с добрейшими глазами но уродом
и нужно время чтобы плоть урода
обличье человечье обрела»
Даже отец, или, по меньшей мере, воспоминания о нем, используются, чтобы как можно больнее уязвить дочь:
«Отец твой никогда в тебя не верил
она зачахнет сдохнет околеет
всегда твердил он от нее не будет толка
а в голове ее лишь чушь да бредни
она не грациозна не пластична
ей музыкального не дали музы слуха
такая не пригодна ни к чему»
Чувство вины у дочери усугубляется чувством собственной неполноценности, когда мать возлагает на нее ответственность за свое одиночество, хотя она сама поддерживает его всеми возможными способами:
«И все вокруг давно от нас сбежали
ведь ты все сделаешь всегда не так как надо»
В этом случае речь идет о том, что можно было бы назвать «антинарциссическими злоупотреблениями», когда господство матери подпитывается психическим и даже физическим унижением дочери:
«Да я тебя всегда такой любила
чтоб ты стояла на коленях предо мною
с таким почтением как перед королевой
ужель ты думаешь что встать тебе позволю»...
В «нарциссических злоупотреблениях», о которых говорилось в первой части, «мать в большей степени, чем женщина» проецирует на дочь собственные неудовлетворенные стремления к величию, которые переполняют ее, в какой бы форме они не проявлялись, реальной или воображаемой. Мать, выведенная в этой пьесе, скорее всего также принадлежит к категории «матерей в большей степени, чем женщин», так как всякий третий исключается из материнско-дочерних отношений. Но, в отличие от матерей, которые склонны к нарциссическим злоупотреблениям в своем отношении к дочерям и постоянно принуждают их становиться все более совершенными (как в фильмах «Самая красивая» или «Пианистка»), антинарциссические злоупотребления отражают собственную неудовлетворенность матерей, воплощение которой они видят в своих дочерях: «Она смотрелась в мои глаза. Я была ее разочаровывающим зеркалом», – так говорит о своей матери героиня из романа Виолетты Ледюк «Опустошение» (1955).
Дело не в том, что дочь объективно не обладает никакими физическими или интеллектуальными качествами, которые могли бы вызвать нежность и преданность матери (прекрасно известно, как дети с задержкой умственного развития или инвалиды способны пробуждать эти чувства), а в том, что мать просто не желает замечать в своей дочери ничего, кроме недостатков. Таким образом, столь характерные для вечно неудовлетворенных матерей антинарциссические злоупотребления зачастую – всего лишь производные безостановочной критики.
Даже если такая критика кому-то может показаться справедливой, она теряет всю свою воспитательную ценность (если огульная критика, высказываемая, к тому же, в оскорбительной форме, вообще может иметь какую-то воспитательную ценность), поскольку является систематической, несправедливой, чрезмерной, и всегда все обесценивает. Так, «Удушье» (1946), другой роман Виолетты Ледюк показывает, насколько опасна неадекватно жестокая реакция матери на «глупые выходки» маленькой дочери: «Босыми ногами по холодной плитке! Ты что, хочешь, чтобы я умерла от огорчения?» Когда девочка теряет свой зонтик, следует еще более неадекватная реакция: «Меня это просто убивает. Посмотрите на нее. Она хочет пустить нас по миру. Совершенно новый зонтик. Самый красивый во всем городе. Она недостойна того, что для нее делается. Не хватало еще, чтобы ты его кому-нибудь отдала. Это никуда не годится, просто ни уму, ни сердцу! Сумасшедшая какая-то! Точно, сумасшедшая».
Материнство и рабство
Не признавая в своей дочери ни малейших достоинств – ни физических, ни психологических, систематически критикуя ее за то, какая она есть, и за все, что она делает, мать рассчитывает, что эти в высшей степени асимметричные взаимоотношения, постоянные унижения ее личности полностью исключат любые проявления соперничества со стороны дочери. Это настоящее психическое уничтожение, иногда оно проявляется в таких пограничных формах, которые возникли в воображении Томаса Бернхарда, а обычно встречается в более мягких формах, и это довольно широко распространено.
Такие матери обеспечивают себе абсолютное в своем роде превосходство, которого они жаждут, но которое могут реализовать только в отношениях с дочерью, которая так похожа на мать. Ради этой цели они обращаются с дочерьми как с рабынями, не оставляя им ни единой возможности обрести независимость. В этом проявляется кошмарная фантазия на тему «гинекократии», которую швейцарский мыслитель Иоган Жакоб Башофен облек в научную форму, а Т. Берхнард – в драматическую:
«Ты ничего и никогда не совершила
чего бы я тебе не разрешила
Без моего приказа не посмела б ты не так ли
То не вопрос не нужно отвечать
Произвела тебя на свет я только для себя
ты для меня одной
принадлежать ты будешь мне пока жива я буду
Ты полностью свободна ты же знаешь
но мне обязана ты до скончанья дней моих»
Как обычно бывает в отношениях раб – хозяин, рабство проявляется в различных формах, так как мать настолько же зависима от своей дочери, насколько дочь принадлежит или думает, что принадлежит матери:
«Ты мне всегда необходима это ясно
Всегда нуждаюсь я в тебе
Всечасно [...]
Смертельно свыклась я с тобой
Смертельно [...]
О да дитя мое не сразу пусть ты все же научилась
читать в моих глазах мои желанья
и в шевеленьи моего мизинца
глубокий разгадать сумела смысл
вот почему ты чувствуешь себя счастливой»...
Когда мать кичится данной мужу на его смертном одре клятвой: «Я буду жить всегда для дочери моей / Мое дитя не будет ведать страха», – в этом обещании нельзя не услышать смертельной угрозы для той, кому мать отравляет жизнь, потому что захватила ее полностью и не дает свободно вздохнуть. Если дочери действительно больше нечего бояться, так это потому, что худшее с ней уже произошло.