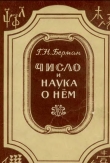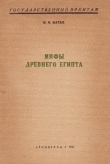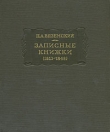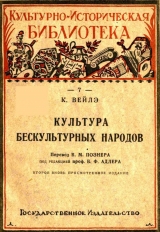
Текст книги "Культура бескультурных народов"
Автор книги: Карл Вейлэ
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Далее, когда группа греков отправлялась в путь для основания новой колонии, она брала с собою в новое поселение и огонь из родной общины. Если же греки, в силу каких-либо причин, вынуждены бывали добыть новый огонь, то во всех случаях, когда надо было подчеркнуть старинную традицию, прибегали не к давно уже бывшему в употреблении огниву, а привозили огонь иногда из очень отдаленных местностей. Таким образом, всякий раз отмечалось, что древнейшим способом получения огня было заимствование. Лемнос ежегодно посылал корабль на остров Делос, чтобы привезти оттуда огонь, который потом непрерывно поддерживался в течение года. Когда же спартанский царь отправлялся во главе своего войска в поход, его сопровождал огненосец с тлеющим огнем, взятым с очага родины; в продолжение всего похода пользовались только этим огнем.
Обратимся теперь к нашим странам. Когда северные сородичи немцев отправлялись в завоевательный поход, они непременно брали с собою из отчизны горящую головню. Даже когда в IX веке норвежцы отправились в Исландию, они захватили с собою родной огонь, чтобы присоединить к себе новую страну и освятить ее огнем. В позднейшее время, когда вследствие земельной тесноты, захват новых земель пришлось ввести в известные границы, единица площади еще определялась пространством, какое один человек мог «объехать с огнем» в течение дня.
Так было за тысячу лет до нас. Из этого древнего обычного права заимствования огня развилась впоследствии обязанность давать огонь. В Афинах государство признавало обязанность не отказывать просящему в огне.
Цицерон в своей речи об обязанностях выражает пожелание, чтобы и незнакомцу не отказывалось в огне, а Плавт включает в сферу этих правоотношений даже человека чужого племени и врага. В древнем Риме считалось далеко не легким наказанием быть исключенным из пользования водой и огнем: то и другое считалось в социальном смысле одинаковым. Впрочем, и мы, люди новейшего времени, устроены нисколько не иначе. Хотя в настоящее время мы едва ли занимаем огонь очага, но мы сохранили обычай, лишь недавно угасший в западной Германии – обычай, оставлять сучковатый обрубок плотной консистенции тлеть в течение года под пеплом. В нашем коксе этот обрубок продолжает жить в измененном виде. Да и заимствование огня производится повсюду тысячу раз в день. Прохожему на улице захотелось закурить. Табак уже у него в зубах, но нет самого главного. Орлиным взором разглядывает он прочих смертных вокруг себя. – «Ага, вот! Позвольте позаимствоваться у вас огоньком?» – «Пожалуйста, с большим удовольствием». – Хотел бы я видеть такого представителя современной культуры, который дерзнул бы уклониться от этой обязанности!
В пользу приоритета употребления огня перед уменьем воспроизводить его говорит и естественное положение вещей. В распоряжении человечества есть два естественных источника огня: электрический огонь с неба и вулканический под землею; оба могли как или иначе побудить человека войти в близкое знакомство с этим жутким сначала явлением и извлекать из него разнообразную пользу. Хотя и испуганный молнией, человек все же решался потом приближаться к спокойно тлеющему дереву или к потоку лавы, остывающему в течение ряда лет. Человеческое любопытство, в конце концов, преодолевает самый сильный страх, который к тому же у первобытных народов, судя по всему, что приходилось наблюдать у них, не бывает чересчур острым. С другой стороны, польза огня слишком очевидна, чтобы даже самый первобытный человек мог слепо пройти мимо него. В том, что лесной пожар может произойти естественным путем– не сомневается никто; во время же пожара сотни животных разного рода и величины погибают в огне. Когда огонь пронесется дальше, на пепелище остаются сотни трупов, вполне или наполовину изжаренных. Карл фон дер Штейнен в своей известной книге «Unter der Naturvölkern Zentralbraziliens» («Среди первобытных народов центральной Бразилии»), в главе, посвященной огню и открытию деревянного орудия для добывания огня, описывает, как после пожара все хищники бросились на пожарище– не на огонь, а на дымящуюся позади него площадь, где много грызунов могло превратиться в уголь. Они поспешно стремились сюда издалека, чтобы полизать соленую золу. А земля излучала приятную теплоту.
Первобытному человеку достаточно было просто последовать этому примеру животных, чтобы понять пользу огня; поджаренный кусок дичи и испеченный плод должны были скоро показаться ему более лакомыми, чем поглощаемое им до тех пор сырое мясо и неудобоваримые лесные плоды. К теплому становищу лишенный одежды дикарь чувствителен, по меньшей мере, столько же, сколько и его современные потомки.
Что касается пути от этого первого простого использования огня до сознательного его сохранения и поддержания – то у нас существуют на этот счет только предположения. Иногда, быть может, человек во многих местах должен был додуматься до того, чтобы унести тлеющую головню в свое собственное становище, и тут, так сказать, размножать его, наподобие домашнего животного. Быть может, наш предок и не дошел еще до того, чтобы переносить самую головню, но при его кочевом образе жизни было самым простым и естественным делом разбивать становище у ствола, тихо тлевшего в первобытном лесу. Это тление даже больших лесных деревьев является прямо таки принадлежностью африканского ландшафта в сухое время года. Со времен старого карфагеняна Ганнона и, надо полагать, еще в более ранние эпохи, негр приучился в течение сухого времени года «пускать огонь», как говорят в (бывшей) немецкой Восточной Африке. Когда наступает ночь, горизонт по всем направлениям загорается кроваво-красным заревом. Если путешественник приблизится к одной из таких огненных волн, то при свете пламени увидит фантастические черные фигуры туземцев, суетливо бегающих во всех направлениях, держа в высоко поднятой правой руке неизбежную горящую головню, чтобы зажечь новый очаг в сухой траве. Когда огонь угрожает принять направление, неугодное его господину и повелителю, он ограничивает действие огня и тушит его – horribile dictu – собственной подошвой, которая, впрочем, обладает такой толстой кожей и жесткостью, что может без вреда тушить даже раскаленные угли. Но днем картина нисколько не грандиозна; напротив, вечно мутный, полупрозрачный, скрывающий даль воздух – неизбежное следствие «пускания огня» – висит над землей и значительно ослабляет впечатление, производимое на путешественника степным пожаром.
Конечная цель этих пожаров – превращение сухой травы, достигающей нескольких метров высотою, в более полезную золу; но прежде всего имеют в виду уничтожение бесчисленного множества вредителей из животного царства. Без сомнения, обе цели до известной степени и достигаются; но, к сожалению, способ этот препятствует развитию богатой древесной растительности. Тлеют деревца величиною едва с молодую сливу. Местами та же участь постигает и могучих представителей леса; случается иногда, что путешественник в изумлении замедляет шаги или машинально останавливается перед картиной, которая, в самом деле, производит довольно странное впечатление на безобразном черно-сером фоне лесной почвы, покрытой пеплом: длинный, белый силуэт с голой кроной возвышается над отвратительным хаосом. Это – огненная гробница красы леса, нашедшей здесь бесславный конец после горения и тления, длившегося недели и месяцы.
Несомненно, что такой естественный факел мог побудить дикое кочующее племя расположиться на время лагерем в сфере его согревающего действия. Но если даже предки наши шли не этим путем, а каким-либо иным, то во всяком случае путь от простого разглядывания огня до его сознательного использования не был слишком долог. Переход от первого созерцания к привычке и затем к использованию совершался без скачков.
Не иначе обстоит дело и при гораздо более крупном шаге от простого использования до произвольного воспроизведения огня. Это может показаться удивительным при всякой иной точке зрения, но не для метода этнографического. Здесь одно вполне последовательно вытекает из другого.
В старой форме огонь был, говоря словами Карла фон ден Штейнена, домашним животным, которое, так сказать, приблудило к человеку и требовало лишь внимательного ухода. Напротив, в новой форме огонь является изобретением, которое нужно было сделать. Стремился ли человек сознательно к этой цели? Выдумал ли он огонь? Оскар Пешель, повидимому, разделял этот взгляд в своем знаменитом классическом «Народоведении»[13]13
Есть в русский перевод Э. Петри. (Прим ред.).
[Закрыть], которое, благодаря блестящему изложению, глубине и широте взгляда и теперь еще, спустя целое поколение после смерти автора, пользуется заслуженной известностью. Пешель рисует нам Прометея ледникового периода, который сознательным размышлением и опытным путем сумел разрешить проблему добывания огня. Нисколько не желая посягнуть на память покойного учителя землеведения и народоведения, мы с уверенностью можем сказать: явление это происходило не так, как представлял себе Пешель. Изобретателями способа добывания огня не были ни жрец с огненным колесом, ни бродячее охотничье племя у подножия колеблемого бурей дерева с сильно трущимися ветвями; этим открытием мы обязаны скорее… Впрочем, зачем преждевременно выдавать тайну? Лучше последуем постепенно, шаг за шагом, вперед, чтобы читатель совершенно самостоятельно напал на правильное решение, без содействия вечно готового поучать профессора.
В красивом вестибюле Лейпцигского музея народоведения (быть может, даже чересчур пышном по сравнению с залами для коллекций), между коллекцией из древнего Бенинского царства на западном берегу Африки и весьма поучительным собранием всех первобытных видов денег и единиц ценности со всего мира – стоит изящный маленький шкафик с надписью: «Примитивные способы добывания огня». Содержание его, в соответствии с размерами шкафа, не очень велико, и тем не менее оно почти без пробелов обнимает все, о чем гласит надпись. В самом деле, и в этом отношении идейное богатство нашего рода не было чрезмерно большим: он не пошел дальше таких механически чрезвычайно простых способов, как буравление, трение, скобление, пиление и удар. Только два орудия – пневматическое огниво на юго-востоке Азии и зажигательное стекло предполагают значительные познания в физике; оба способа являются вместе с тем и достоянием таких культурных слоев, которые уже неизмеримо далеко ушли от зачатков цивилизации.
Самый распространенный способ, добывания огня – это уже описанное сверление или выбуравливание его; он кажется необыкновенно простым, но требует, как подтвердил мой собственный опыт во время поездки по Африке, немалой подготовки и навыка. В зависимости от части света или страны а вернее, быть может, в зависимости от ближайших условий – способ этот варьируется: за трудное дело выбуравливания огня берется один человек, своими собственными силами, либо же несколько; если работает один, то ему приходится ступнями или коленями крепко держать сверлильную доску (так называют в литературе нижнюю часть прибора, безразлично, имеет ли она форму доски или нет). Если работает несколько человек, то было бы нерационально, если бы два опытных лица не соединили своих усилий, при чем одному приходится буравить, другому – удерживать в неподвижном положении нижнюю доску.
Но эти внешние обстоятельства, мне кажется, еще не затрагивают самой существенной стороны способа. Вместе со своими слушателями я не раз пытался было добыть огонь сверлением; мы работали строго по литературным шаблонам, которое я описал выше. Несмотря на громаднейшее напряжение и достойную удивления настойчивость, никакого результата не получалось. Позднее, видя успешные попытки моих негров, я заметил, что дело тут не в скорости сверления и не в настойчивости, а в получении возможно большой массы опилок, которые, кроме того, должны скопляться в надлежащем месте и должны быть правильно использованы. Очень жаль, что в книге нельзя воспроизводить кинематографических снимков; читатель сразу увидел бы, с каким приятным спокойствием вертел деревянное сверло сильный Вандуванду, великолепный мужчина из племени яо, которого, к сожалению, постигла печальная судьба: его убил подстреленный слон. Этот туземец после трех или четырех вполне спокойно выполненных приемов сверления зорко присматривался к вытекавшей из боковой зарубки горке древесной муки; если результат оказывался неудовлетворительным, негр, не спеша, вновь приводил сверло во вращение и затем начинал тихо, совсем тихо раздувать кучку опилок. Это раздувание требовало гораздо больше времени, чем само сверление; в зависимости от рода трута и степени его сухости, оно длилось иногда более минуты. Только постепенно я понял, что умелые сверлильщики никогда не забывали класть в высверленную ямку нижней доски несколько песчинок; при трении дерева о дерево хотя и получается достаточно чада и едкого дыму, но очень мало буровой муки; последняя накопляется в достаточном количестве лишь благодаря мелким твердым песчинкам, служащим для усиления трения; при этом мука получается и достаточно тонкая, так что даже после медленного сверления она быстро загорается. И первая едва заметная искорка служит сигналом к немедленному прекращению сверления.
Область распространения этого простого способа сверления чрезвычайно велика; прием этот почти космополитичен. Вся группа наших предков-арийцев добывала огонь таким способом; сюда надо отнести и всю Африку с гуанчами на Канарских островах, почти всю Америку; кроме того, мы находим принцип его и у гиперборейцев.
Менее распространен, но столь же прост в техническом смысле способ огнивного плуга. Он тоже требует подставки, в виде палки или доски, и трущей палки. При этом способе, как видно уже из его названия, не сверлят, а трут концом палки по жолобу нижней доски. Ближайшей целью является и здесь получение возможно большей массы тонкой древесной муки, которая загорается совершенно аналогичным образом, как и в случае сверлильного огнива; полученную искорку переносят потом на настоящий горючий материал – трут. Родина этого огнивного плуга – область Тихого океана, где он распространен от Гавайских островов до Таити и Новой Зеландии и достигает на западе островов Фиджи. Даяки на Борнео, наряду с другими способами добывания огня, также пользуются этим методом. На Самоа (рис. 24) с помощью его огонь добывается в 40 секунд; на Гавайских островах это длится, как говорят, одну, две минуты и долее.

Рис. 24. Добывание огня снарядом, напоминающим плуг (на Самоа).
Из всех этих данных, однако, не видно, определяют ли они время от начала трения до получения первой искорки или до воспламенения трута. Во всяком случае, этот огнивный плуг кажется мне еще менее совершенным инструментом, чем его сверлящий товарищ. К тому же, он совершенно не способен к дальнейшему усовершенствованию.
Зато этим качеством в высшей степени обладает сверлильное огниво. Если гаучо, странствуя по обширным пампасам Южной Америки, забудет или затеряет свои обычные зажигательные приспособления – коробку спичек или стародедовское огниво и кремень, – он обращается к древнему способу его отдаленнейших предков (рис. 25).

Рис. 25. Добывание огня у гаучо в пампасах. (По описанию Тэйлора.)
Кусок сухого дерева или любой иной кусок дерева всегда легко найти на широких равнинах; впрочем, гаучо то и другое, на всякий случай, возит с собою. Затем он энергично принимается сверлить один кусок дерева другим, но не при помощи вытянутых ладоней, как дикие, а обращается с ними, как с центральным буравом. Согнувшись, он наклоняется над доской, так что верхняя часть его тела повисает над ней: затем он вставляет конец палки в предварительно вырезанную в доске ямку, упирает противоположный конец в грудь или лоб, защитив его куском кожи, надавливает на палку, слегка изгибая ее, берет ее за середину и приводит руку в кругообразное движение. Как видим, способ этот в принципе вполне однороден с работой нашего бура и производит то же действие: при помощи его также получается в желательном количестве древесная мука и притом – без особого напряжения сил.
Дальнейшие усовершенствования бурового огнива, в сущности, не принадлежат уже первобытной ступени нашего культурного развития, но ради полноты следует и здесь остановиться на них вкратце. Самыми различными народами сделано наблюдение, что если вокруг палки-бурава обмотать ремень или шнур и затем тянуть его концы попеременно в разных направлениях, то он вертится лучше, чем при старом способе вращения между ладонями. Для этого необходимы два человека (рис. 26): один обеими руками тянет шнур, другой крепко держит нижнюю доску и одновременно создает опору для другого конца сверлящей палки.

Рис. 26. Веревочный бурав.
Голая ладонь едва ли пригодна для этой цели; лучше служит кусок дерева, в котором вырезается ямка для упора в нее свободного конца сверла; но всего лучше взять для этого позвонок[14]14
Вернее – не позвонок, а одну из костей ступни. (Прим. ред.).
[Закрыть] животного с природным углублением на нижней стороне. К тому же, эта кость достаточно мала, и в случае необходимости человек может держать ее между зубами. Громадное преимущество кроется в том, что с применением такого приема второй человек становится излишним: сверлильщик зажимает между своими прекрасными и здоровыми зубами это гнездо, как можно назвать углубление для упора конца оси, стискивает сверло между ним и нижней доской, берет концы шнура обеими руками и энергично тянет их попеременно в разные стороны. Прием этот не вполне удобен для зубов, как я убедился из собственных самоотверженных опытов, но зато быстро приводит к цели.
Еще разумнее были те народы, которые ухитрились освободить при этой операции одну руку. Это было достигнуто применением токарного смычка; привязав концы шнура к концам: лука из кости или дерева, водили этим смычком вперед и назад, как это делают восточно-азиатские и индийские токари на своих примитивных токарных станках. Это смычковое сверло (рис. 27) также требует опорного гнезда для верхнего колеса, но все же, по сравнению с двумя предшествующими способами, представляет значительный шаг вперед.

Рис. 27. Смычковый бурав.
Последнее усовершенствование буранного огнива представляет бурав в виде насоса. Всякий, кто в детстве увлекался безвкусным занятием выпиливания, знаком с этим сверлом в усовершенствованной форме. Красиво отполированная ручка сверла, как бесконечный винт, дребезжа двигается вверх и вниз по стальному пруту, также имеющему винтообразный нарез. На конце этого прута прикрепляется тонкое сверло, которое при энергичном вращении быстро пронизывает дерево, делая в доске маленькие отверстия. Через эти отверстия юный мастер продевает тонкую пилку с гордым сознанием своей власти над материей. Древние племена алгонкин в Северной Америке устраивали это в более простой форме; их палка-бурав имела свыше метра длины; бесконечный винт заменялся двойным шнуром, свободные концы которого привязывались к поперечной палке, как показывает рисунок 28.

Рис. 28. Бурав в виде насоса.
При надлежащем устройстве аппарата нужно только водить эту поперечную палку вверх и вниз, чтобы получить сверлящее движение палки-бурава. Верхняя опора для бурава при этом едва ли необходима. На островах Тихого океана и в Малайском архипелаге тоже употребителен такой аппарат, но он служит там прежде всего для просверливания раковин, отделываемых в качестве украшений, и черепаховых щитов. В этом случае конец его снабжают твердым камнем, горным хрусталем или чем-либо в этом роде. Этот бурав был в Восточную Азию, повидимому, занесен и притом в относительно недавнее время; быть может, океанийцы обязаны этим прибором первым великим путешествиям последних столетий.
До сих пор мы в приемах добывания огня имели дело лишь с принципами трения и сверления; третьим приемом является пиление. В то время как сверла упомянутых типов распространены преимущественно на крайнем севере Старого и Нового света и лишь в виде исключения встречаются в южных широтах, – огнивная пила, напротив, в обоих известных видах встречается лишь в ограниченной области от Индии до Австралии. В типичной форме огнивная пила состоит из двух сегментов бамбука. Один служит подставкой и плотно прижимается жолобом к земле. Вдоль его килевой линии делается продольная зарубка, которая проникает сквозь стенку и служит для пропускания опилок. Под зарубкой и внутрь ее малаец (рис. 29) втискивает шарик мягкой сердцевины бамбукового стебля.

Рис. 29. Малайский способ добывания огня.
Теперь можно начать работу. Туземец приставляет поперек подставки свою пилу. Это – другая половина бамбукового стебля, которую он прижимает краем и размерно пилит им взад и вперед через продольный разрез подставки. Кремнезем коры и здесь дает известное количество тончайшего горячего порошка; последний скопляется в щелях, просыпается на шарик легко воспламеняющегося материала и зажигает его. Вместо бамбуковых сегментов австралиец пользуется в случае нужды и свалившимся полуистлевшим деревом, набивает его щели сухой травой и пилит через щель палкой совершенно таким же образом, как проделывает это малаец (рис. 30).

Рис. 30. Австралиец, добывающий огонь пилением. (По Бро Смису.)
Судя по описаниям, это огнивная пила – довольно совершенный инструмент.
Огнивная пила, устройство и способ употребления которой выяснены только в самое последнее время, распространена лишь в некоторых определенных округах Новой Гвинеи, где, впрочем, встречается и огнивный плуг. Австрийский этнограф д-р Пех, которому мы обязаны окончательным уяснением этого предмета, так описывает этот, без сомнения, древний, весьма простой, но и весьма остроумный способ. Когда поум – так называется племя, у которого Пех наблюдал этот способ – хочет добыть огонь, он отыскивает покрытый корой прут, приблизительно в метр длиною и пяти сантиметров толщины. Затем он расщепляет один конец палки, вгоняет в щель клин и таким образом несколько раздвигает половинки палки. Чтобы предупредить возможное раскалывание всей палки, он на некотором расстоянии от конца перевязывает ее лианой. Приготовленная таким образом палка в горизонтальном положении привязывается к столбу хижины так, что щель направлена перпендикулярно вперед. Когда это сделано, добывающий огонь свертывает шарик из куска сухого древесного луба и втискивает его в узкую часть щели. До сих пор, как видим, способ этот по существу вполне тождествен с огнивной пилой Индонезии. Но дальше начинается нечто иное. Для получения пилы Маценг, человек, сообщивший Пеху об этом способе, расплел один из своих многочисленных ротанговых браслетов на отдельные тяжи. Одну из этих лент, около метра длиною (рис. 31), Маценг взял за один конец, а его помощник, человек того же племени, за другой; они стали по обеим сторонам палки, протянули через нее поперек растительный шнур, как раз над шариком-трутом; Маценг произнес краткое заклинание, и затем оба стали попеременно тянуть шнур взад и вперед.

Рис. 31. Огнивная пила у поумов. (По Пеху.) А. Ротанговый браслет. В. Козлы.
В очень короткое время от места, которое пилилось, стал выделяться дым и ротанговая лиана лопнула: она перетерлась в одном месте. Кора огнивного обрубка тоже была протерта насквозь и даже на древесине заметна была черная борозда. Но шарик луба слегка тлел, и Маценг раздуванием усиливал огонь. Наконец он, истинный сын своего времени, закурил папиросу от тлеющего огня. Добывание огня, как полагает Пех, продолжалось менее минуты. Краткий промежуток, – но какие громадные периоды времени и какой прогресс человечества символизирует он: с одной стороны, древний способ, связанный с зачаточными проявлениями высшей человеческой духовной деятельности, с другой – папироса, кокетливое детище XX века, произведение утонченной машинной техники! Короче, здесь встретились в одном и том же месте и в один и тот же момент нижняя и верхняя граница всего нашего духовного развития. Мир, поистине, стал очень тесен…
Четвертым принципом является удар. Кремень и кусок стали – вот конец этого ряда развития, а два куска кремня, ударяемые друг о друга, сначала для забавы и полусознательно – начало его: то и другое дает искру. Как видим, это изобретение, – поскольку оно, вообще, является изобретением – мог сделать всякий, даже первобытнейший предок человека. Более существенным пунктом в данном случае является применение трута, – на нем-то большая часть человечества и потерпела неудачу. Если мы захотим быть искренними перед самими собою, то должны будем признаться, что для всех нас представляется удивительным столь ничтожное распространение ударного огнива: можно было ожидать встретить его повсюду. В действительности, мы находим его кое-где в Америке, на Огненной Земле, у техуэльчей, в древней Мексике, у алеутов и эскимосов. С появлением его у греков и у нас самих мы уже вступаем в области более высоких форм культуры.
К этим наиболее высоким завоеваниям культуры принадлежат, наконец, воздушное огниво и зажигательное стекло. Последнее знакомо нам еще со школьной скамьи, где нам приходилось слышать об Архимеде, которому даже удавалось зажигать таким образом удаленные предметы. Воздушное же огниво снова выдвинулось у нас на первый план с тех пор, как непопулярный налог на спички успел вызвать серьезное неудовольствие и даже гнев наших домашних хозяек. Воздушное огниво, обычное в восточной Индии и у даяков на Борнео, наряду с несколькими другими, описанными выше огнивами, представляет собою в сущности одно из многочисленных пневматических огнив, давно уже стремящихся войти во всеобщее употребление, – как насос Молле, нагнетательное огниво Дюмонтье и тахопирион. Снаряд этот (рис. 32) состоит из удобного для держания в руке куска дерева, внутри которого высверлена довольно правильно узкая цилиндрическая трубка. Снизу трубка наглухо закрыта. В ней ходит поршень с углублением на нижней части. В это углубление втискивается легковоспламеняющийся трут. Если теперь изо всей силы вдвинуть поршень в трубку, то сжатый воздух разогревается и зажигает трут.

Рис. 32. Воздушное огниво из юго-востока Азии и Борнео. А. Поршень. В. Нижний конец поршня. С. Трубка.
Так описывается в книгах. В Лейпцигском музее есть немало таких воздушных огнив; я перепробовал их все, – но ни одно из них не зажгло шарика трута.
Впрочем, причина неудачи могла заключаться во мне самом или в имевшихся у меня экземплярах снарядов.
Ответ на вопрос, каким образом человек дошел до всех этих приемов, сразу же готовит чрезвычайные трудности, едва только мы упустим из виду или далее отвергнем подробно изложенные нами доводы в пользу приоритета простого сохранения огня человеком. Для того, кто принимает противоположное, сразу же возникает обязанность указать, какие факты могли бы натолкнуть человека на целый ряд изобретений, для которых у него не было никаких предпосылок.
Тем не менее делались попытки ответить на этот вопрос, причем наличность необходимых предпосылок считалась доказанной. Первым предварительным условием, согласно этому взгляду, было изготовление орудий и оружия. То и другое первоначально делалось из дерева и камня, кости и рога; они, как предполагают, несмотря на весьма быструю дифференцировку, долгое время не выходят из круга этих материалов. Для обработки всех этих веществ необходимы разнообразные механические операции, – трение, скобление, сверление, пиление и удар, для того чтобы превратить их в предметы употребления, в наступательное и оборонительное оружие, необходимое человеку в борьбе за существование. При этой многократна изо дня в день повторяемой работе человек имел полную возможность сделать наблюдение, что при каждой из этих операций образуется тепло и что это тепло при усилении рабочего действия может возрасти до степени жара. Далее одни исследователи ссылаются на Пешелевского ледникового Прометея, который, опираясь на свои наблюдения, сознательно доводил этот жар, путем усиленной работы, до вспышки огня; более осторожные, напротив, предоставляют решающую роль случаю: согласно им, огонь появляется при одной из упомянутых операций трения, скобления, сверления, пиления и удара совершенно неожиданно, случайно, как следствие чрезмерного напряжения силы.
В противовес этим теориям Карл фон ден Штейнен в упомянутой ужа главе не раз цитированного описания своего путешествия указывает на неразрешимые трудности при объяснении того, откуда возникла мысль сверлить дерево деревом, – самый распространенный способ добывания огня. Когда, говорит он, наш предок просверливал дерево, то он делал это, без сомнения, с помощью зуба, кости или камня; если бы даже этих материалов не оказалось налицо, ему наверное не пришло бы в голову пробуравливать один кусок дерева другим, чтобы разъединить его на две части; он попросту разламывал, разрезал или раскалывал его или прибегал к связыванию, стягиванию или еще к какому-либо иному способу. Сверление оказалось бы самым трудным делом.
Таким путем мы, следовательно, не достигнем цели; для этого необходимо вступить на тот путь, который был проложен нами с самого начала. И здесь Карл фон ден Штейнен может быть для нас надежным путеводителем.
Человек обладал огнем, берег и усердно ухаживал за ним с вынужденной заботливостью, так как не умел производить его по желанию. Этот уход далеко не следует представлять себе делом очень легким, чем-то вроде детской забавы; напротив, мы увидим впоследствии, что эта новая обязанность коренным образом преобразовала весь социальный порядок юного человеческого рода. Мы увидим, что единственно лишь охранению этого беспомощного, недавно приобретенного «домашнего животного» мы, люди, обязаны нашим уютным домашним очагом, защищающей нас кровлей, семейным чувством, да и всей нашей оседлостью, короче – всем тем, что делает нам жизнь приятной и дорогой. Даже в пустынных, бедных дождями областях наступают моменты, когда тлеющему рассаднику огня угрожает опасность потухнуть. Эта опасность во всяком случае должна быть предотвращена, чего бы это ни стоило. Штейнен очень живо описывает, какого труда стоило его каравану, на обратном пути от источников Шингу до Куйабы, в дождливое время года поддерживать в горящем состоянии «экспедиционное полено», а еще более разводить поутру заново большой огонь. Его люди могли помочь делу только тем, что сдирали кору с мокрых хворостинок, вырезали ножом с внутренней стороны тонкие сухие стружечки и с большой осторожностью и терпением подкладывали их почти поодиночке к тлеющему углю. Кроме того, необходимо было еще непрерывно раздувать огонь, чтобы достичь желаемой цели. Совершенно таким же способом пользуются огнем, по словам Им Турна, и индейцы в Гвиане; относительно же североамериканских индейцев мы уже знаем, что для поддержания жизни их «домашнего животного» они пользовались особыми видами трута.