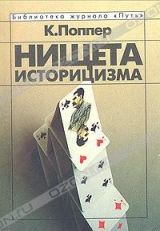
Текст книги "Нищета историцизма"
Автор книги: Карл Поппер
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
8. Интуитивное понимание
До сих пор речь шла об определенных характерных аспектах социальной жизни, таких, как новизна, сложность, органичность, холизм и периодичность, – об аспектах, которые, по мнению историцистов, делают определенные типичные методы физики неприменимыми к социальным наукам, Отсюда выводят, что социальные исследования требуют [применения] исторического метода. В число антинатуралистических воззрений историцизма входит и идея об интуитивном понимании истории различных социальных групп; порой этот взгляд развивают в методологическую концепцию, тесно связанную с историцизмом (хотя и не являющуюся его непременным спутником).
Согласно этой концепции, метод социальных наук (в противоположность методу естественных наук) состоит в понимании социальных явлений изнутри. В связи с этой концепцией обычно делают следующие противопоставления. Физика стремится к причинному объяснению, социология – к пониманию цели и смысла. В физике события объясняются строго, количественно, с помощью математических формул. Социология стремится постигать исторические события при помощи более качественных понятий, например выявляя конфликтующие тенденции и цели, или "национальный характер", или "дух времени". Вот почему физика оперирует индуктивными обобщениями, а социология прибегает к помощи симпатического воображения. По той же причине физика занимается универсально значимыми единообразиями и объясняет те или иные события как частные случаи таких единообразий, тогда как социология довольствуется интуитивным пониманием уникальных событий и той ролью, которую они играют в частных [ситуациях] борьбы интересов, в тенденциях и судьбах.
Можно различить три варианта концепции интуитивного понимания. Согласно первому, социальное событие понято, когда оно проанализировано с точки зрения вызвавших его сил, т. е. индивидов и групп, их целей или интересов, а также власти, которой они располагают. При этом считается, что действия индивидов или групп находятся в согласии с их целями и идут им на пользу – реальную или по крайней мере воображаемую. Метод социологии состоит в реконструкции при помощи воображения рациональных или иррациональных деятельностей, направленных к определенным целям.
Второй вариант идет дальше. Он согласен, что подобный анализ необходим – особенно для понимания индивидуальных или групповых деятельностей. Но для понимания социальной жизни он недостаточен. Чтобы понять смысл социального события, например, какого-то политического действия, недостаточно понять его телеологически, т. е. разобраться в том, как и почему оно произошло.
Прежде и помимо этом, мы должны понять его смысл, значимость его появления. Что имеется в виду под "смыслом" и "значимостью"? С точки зрения том, что я называю вторым вариантом, социальное событие не только оказывает воздействия определенного рода, оно не только приводит к другим событиям; само его возникновение изменяет ситуационную значимость ряда других событий. Новая ситуация требует переориентации и переинтерпретации всех объектов и действий, в нее вовлеченных.
Чтобы понять такое событие, как, скажем, создание в стране новой армии, необходимо проанализировать намерения, интересы и т. д. Но мы не можем полностью понять его смысл, не проанализировав его ситуационного значения (value). Скажем, до сей поры вооруженных сил страны было достаточно для обороны, а теперь они оказались неудовлетворительными. Изменилась вся в целом социальная ситуация, и даже до того, как произошли какие-либо фактические изменения – физические или даже психологические; ибо ситуация может измениться много раньше, чем это кто-либо заметит. Таким образом, чтобы понять социальную жизнь, мы должны выйти за пределы анализа фактических причин и следствий, т. е. вызванных действиями мотивов, интересов и реакций; нам следует понять каждое событие как часть целого. Значение события обусловлено тем, как оно влияет на целое, и поэтому частично определяется целым.
Третий вариант концепции интуитивного понимания включает в себя все, что содержат первые два варианта. Чтобы понять смысл или значение социального события, недостаточно проанализировать его генезис, последствия и ситуационное значение. Следует выявить объективные, лежащие в основе истории направления и тенденции (например, усиление или ослабление каких-то традиций или власти), превалирующие в данный период, и роль рассматриваемого события в историческом процессе, через который эти тенденции проявляются. Мы ничего не поймем в деле Дрейфуса, исследуя его причины, последствия и ситуационное значение, но оставляя без внимания то, что в нем проявилось соперничество двух исторических тенденций в развитии Французской республики: демократической и автократической, прогрессивной и реакционной.
Третий вариант метода интуитивного понимания, говорящий об исторических направлениях или тенденциях, является в какой-то степени заключением по аналогии, от одного исторического периода к другому. Ибо, хотя и признается, что исторические периоды существенно отличаются друг от друга и никакое событие [в рамках одного периода социального развития] не может повториться в рамках другого периода, допускается, что в различные периоды, порой очень удаленные друг от друга, могут доминировать аналогичные тенденции. Наличие таких сходств или аналогий отмечается, например, между Грецией до Александра и Южной Германией до Бисмарка. Согласно методу интуитивного понимания, мы оцениваем смысл тех или иных событий, сравнивая их с аналогичными событиями более ранних периодов, и тем самым облегчаем предсказание будущем, – никогда не забывая, впрочем, о неизбежных различиях между периодами.
Итак, метод, нацеленный на понимание смысла социальных событий, должен идти много дальше причинного объяснения. Он должен быть холическим и определять роль социального события в сложной структуре – в том целом, которое включает не только "современные" части? но и следующие друг за другом стадии временного развития. Третий вариант метода интуитивном понимания опирается на аналогии, существующие между организмом и группой, и оперирует такими идеями, как "сознание" или "дух" эпохи, полагая их источником и властелином исторических тенденций или направлений, которые столь важны для определения смысла социологических событий.
Метод интуитивного понимания согласуется не только с идеями холизма. Он хорошо согласуется и тем, что историцисты говорят о новизне; ибо новизну нельзя объяснить причинно или рационально, она постигается интуитивно. Обсуждая ниже пронатуралистические концепции историцизма, мы увидим, как тесно они связаны с "третьим вариантом" метода интуитивного понимания, с его историческими тенденциями или "направлениями". (См., например, раздел 16.)
9. Количественные методы
Одно в противоположностях и противопоставлениях, подчеркиваемых в связи с концепцией интуитивного понимания, повторяется особенно часто. В физике события объясняются строго и точно, с использованием количественных понятий и математических формул, – социология же пытается понять историческое развитие в качественных понятиях, например, через конфликтующие тенденции и цели.
Против применения количественных и математических методов выступают не только историцисты; собственно говоря, обличением этих методов занимаются даже авторы, придерживающиеся антиисторицистских взглядов. Но некоторые наиболее убедительные доводы, выдвигаемые против количественных и математических методов, хорошо обрисовывают точку зрения историцизма, поэтому и имеет смысл их здесь обсудить.
Когда мы встречаемся с возражениями против применения в социологии количественных и математических методов, на ум приходят факты их успешного использования в некоторых социальных науках. Как же в свете этого можно отрицать их применимость?
Приведем характерные для историцистов контрвозражения.
Вполне согласен, скажет историцист, с вашими замечаниями; но все же статистические методы социальных наук и количественно-математические методы физики весьма отличаются друг от друга. В социальных науках нет ничего, что можно было бы сравнить с математически сформулированными причинными законами физики.
Рассмотрим, к примеру, физический закон (для света с любой длиной волны): чем уже отверстие, через которое проходит световой луч, тем больше угол отклонения. Физический закон такого типа имеет форму: "При определенных условиях, если величина А изменяется определенным способом, то величина В также изменяется некоторым предсказуемым способом". В этом законе выражается зависимость одного измеримого количества от другом, причем сделано это в точных количественных понятиях. Физика успешно выражает в такой форме все свои законы. Чтобы достигнуть этого, она должна была представить физические качества в количественных понятиях. Например, необходимо было заменить качественное описание цвета, скажем яркого желто-зеленого, его количественным описанием как света определенной длины волны и определенной яркости. Количественное описание физических качеств – необходимая предпосылка количественной формулировки причинных физических законов. Это позволяет нам объяснить, почему что-либо происходит; например, если имеется закон, касающийся отношения между шириной отверстия и углом отклонения, мы можем дать причинное объяснение увеличению угла отклонения, приняв во внимание уменьшение величины отверстия.
Причинное объяснение, по мнению историциста, следует применить и в социальных науках. Например, империализм можно объяснить в терминах промышленной экспансии. Но даже из этого примера становится ясно, насколько безнадежны попытки выразить социологические законы в количественных понятиях. Возьмем такую формулировку, как "тенденция к территориальной экспансии возрастает с увеличением интенсивности индустриализации" (формулировку по крайней мере вразумительную, хотя, вероятно, и не являющуюся истинным описанием фактов), и мы обнаружим, что у нас нет метода измерения тенденции к экспансии или интенсивности индустриализации.
Подытоживая историцистские аргументы, направленные против количественно-математических методов, можно сказать, что задачу социолога историцисты видят в отыскании причинном объяснения исторических изменений с помощью таких социальных реальностей (entities), как, например, государство, экономическая система или форма правления. Поскольку не известно, как выражать качества этих реальностей в количественных понятиях, невозможно сформулировать и какие-либо количественные законы. Таким образом, причинные законы в социальных науках, если они вообще существуют, отличаются по своему характеру от соответствующих законов физики, будучи качественными, а не количественными и математическими.
Если социологические законы и определяют степень чего-либо, то используют при этом весьма неопределенные понятия и в лучшем случае дают очень грубую оценку (scaling).
Получается, что качества – физические или не-физические – можно оценить только интуитивно. Следовательно, это говорит в пользу метода интуитивного понимания.
10. Эссенциализм versus номинализм
Качественный характер социальных событий ставит проблему статуса понятий, обозначающих качества, иначе говоря – проблему универсалий, одну из древнейших и фундаментальнейших философских проблем.
Основная борьба вокруг этой проблемы велась в Средние века, а поставлена она еще у Платона и Аристотеля. Обычно она истолковывается как чисто метафизическая; но, подобно большинству метафизических проблем, ее можно переформулировать в проблему научного метода. Нас будет занимать здесь только эта методологическая сторона, что же касается метафизики, то ее мы рассмотрим лишь в качестве введения, своем рода кратком очерка.
Во всякой науке имеются понятия, называемые универсальными, такие, как "энергия", "скорость", "углерод","белизна","эволюция","справедливость", "государство", "человечество". Они отличаются от единичных или индивидуальных понятий, таких, как "Александр Великий", "Комета Галлея", "Первая мировая война". Это имена собственные, ярлыки, условно прикрепляемые к индивидуальным вещам, которые они обозначают.
Природа универсальных понятий обсуждалась долго и порой резко. Одна партия считала, что универсалии отличаются от имен собственных, будучи закреплены за членами множества или класса единичных вещей, а не за одной единичной вещью. Например, универсальное понятие "белый" – не более чем ярлык, прикрепленный к множеству самых разнообразных вещей – скажем, к снежинкам, скатертям или лебедям. Таково было учение номиналистической партии. Ему противостояло учение, традиционно называвшееся реализмом. Реалистическую теорию называли также идеалистической, поэтому "реализм" следует считать наименованием, которое вводило людей в заблуждение. Предлагаю поэтому переименовать эту антиноминалистическую теорию и называть ее эссенциализмом. Эссенциалисты отрицают, что вначале собирается группа из единичных вещей, а затем она обозначается словом "белые"; скорее, говорят они, мы называем каждую единичную белую вещь белой, имея в виду определенное присущее ей свойство, которое она разделяет с другими белыми вещами, а именно свойство белизны. Это свойство, обозначаемое универсальным понятием, является объектом, который заслуживает исследования в такой же степени, как и индивидуальные вещи.
(Реализмом же эту теорию называли потому, что универсальные объекты, например белизна, как утверждалось, "реально" существуют помимо и сверх единичных вещей, а также множеств и групп из единичных вещей.) Таким образом, универсальные понятия обозначают универсальные объекты, а единичные понятия обозначают индивидуальные вещи. Эти универсальные объекты (Платон называл их формами или идеями), обозначаемые универсальными понятиями, назывались также сущностями (essences).
Эссенциализм отличается не только тем, что верит в существование универсалий (т. е. универсальных объектов), он также подчеркивает их значимость для науки. У единичных объектов, указывает он, мною случайных черт, которые не представляют научном интереса. Приведем пример: экономика занимается проблемой денег и кредита, но ее ничуть не заботит форма монет, банкнот или чеков. Отбрасывая случайное, наука проникает в сущность вещей. А сущность чем бы то ни было всегда универсальна.
Последние замечания указывают на методологические следствия, вытекающие из этой метафизической проблемы. Методологический вопрос, по сути дела, не зависит от вопроса метафизического. Мы подойдем к нему, избегая вопроса о существовании и различии универсальных и типичных объектов.
Обсудим то, что относится к целям и средствам науки.
Школа методологического эссенциализма основана Аристотелем, который учил, что научное исследование должно проникать в сущность вещей.
Методологические эссенциалисты формулируют научные проблемы следующим образом: "что такое материя?", "что такое сила?", "что такое справедливость?" Ответ на эти вопросы, раскрывающий реальный, или сущностный, смысл терминов, а значит, реальную, или истинную, природу сущностей, которые они обозначают, является необходимой предпосылкой научного исследования, если не главной его задачей. Методологические номиналисты формулируют проблемы иначе: "как ведет себя данный кусочек материи?" или "как он движется в присутствии других тел?" С их точки зрения, задачей науки является описание того, как ведут себя вещи, и мы вольны вводить новые понятия там, где это выгодно, пренебрегая их первоначальным смыслом.
Ибо слова – всем лишь полезные инструменты описания.
По общему признанию, в естествознании методологический номинализм одержал победу. Физик не станет спрашивать о сущности атомов или света, для него эти понятия служат для объяснения и описания определенных физических наблюдений, а также как имена важных и сложных физических структур. В биологии дела обстоят точно так же.
Иногда от биологов требуют решения таких проблем, как "что такое жизнь?" или "что такое эволюция?", и они даже могут почувствовать склонность пойти навстречу этим требованиям философов. Однако в целом научная биология занимается другими проблемами и пользуется объяснительными и описательными методами, весьма сходными с физическими.
Таким образом, в социальных науках методологические натуралисты склонны к номинализму, а антинатуралисты – к зссенциализму. Но зссенциализм, по-видимому, одерживает победу; он даже не сталкивается со сколько-нибудь энергичной оппозицией. Считается, что если методы естественных наук носят фундаментально номиналистический характер, то социальная наука должна занять позицию методологического эссенциализма. Задача социальной науки – понять и объяснить такие социологические реальности (entities), как государство, экономическое действие, социальная группа и т. д., а это можно сделать, только проникая в их сущность. Всякая социологическая реальность предполагает для своего описания универсальные понятия, и нет никакой нужды вводить новые понятия, что с таким успехом делалось в естественных науках.
Задача социальной науки – описывать реальности ясно и правильно, т. е. различая существенное и случайное; но для этого необходимо знать их сущность. Такие проблемы, как-что такое государство?", "что такое гражданин?" (которые Аристотель считал основными проблемами своей "Политик"), или "что такое кредит?", или "в чем существенное различие между церковником и сектантом (или между церковью и сектой)?", – не просто законны, это именно те вопросы, на которые призваны отвечать социологические теории.
Историцисты относятся к метафизике, а также к методологии естествознания по-разному, однако ясно, что, если речь пойдет о методологии социальной науки, они будут выступать за зссенциализм и против номинализма. Такой позиции придерживаются почти все историцисты, которых я знаю. В чем тут дело? Только ли в общей антинатуралистической тенденции историцизма или в каких-то особых историцистских аргументах, которые выставляются в защиту методологического эссенциализма?
К ним, разумеется, относится аргумент, выдвигаемый против использования в социальной науке количественных методов. Идея качественного характера социальных событий и роли интуитивного понимания (а не просто описания) указывает на тесную связь с эссенциализмом.
Имеются и другие, более типичные для историцизма аргументы, следующие направлению мысли, которое уже знакомо читателю. (Это практически те же аргументы, которые, по мнению Аристотеля, привели Платона к его теории сущностей.)
Историцизм подчеркивает значимость изменения. Во всяком изменении есть то, что изменяется.
И даже если ничто не остается неизменным, мы все-таки должны определить, что же именно изменилось, чтобы можно было вообще говорить об изменении. В физике это достигается сравнительно легко. В механике, например, все изменения суть движения, т. е. изменения, происходящие с физическими телами в пространстве и времени. Социология, занимающаяся главным образом социальными институтами, сталкивается с большими трудностями, которые связаны с идентификацией институтов после того, как они претерпели изменение. В дескриптивном смысле социальный институт до изменения и после изменения нельзя считать тем же самым; с точки зрения описания он может оказаться совершенно другим. Например, описание современных правительственных учреждений в Великобритании обнаружит, что они очень отличаются от тех, что были четыре столетия назад. И все же мы можем сказать, что правительство остается в сущности одним и тем же, пусть даже оно изменяется.
Функция правительства в современном обществе по существу аналогична функции, которую оно выполняло прежде. И хотя черты его изменились, оно сохранило свою сущностную идентичность, что позволяет нам считать один институт измененной формой другого института: мы не можем говорить об изменении или развитии, не предполагая, что существует неизменная сущность, а значит, не рассуждая как методологические эссенциалисты.
Некоторые социологические понятия, такие, как депрессия, инфляция, дефляция и т. д., вводились чисто номиналистическим образом. Но им так и не удалось сохранить своего номиналистического характера. Изменяются условия, и социальные исследователи начинают обсуждать, следует ли считать некоторые феномены подлинной инфляцией или нет; таким образом, ради точности необходимо исследование сущностной природы (или сущностного смысла) инфляции.
О любой социальной реальности можно сказать, что она "может, если это касается ее сущности, находиться в любом другом месте и в любой другой форме, и она может, подобно этому, измениться, оставаясь при этом фактически неизменной, или может измениться мним образом, не так, как она действительно изменяется" (Гуссерль). Меру возможных изменений нельзя ограничить а priori.
Невозможно сказать, насколько социальная реальность может измениться, оставаясь при этом той же самой реальностью. Феномены, с одних точек зрении кажущиеся существенно различными, с других точек зрения кажутся существенно тождественными.
Из приведенных историцистских аргументов следует, что описание социальном развития невозможно; или даже что социологическое описание никогда не может носить "номиналистического" характера. А если социологическое описание не может обойтись без сущностей, то еще менее к этому способна теория социального развития. Ибо кто же будет отрицать, что такие проблемы, как определение и объяснение характерных черт социального периода, присущих ему напряжений и внутренних тенденций и направлений, не поддаются решению с помощью номиналистических методов?
Соответственно, в основу методологического эссенциализма может быть положен историцистский аргумент, который в свое время привел Платона к метафизическому эссенциализму, – Гераклитов тезис, что изменяющиеся вещи не поддаются рациональному описанию. Поэтому наука, или знание, предполагает нечто, что не изменяется, остается тождественным себе, – сущность. История, т. е. описание изменения, и сущность, т. е. то, что остается неизменным в [процессе] изменения, выступают здесь как соотносительные понятия. Эта соотносительность имеет еще одну сторону: ведь в каком-то смысле и сама сущность способна изменяться и тем самым может обладать историей. Если принцип вещи, остающийся тождественным или неизменным, когда сама вещь изменяется, и составляет ее сущность (идею, форму, природу, субстанцию), то изменения, которые происходят с вещью, высвечивают различные стороны, аспекты или возможности вещи, а следовательно, и ее сущности. Соответственно, сущность можно понимать как сумму или источник присущих вещи потенций, а изменения (или движения) – как реализацию или актуализацию скрытых потенций сущности. (Этой теорией мы обязаны Аристотелю.) Отсюда следует, что вещь, т. е. ее неизменную сущность, можно познать только через ее изменения.
Если, например, мы хотим узнать, не из золота ли сделана какая-то вещь, мы должны ее распилить или подвергнуть химическому анализу, тем самым вынуждая вещь к изменению и раскрывая какие-то из ее скрытых потенций. Точно так же сущность человека, его личность, познается только через его биографию. Применяя этот принцип к социологии, мы приходим к заключению, что сущность, или истинный характер, социальной группы может обнаружить себя только в своей истории. Но, если мы можем изучать социальные группы, только учитывая их историю, понятия, используемые для их описания, должны быть историческими понятиями; и действительно, такие социологические понятия, как японское государство, итальянская нация или арийская раса, трудно интерпретировать иначе, как понятия, в основе которых лежит изучение истории.
Это относится и к социальным классам: понятие буржуазии, например, можно определить только через ее историю; буржуазия – это класс, пришедший к власти в результате промышленной революции, победивший землевладельцев, борющийся с пролетариатом, а пролетариат с ним и т. д.
В пользу эссенциализма творит то, что благодаря ему мы видим тождественное в изменяющихся вещах; он также выдвигает сильные аргументы в поддержку концепции, согласно которой социальные науки должны применять исторический метод; иначе говоря – в поддержку историцизма.



![Книга Интегральная стратификация социологии методом рефлексии матахимии [(эвристика рефлексии метахимии в дизайне наукометрии)] автора Сергей Кутолин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-integralnaya-stratifikaciya-sociologii-metodom-refleksii-matahimii-evristika-refleksii-metahimii-v-dizayne-naukometrii-273518.jpg)



