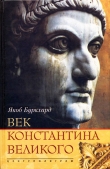Текст книги "Происхождение христианства"
Автор книги: Карл Каутский
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
А над этими миллионами несчастных из несчастных опять-таки возвышались сотни тысяч рабов, живших в роскоши и изобилии: постоянные свидетели и объекты самых диких и безумных оргий, соучастники всякой мыслимой скверны, они либо вырождались вместе со своими господами или еще скорее, чем их господа, – так как они сильнее испытывали на себе всю горечь постоянных наслаждений – проникались отвращением к этой жизни и еще более страстно тосковали по новой, чистой, высшей жизни.
И рядом с ними жили сотни тысяч свободных граждан и вольноотпущенных рабов, многочисленные нуждающиеся крестьяне, обнищавшие арендаторы, бедные городские ремесленники и носильщики, наконец, люмпен-пролетарии больших городов; исполненные силы и сознания свободных граждан, они экономически являлись лишними людьми в обществе, они не имели крова и вели необеспеченное существование, рассчитывая на крохи, которые – в силу ли страха или щедрости, в силу ли стремления к спокойствию – выбрасывались им оптиматами.
Когда Евангелие от Матфея вкладывает в уста Иисуса следующие слова: «лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8:20), то оно от лица Иисуса высказывает те же мысли, которые были выражены уже Тиберием Гракхом от имени всего пролетариата Рима еще в 130 г. до Р. X.: «дикие звери Италии имеют свои пещеры и пристанища, а люди, которые боролись и умирали за господство Италии, имеют только воздух и свет, которых никто не может у них отнять. Без крова и пристанища блуждают они с женами и детьми по всей стране».
Нищета и постоянная необеспеченность существования должны были тем больше озлоблять пролетариев, чем бесстыднее и нахальнее выставлялась на показ роскошь оптиматов. Зарождалась мрачная классовая ненависть бедняков к богачам, но она была совершенно другого рода, чем классовая ненависть современного пролетария.
На труде последнего покоится теперь все общество. Пролетариату достаточно приостановить свой труд, и все общество начинает колебаться в своих основах. Античный люмпен-пролетариат не выполнял никакой работы, и даже труд остатков свободных крестьян и ремесленников не являлся безусловно необходимым. Не общество жило тогда на счет пролетариата, а, наоборот, пролетариат на счет общества. Он был совершенно не нужен и мог исчезнуть без всякой опасности для общества. Напротив, он таким путем мог только доставить обществу облегчение. Основой, на которой покоилось общество, был труд рабов.
Борьба между капиталистом и пролетарием разыгрывается теперь на фабрике, в рабочей мастерской. Вопрос заключается в том, кто должен господствовать над производством: владельцы средств производства или владельцы рабочей силы. Это – борьба за способ производства, стремление поставить на место существующего способа производства новый, более совершенный.
Античный люмпен-пролетарий не стремился ни к чему подобному. Он вообще не работал, да и не хотел работать. Он требовал участия в наслаждениях богачей, он добивался другого распределения не средств производства, а средств наслаждения, грабежа богатых, а не изменения способа производства. Страдания рабов в горных рудниках и латифундиях трогали его так же мало, как и страдания вьючных животных. Еще меньше могло явиться стремление к высшему способу производства у крестьян и ремесленников. Они не стремятся к этому даже теперь. В лучшем случае они мечтали о реставрации старины. Приближаясь к люмпен-пролетариату, они ставили себе такие же цели. Они мечтали о беззаботной жизни на счет богачей, они стремились к коммунизму путем ограбления богачей.
Таким образом, в обществе времен Римской империи существовали огромные социальные противоречия, кипела классовая ненависть и классовая борьба, вспыхивали восстания и гражданские войны, имелось также беспредельное стремление к другой, лучшей жизни, к изменению существующего порядка, но не было никаких стремлений ввести новый, более совершенный способ производства.[29]29
В цитированном уже нами сочинении «Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus» Пельман бестолковым образом отож-дествляет классовую борьбу античного пролетариата, даже задолжавшихся аграриев, сложение долгов, грабежи и раздел земли между обездоленными с современным социализмом, чтобы доказать, что дик-татура пролетариата при всех условиях ведет только к поджогам и грабежам, убийствам и насилиям, разделу и пирам. Мудрость эрлангенского профессора – это все та же мудрость покойного Евгения Рихтера, приукрашенная бесчисленными греческими цитатами.
[Закрыть]
Для этого отсутствовали всякие нравственные и интеллектуальные условия; не было налицо класса, у которого было бы достаточно знаний, энергии, любви к труду, самоотвержения, чтобы развить в нем стремление к новому способу производства, но не было также и материальных предпосылок, необходимых для возникновения такой идеи.
Мы видели уже, что рабское хозяйство технически означало не прогресс, а регресс, что оно истощало не только господ и делало их непригодными к труду, но уменьшало также производительность производительных рабочих и задерживало дальнейшее развитие техники, за исключением разве некоторых производств предметов роскоши. Кто сравнивал новый способ производства на основе рабского труда с вытесняемым и разоряющимся свободным крестьянским хозяйством, тот замечал не подъем, а упадок. Так зарождалось воззрение, что старое время было лучше, что золотой век позади, что времена становятся все хуже. Если капиталистической эпохе с ее непрерывным стремлением к улучшению средств производства свойственно представление о беспредельном прогрессе человечества, если она даже склонна изображать прошлое в мрачных красках, а будущее в радужных, то в Риме времен Империи мы встречаем противоположный взгляд, представление о непрерывном регрессе человечества и постоянное стремление к доброму старому времени. Социальные реформы и социальные утопии того времени, поскольку они стремятся к оздоровлению общественных условий, ставят себе целью восстановление старого способа производства, свободного крестьянского хозяйства, и вполне правильно, так как последний способ производства был технически выше, чем господствующий. Рабский труд заводил в тупик. Общество должно было быть опять поставлено на основу крестьянского хозяйства, чтобы оно могло вновь начать свое восходящее движение. Но римское общество не в состоянии было сделать даже этого, потому что оно лишилось необходимых для этого крестьян. Необходимо было сначала, чтобы во время великого переселения народов многочисленные племена свободных крестьян наводнили всю Римскую империю, прежде чем остатки созданной ею культуры могли образовать основу нового общественного развития.
Как всякий способ производства, основанный на классовых противоположностях, античное рабское хозяйство само рыло себе могилу. В той форме, которую оно приняло в конце концов в Римской империи, оно было основано на войне. Только непрерывные победоносные войны, непрерывное покорение новых народов, непрерывное расширение границ империи могли доставлять массами дешевую рабскую силу, в которой оно нуждалось.
Но нельзя вести войну без солдат, а лучший материал для солдат доставляло крестьянство. Привыкший к постоянному тяжелому труду на воздухе, в зной и холод, под солнечными лучами и дождем, крестьянин лучше всех переносил тяготы и невзгоды, возлагаемые войной на солдат. Городской люмпен-пролетарий, отвыкший от труда, даже ремесленник, ткач, или ювелир, или резчик годились для солдатской службы в гораздо меньшей степени. Вместе со свободными крестьянами римская армия теряла и солдат. Все чаще являлась необходимость дополнять число обязанных службой милиционеров навербованными волонтерами, профессиональными солдатами, которые служили сверх обычного срока службы. Очень скоро не хватило бы и этих, если бы желали ограничиться одними только римскими гражданами. Уже Тиберий заявил в сенате, что в хороших волонтерах чувствуется недостаток, что приходится принимать бродяг и всякую сволочь. Все многочисленнее становились в римском войске варвары-наемники из покоренных провинций, и, наконец, для заполнения рядов пришлось прибегнуть к вербовке иностранцев, врагов империи. Уже при Цезаре мы находим в римских войсках германцев.
Но чем меньше армия рекрутировалась из среды господствующей нации, чем реже и дороже становились солдаты, тем больше возрастало миролюбие Рима – не вследствие переворота в этических воззрениях, а в силу очень материальных соображений. Он должен был щадить своих солдат и не мог уже больше расширять границ империи. Рим доволен был уже, когда находил достаточно солдат, чтобы охранять имевшиеся границы. Именно при Тиберий, в эпоху, к которой относят жизнь Иисуса, римская наступательная политика останавливается в своем развитии. Римская империя начинает тогда больше обороняться от врагов, теснящих ее со всех сторон. Этот натиск усиливается с тех пор и потому еще, что в римских войсках увеличивается и контингент иностранцев, в особенности германцев. Соседние варвары, таким образом, все больше знакомятся с богатствами и военным искусством Рима, но вместе с тем и с его слабостью, и тем сильнее пробуждалось в них желание вступить в империю не в качестве наемников и слуг, а в качестве завоевателей и господ. Вместо того чтобы, как в старое время, охотиться на варваров, властители Рима должны теперь отступать перед ними или покупать у них мир. Так уже в первом столетии нашей эры быстро начал прекращаться приток дешевых рабов. Все больше и больше являлась необходимость переходить к разведению рабов.
Но это было очень дорогое предприятие. Разведение рабов оплачивалось только в том случае, когда речь шла о домашних рабах высшего разряда, выполнявших квалифицированный труд. Вести с такими рабами хозяйство на латифундиях не было никакой возможности. Применение рабов в сельском хозяйстве прекратилось во втором столетии нашей эры. Начало регрессировать также и горное дело, многочисленные рудники перестали приносить прибыль, как только прекратился приток военнопленных рабов, которых не было необходимости щадить.
Но упадок рабского хозяйства не привел еще к новому расцвету крестьянства. Для этого не хватало крестьян, и этому мешала также частная собственность на землю. Владельцы латифундий не имели никакого желания отказаться от них. Они только уменьшали свои предприятия. Часть земли они превратили в маленькие арендные участки, которые они сдавали арендаторам, колонам, с условием, чтобы последние посвящали часть своего рабочего времени работе в поместье. Так возникла система обработки земли, к которой в феодальную эпоху все снова и снова прибегали крупные землевладельцы, пока капитализм не вытеснил ее при помощи капиталистической арендной системы.
Рабочая сила, из которой рекрутировались колоны, доставлялась отчасти сельскими рабами, отчасти пролетариями, ремесленниками и рабами больших городов, не находившими там больше пропитания с тех пор, как Доходы, получаемые от рабского хозяйства в земледелии и горном деле, значительно уменьшились, а потому щедрость и расточительность богачей значительно сократились. Позже к ним могли присоединиться жители пограничных провинций, которые покидали свои насиженные места вследствие вторжения варваров, и бежали внутрь империи, где они искали средств к жизни, как колоны.
Но этот новый способ производства не мог задержать экономического упадка, вызванного прекращением притока рабов. Технически он также стоял ниже крестьянского и являлся препятствием для дальнейшего технического развития. Работа, которую арендатор должен был выполнять на господском дворе, оставалась обязательной работой со всеми ее особенностями; она совершалась так же неохотно и лениво, с той же самой небрежностью по отношению к скоту и орудиям, как и рабский труд. Правда, арендатор имел при этом еще собственное хозяйство, но оно было так ничтожно, что у него едва хватало средств на поддержание жизни. Арендная плата, выплачиваемая натурой, была определена в таких размерах, что колон отдавал – за покрытием необходимых потребностей – почти весь продукт своему господину. Нищету колонов можно сравнить с нищетой мелких арендаторов Ирландии или Южной Италии, где продолжает существовать такая система производства. Но для населения земледельческих местностей настоящего времени остается еще возможность выселения в страны с процветающей промышленностью. Колоны Римской империи не имели этого выхода. Промышленность тогда только в очень незначительной степени занималась производством средств производства, главным же образом она производила предметы роскоши. Вместе с уменьшением прибавочного продукта, получавшегося владельцами горных рудников и латифундий, регрессировала и промышленность в городах, население которых быстро уменьшалось.
Но одновременно с этим уменьшалось и сельское население. Мелкие арендаторы не могли содержать больших семей. Доходов от их участков даже в нормальное время едва хватало, чтобы прокормить их самих. Неурожаи находили их без всяких запасов хлеба или денег, чтобы купить все необходимое. В таких случаях нужда и голод особенно сильно свирепствовали и разрежали ряды колонов, особенно их детей. Точно так же как в течение последнего столетия уменьшалось постоянно население Ирландии, так уменьшалось и население Римской империи.
«Вполне понятно, – говорит Гартман, – что экономические причины, которые вызвали уменьшение народонаселения во всей Римской империи, больше всего давали себя чувствовать в Италии, и в особенности сильно в Риме. Мы можем принять, что при Августе Рим имел около миллиона жителей и сохранял это число в течение первого столетия после Р. X. Затем, в эпоху Северов, число это уменьшилось до 600 000 и позднее упало в еще более сильной степени».
В своей прекрасной работе «Экономическое развитие древнего мира» (1895 г.) Эдуард Мейер дает в особом приложении картину отношений, сложившихся в одном маленьком городе на Эвбее, картину, набросанную Дионом Хризостомом (родился в 50 г. после Р. X.) в его седьмой речи. Обезлюдение империи изображается там в ярких красках:
«Вся окрестность представляет городскую область, в податном отношении подчиненную городу. Вся земля находится почти исключительно во владении богатых людей, которым принадлежат обширные имения, состоящие из пахот и лугов. Но все это совершенно запущено. "Почти две трети нашей области, – говорил один гражданин на народном собрании, – не обрабатывается, потому что мы мало заботимся об этом и имеем слишком мало народа. Я сам имею столько же моргенов, как и любой землевладелец, не только в горах, но и на равнине, и если бы я нашел кого-нибудь, кто обрабатывал бы мою землю, я не только отдал бы ее даром, но и с удовольствием приплатил бы ему деньгами. Теперь запустение начинается прямо у городских ворот, земля совершенно запустела и являет такое печальное зрелище, как будто она расположена в глубине пустыни, а не у ворот города. Напротив, внутри стен городская земля большей частью засевается и запускается под луг. Гимназию превратили в пахотную землю, так что Геркулес и другие статуи богов и героев летом скрываются в колосьях, а на рынке тот самый оратор, который говорил до меня, пасет свой скот. Такое же зрелище можно видеть около всех общественных учреждений, и иностранцы, приезжающие к нам, смеются над городом или сожалеют его.
В соответствии с этим в городе пустуют многие дома, а население явственно уменьшается. У кафарских скал живет несколько рыбаков, кругом же на далекое пространство нет ни одной души. Когда-то вся земля принадлежала богатому гражданину, который владел стадами лошадей и рогатого скота, многими лугами, прекрасными полями и всякого рода другим имуществом. Из-за его богатства он по приказанию императора был убит, стада были угнаны, в том числе и скот, принадлежавший его пастуху, и с тех пор вся земля остается без обработки. Только два пастуха, свободные люди и граждане города, остались и кормятся теперь охотой, занимаясь еще немного обработкой земли и садоводством…"
Условия, которые рисует здесь Дион – а та же картина встречается в Греции повсюду уже в самом начале императорского периода, – являются теми же самыми, которые в течение ближайших столетий развились в Риме и его окрестностях и до сих пор еще накладывают свою печать на Кампанию. И тут дошло наконец до того, что города совершенно исчезали, а земля на далекое пространство лежала без обработки и служила только для пастьбы скота (в некоторых местностях на склонах гор для виноделия), пока наконец обезлюдел сам Рим, пустовавшие дома обваливались, как и общественные постройки, а на форуме и Капитолии паслись стада. Такие же условия начали развиваться в нашем (девятнадцатом) столетии в Ирландии и бросаются в глаза всякому, кто приезжает в Дублин или путешествует по Ирландии.
Одновременно с этим понижалось и плодородие почвы. Стойловое кормление скота было мало развито, и оно должно было еще больше уменьшиться при рабском хозяйстве, потому что последнее обусловливало грубое обращение со скотом. А без стойлового кормления нельзя получить навоз. Без сильного удобрения и интенсивной обработки у почвы отнимали как раз то, что она должна была давать. Только на лучших землях такая культура приносила выгодные урожаи. Но число таких земель становилось тем меньше, чем старее была культура, чем больше высасывалась почва.
Нечто аналогичное мы видели еще в девятнадцатом столетии в Америке, где, при господстве рабского хозяйства в южных штатах, земля также не удобрялась и быстро истощалась, так что применение рабского труда было прибыльно только на лучших землях. Рабское хозяйство могло там держаться только тем, что оно все больше передвигалось на запад и захватывало все новые земли, оставляя за собой истощенные и запустелые поля. То же самое мы встречаем и в Римской империи, в этом заключается одна из причин постоянного земельного голода ее властителей и их стремления добывать путем войны новые земли. Уже в начале императорской эпохи Южная Италия, Сицилия, Греция почти совершенно запустели.
Истощение почвы и растущий недостаток в рабочей силе, а кроме того, и нерациональное применение их – все это не могло не привести к постоянному уменьшению продукта почвы.
Одновременно с этим уменьшились и средства страны для покупки жизненных припасов за границей, запасы золота и серебра истощались, потому что, как мы уже видели, рудники, вследствие недостатка в рабочей силе, становились непроизводительными. А из имевшихся запасов золота и серебра все большая часть уходила за границу – частью в Индию и Аравию на покупку предметов роскоши для оставшихся еще богачей, главным же образом для уплаты соседним варварским племенам. Мы видели уже, что солдаты все больше рекрутировались из среды варваров. Все больше увеличивалось число тех из них, которые свое жалованье или остаток его по истечении срока службы уносили с собой за границу. Чем больше уменьшалось военное могущество империи, тем больше старались утихомирить этих опасных соседей, а эта цель лучше всего достигалась уплатой богатой дани. Если это не удавалось, то варвары очень часто вторгались в пределы империи, чтобы производить грабежи. Это также лишало империю части ее богатств.
Последние остатки этих богатств были растрачены в усилиях спасти их. Чем больше падала военная готовность жителей империи, чем реже вступали они в ряды войска, чем больше увеличивалось число иностранцев в нем, чем сильнее становился натиск враждебных народов, следовательно, чем сильнее возрастал спрос на наемников одновременно с уменьшением их предложения, тем выше становилась плата, которую приходилось платить им. «Со времени Цезаря она составляла ежегодно 225 динариев (196 марок), и, кроме того, каждый воин ежемесячно получал 2/3 медимна (медимн – 54 литра) зерна, т. е. четыре модия, а позднее даже пять модиев. Раб, который питался только хлебом, получал ежемесячно столько же. При умеренности жителей южных стран хлебом можно было удовлетворить большинство потребностей. Домициан повысил плату до 300 динариев (261 марка). При позднейших императорах военным выдавалось безвозмездно и оружие. Септимий Север и позже Каракалла повысили еще больше жалованье».
При этом покупательная сила денег была тогда гораздо выше, чем теперь. Так, Сенека во времена Нерона думал, что философ может прожить на полсестерция (11 пфеннигов) в день. 40 литров вина стоили 25 пфеннигов, ягненок – от 40 до 50 пфеннигов, овца – 1,5 марки. «Мы видим, – пишет Эрнст, – что при таких ценах жалованье римского легионера было очень велико. Кроме того, он, при вступлении на престол нового императора, получал подарки, а в такое время, когда чуть не каждые два месяца солдатами выставлялся новый император, это составляло немалый доход. По окончании срока службы легионер получал увольнительный дар, составлявший во времена Августа 3000 динариев (2600 марок). Калигула уменьшил его наполовину, но Каракалла опять повысил его до 5000 динариев (4350 марок)».
К тому же и контингент постоянной армии должен был увеличиваться по мере того, как со всех сторон умножались нападения на границы империи. Уже во времена Августа он составлял 300 000 человек, а позже – вдвое больше.
Это колоссальные цифры, особенно если мы вспомним, что, соответственно тогдашнему состоянию сельского хозяйства, население империи было очень редко и прибавочный продукт, доставляемый его трудом, был невелик. По данным Белоха, население всей Римской империи, которая была в четыре раза обширнее современной Германии, составляло в эпоху Августа около 55 миллионов. Италия, которая одна теперь имеет 33 миллиона, тогда насчитывала едва 6 миллионов. И эти 55 миллионов, при их примитивной технике, должны были содержать армию такую же большую, как и та, которая составляет гнетущее бремя для современной Германской империи, несмотря на огромный технический прогресс, – армию навербованных наемников, которые оплачивались несравненно лучше, чем современные немецкие солдаты.
И в то время как население уменьшалось и беднело, бремя милитаризма росло все больше и больше.
Это объясняется двумя причинами, которые завершали экономическую катастрофу.
На обязанности государства тогда лежали главным образом две задачи: военное дело и строительная часть. Если государство хотело увеличить расходы на первое, не повышая при этом налогов, оно должно было запустить вторую. Так это и случилось. В эпоху богатства и больших избытков труда многочисленных рабов было богато также и государство: оно было в состоянии тогда возводить большие постройки, которые служили не только для роскоши, религии и гигиены, но имели также большое значение и для экономической жизни. При помощи огромных масс человеческого материала, которыми распоряжалось государство, оно могло воздвигать не только колоссальные постройки, теперь еще вызывающие наше удивление: храмы и дворцы, водопроводы и клоаки, но и устроить сеть великолепных дорог, которые связывали Рим с самыми отдаленными уголками империи и представляли могучее средство экономического и политического объединения и международных сношений. Кроме проведения этих дорог оно предпринимало целый ряд оросительных и осушительных работ. Постройка и содержание различных сооружений для осушения понтийских болот были предметом постоянной заботы властителей Рима. Все эти сооружения совершенно исчезли, так что теперь еще вся область болот и их окрестностей представляет собой бесплодную пустыню.
С ослаблением финансовой силы империи ее властители скорее соглашались отказаться от поддержки этих сооружений, чем ограничить расходы на милитаризм. Колоссальные постройки превратились в колоссальные руины, которые исчезали все быстрее потому, что при увеличивающемся недостатке в рабочей силе строители предпочитали доставать материал для всяких новых построек путем ломки старых зданий, вместо того чтобы добывать его из каменоломен. Этот метод принес больше вреда античным произведениям искусства, чем все опустошения вандалов и других варваров. По этому поводу Гиббон замечает: «Зритель, бросающий печальный взгляд на руины старого Рима, невольно поддается искушению и посылает проклятие по адресу готов и вандалов за то дело разрушения, для которого у них не было ни силы, ни даже желания. Военная гроза могла снести несколько высоких зданий, но разрушение, которое подкопало основы всех этих грандиозных построек, шло медленным и постоянным шагом в течение десяти столетий… Памятники консульского или императорского величия не служили уже больше предметом почитания как бессмертная слава великого города, на них смотрели как на неисчерпаемый запас камней, которые было легче и дешевле доставить, чем камни из отдаленных каменоломен».
Но не только произведения искусства подверглись разрушению. Та же судьба постигла и все публичные сооружения, служившие экономической жизни или гигиеническим целям: дороги и водопроводы. Это разрушение, само являвшееся следствием всеобщего экономического упадка, в свою очередь, также способствовало его ускорению. Военные тяготы, несмотря на все это, продолжали расти, они становились все более невыносимыми и должны были окончательно довершить этот процесс разрушения. Общественные повинности – натуральные подати, личные повинности, денежные налоги – оставались без изменения или увеличивались, тогда как население и богатство уменьшались. На отдельного гражданина наваливалось все более тяжкое государственное бремя. Каждый старался свалить его на более слабые плечи. Труднее всего приходилось несчастным колонам: печальное положение их становилось отчаянным, как об этом свидетельствуют многочисленные бунты, например, восстание багаудов, галльских колонов, которые в первый раз восстали при Диоклетиане, в 285 г. после Р. X., но после первых успехов были побеждены. Но еще в течение целого столетия непрерывные бунты указывали на степень их нищеты.
В то же время падали все ниже и другие классы населения, хотя и не в такой степени, как колоны. Фиск отнимал все, что мог найти, варвары не могли грабить хуже, чем государство. Общество охвачено было процессом всеобщего разложения, и все ярче проступали нежелание и неспособность отдельных его членов делать даже крайне необходимое для общества и друг для друга. То, что прежде регулировалось обычаем и экономической нуждой, теперь вынуждалось властью государства. Со времени Диоклетиана число этих принудительных законов увеличивается. Одни из них прикрепляли колона к земле и превращали его в крепостного, другие обязывали землевладельцев принимать участие в городской администрации, обязанности которой сводились главным образом к взиманию налогов для государства, или вынуждали ремесленников объединяться в принудительные союзы и доставлять свои услуги и товары по установленным ценам. А вместе со всем этим росла и увеличивалась правительственная бюрократия, которая должна была блюсти исполнение всех этих законов.
Бюрократия и армия, одним словом государственная власть, становились, таким образом, во враждебное положение не только по отношению к эксплуатируемым, но и к эксплуатирующим классам. Даже для последних государство все больше превращалось из учреждения, охраняющего и доставляющего выгоды, в учреждение, занимавшееся грабежом и опустошением. Вражда к государству… росла с каждым днем; даже на владычество варваров смотрели как на избавление, именно к ним, свободным крестьянам, все больше бежало население пограничных областей; в них в конце концов начинали видеть спасителей, избавителей от господствовавшего общественного и государственного порядка, и принимали их с открытыми объятиями.
Вот что писал об этом христианский писатель умиравшей Римской империи Сальвиан в своей книге «De guber-natione dei»:
«Большая часть Галлии и Испании перешла в руки готов, и живущие там римляне имеют только одно желание – не стать опять римскими гражданами. Я удивлялся бы тому, что не все бедняки и нуждающиеся бежали туда, если бы я не знал, что они не хотят бросить свой скарб и семью. А мы, римляне, еще удивляемся, что не можем победить готов, когда мы сами охотнее живем среди них, чем у нас дома».
Переселение народов, наводнение Римской империи полчищами грубых германцев вовсе не являлось преждевременным разрушением цветущей высокой культуры, оно представляло, наоборот, заключительный фазис процесса разложения умирающей культуры и начало нового культурного подъема, который, правда, в течение целого ряда столетий совершался очень медленно и неуверенно.
В течение четырех столетий, от основания римской императорской власти Августом и до великого переселения народов, создавалось христианство: в то самое время, которое начинается кульминационным пунктом блестящего развития, достигнутого античным миром, колоссальной и опьяняющей концентрацией богатства и могущества в немногих руках, величайшей нищетой рабов, разоряющихся крестьян, ремесленников и люмпен-пролетариев, в то самое время, которое начинается крайне резкой противоположностью классов и мрачной классовой ненавистью и кончается полным обеднением и отчаянием всего общества.
Все это наложило свою печать на христианство, все это оставило на нем свои следы.
Но оно несет на себе еще следы других влияний, возникших из политической и общественной жизни, развившейся на почве изображенного выше способа производства и еще более усиливавшей его действие.