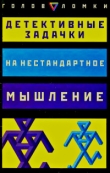Текст книги "Психологические типы"
Автор книги: Карл Юнг
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Важным мне кажется замечание Джордана о том, что удовольствие интроверта отличается самопроизвольностью (genuin). Кажется, что это вообще есть отличительная черта интровертного чувства: оно именно самопроизвольно, оно существует потому, что возникает из себя самого, оно коренится в глубинах человеческой природы, оно, как своя собственная цель, рождается как бы из себя самого; оно не хочет служить какой-нибудь иной цели и не отдается ей; оно довольствуется тем, что осуществляет себя само. Это находится в связи с самопочинностью архаических и естественных явлений, еще не подчинившихся целесообразным заданиям цивилизации. По праву или без права, во всяком случае не считаясь ни с каким правом и ни с какой целесообразностью, аффективное состояние проявляет себя, навязываясь субъекту даже помимо его воли и против его ожиданий. В нем нет ничего, что давало бы право допустить предумышленную мотивацию.
Я не хотел бы входить здесь в обсуждение последующих глав книги Джордана. Он ссылается в виде примера на ряд исторических личностей, причем не раз обнаруживаются неверные точки зрения, основанные на упомянутой уже ошибке, а именно на том, что автор вносит критерий активности и пассивности и смешивает его с другими критериями. Эта часть ведет к тому заключению, что активная личность причисляется и к бесстрастному типу и, наоборот, что страстная натура всегда обречена на пассивность. Я пытаюсь избежать такой ошибки тем, что вообще исключаю момент активности как особое мерило.
Но Джордану принадлежит та заслуга, что он был первым (насколько мне известно), кто дал сравнительно верную характеристику эмоциональных типов.
V. Проблема типов в поэзии. Прометей и Эпиметей Карла Шпиттелера
1. Предварительные замечания о типизировании Шпиттелера
Если бы наряду с упреками, которые навлекают на поэта чрезмерные сложности аффективной жизни, не привлекала бы к себе внимания и проблема типов, то это было бы почти доказательством того, что такой проблемы вовсе не существует. Однако мы уже видели, как страстно в Шиллере отзывался на эту проблему и поэт, и мыслитель. В настоящей главе мы займемся поэтическим произведением, построенным почти исключительно на проблеме типов. Я имею в виду «Прометея и Эпиметея» Карла Шпиттелера, произведение, вышедшее в свет в 1881 году.
Я совсем не хочу объявлять с самого начала, будто Прометей, обдумывающий заранее, является интровертом, а Эпиметей, действующий и потом обдумывающий, – экстравертом. Конфликт этих двух образов представляет собою, прежде всего, борьбу между интровертным и экстравертным способами развития в одном и том же индивиде; но поэтическое произведение воплощает эти два пути в двух самостоятельных фигурах и их типических судьбах.
Не подлежит сомнению, что Прометей являет черты, свойственные интровертному характеру. Он представляет собой образ интровертного человека, верного своему внутреннему миру, своей душе. Он метко выражает свою сущность следующими словами, возражая ангелу /43– S.9/: «Не мне, однако, надлежит судить об облике моей души; смотри, она есть госпожа моя, она – мой бог и в радости, и в горе; и чем бы ни был я – я всем ей обязан дару. И вот хочу я мою славу с ней делить, а если нужно, то я согласен и совсем лишиться славы».
Тем самым Прометей беззаветно предается своей душе, то есть функции, творящей отношение к внутреннему миру. Вот почему душа его имеет таинственный метафизический характер именно благодаря отношению к бессознательному. Прометей придает ей абсолютное значение как госпоже и водительнице, подчиняясь ей так же безусловно, как Эпиметей отдает себя миру. Он приносит свое индивидуальное эго в жертву душе, отношению к бессознательному, тому материнскому лону, в котором таятся вечные образы и символы; через это он лишается самости, ибо теряет то, что составляет противовес личности (persona) /44– T.XVI; 19– «персона»/, то есть отношение к внешнему объекту. Всецело предавшись своей душе, Прометей становится вне всякой связи с окружающим его миром и тем утрачивает необходимую корректуру, идущую от внешней реальности. Однако такая утрата плохо согласуется с сущностью этого мира. Поэтому Прометею является ангел, – очевидно, представитель мировой власти, или, в психологических терминах, проецированный образ тенденции, направленной на приспособление к действительности. Согласно этому, ангел говорит Прометею: «Так и случится, если ты не будешь в силах освободиться от нечестивости твоей души: утратишь ты великую награду за много лет и счастье сердца твоего и все плоды многообразия духа твоего» – и дальше: «В день славы будешь ты отвержен из-за твоей души, не признающей Бога, не уважающей закона, – для ее гордыни нет ничего святого, ни на небе, ни на земле».
Так как Прометей односторонне стоит на стороне души, то все тенденции приспособления к внешнему миру подпадают вытеснению и повергаются в бессознательное. Поэтому когда эти тенденции воспринимаются, то они являются как бы не принадлежащими к собственной личности, а потому проецированными. В некотором противоречии с этим оказывается то, что и душа является проецированной, хотя Прометей и встал на ее сторону, и, так сказать, всецело воспринял ее в сознание. Ввиду того что душа, как и «личность» (Persona), есть функция отношения, она состоит как бы из двух частей – одной, принадлежащей к индивиду, и другой, причастной объекту отношения, в данном случае бессознательному. Правда, – за исключением, конечно, последовательной философии Гартмана, – люди в общем склонны признавать, что бессознательному свойственно лишь относительное существование психологического фактора. И вот, по теоретико-познавательным основаниям, мы совершенно не можем высказать что-нибудь достоверное об объективной реальности того психологического комплекса явлений, который мы обозначаем термином бессознательного, точно так же как мы не можем установить что-нибудь достоверное о сущности реальных вещей, лежащих по ту сторону наших психологических способностей. Однако на основании опыта я должен отметить, что содержания бессознательного своей настойчивостью и упорством притязают по отношению к действительности нашего сознания на такую же действительность, как и реальные вещи внешнего мира, хотя уму, направленному преимущественно на внешнее, такое притязание покажется весьма несостоятельным. Не следует забывать, что всегда было очень много людей, для которых содержания бессознательного были более действительными, чем вещи внешнего мира. История человеческого духа свидетельствует в пользу обеих действительностей. В самом деле, более глубокое исследование человеческой психики сразу обнаруживает, что в общем обе стороны влияют одинаково на деятельность нашего сознания, так что психологически мы, по чисто эмпирическим основаниям, имеем право считать содержания бессознательного столь же действительными, как и вещи внешнего мира, хотя обе эти реальности и противоречат друг другу и, по своему существу, кажутся совершенно различными. Но ставить одну реальность выше другой было бы с нашей стороны ничем не оправданной нескромностью. Теософия и спиритуализм являются столь же насильственными преувеличениями, как и материализм. Конечно, нам приходится довольствоваться сферой наших психологических способностей.
Благодаря своеобразной действительности бессознательных содержаний мы можем считать их объектами с тем же основанием, с каким мы принимаем за объекты вещи внешнего мира. И вот, подобно тому как личность (Persona) в качестве отношения всегда обусловлена также и внешним объектом и потому настолько же держится внешним объектом, насколько и субъектом, – подобно этому и душа в качестве отношения к внутреннему объекту имеет во внутреннем объекте своего представителя и потому всегда оказывается в известном смысле еще и отличною от субъекта, вследствие чего и может восприниматься как нечто отличное от него. Вот почему душа представляется Прометею как нечто совершенно отличное от его индивидуального эго. Даже тогда, когда человек всецело отдает себя внешнему миру, этот мир все-таки еще является объектом, отличным от него; подобно этому и бессознательный мир выступает в качестве объекта, отличного от субъекта, даже и тогда, когда человек всецело отдается ему. Подобно тому как бессознательный мир мифологических образов косвенно, через переживания, вызываемые внешней вещью, говорит тому, кто всецело отдается внешнему миру, так и реальный внешний мир и его требования косвенно говорят тому, кто всецело отдался душе: ибо никому не дано избежать этих двух действительностей. Если кто-нибудь всецело уходит вовне, то ему приходится изживать свой миф; если же он уходит вовнутрь, то ему приходится превращать в сновидение свою внешнюю, так называемую реальную жизнь. Так, душа говорит Прометею: «Я – преступления бог, тебя ведущий стороною, по непроложенным тропам. Но ты не слушал, и теперь с тобою свершилось по слову моему: и вот, они украли у тебя и славу имени, и счастье твоей жизни, – и все ради меня». /43– S. 24/
Прометей отклоняет царство, которое предлагает ему ангел, то есть он отвергает приспособление к данности, потому что за это требуют его душу. В то время как Субъект, именно Прометей, имеет вполне человеческую природу, душа его совершенно другого свойства. Она – демонична, потому что сквозь нее просвечивает внутренний объект, с которым она, в качестве отношения, связана, а именно сверхличное, коллективное бессознательное. Бессознательное, как историческая подпочва психики, содержит в себе в концентрированной форме весь последовательный ряд отпечатков, обусловливавший с неизмеримо давних времен современную психическую структуру. Эти отпечатки суть не что иное, как следы функций, показывающие, каким образом психика человека чаще всего и интенсивнее всего в среднем функционировала. Эти отпечатки функций представляются в виде мифологических мотивов и образов, которые встречаются у всех народов, являясь отчасти тождественными, отчасти очень похожими друг на друга; их можно проследить без труда и в бессознательных материалах современного человека. Поэтому понятно, что среди бессознательных содержаний встречаются ярко выраженные животные черты или элементы наряду с такими возвышенными образами, которые издревле сопровождали человека на его жизненном пути. Мы имеем дело с целым миром образов, беспредельность которого нисколько не уступает беспредельности мира «реальных» вещей. Подобно тому как человеку, который всецело отдается внешнему миру, мир этот идет навстречу в образе самого близкого, любимого существа, на котором он и испытает двусмысленность мира и своего собственного существа, – если уж судьба его в том, чтобы предаться до конца личностному объекту; подобно этому, перед другим человеком возникает демоническое олицетворение бессознательного, воплощающее в себе всю совокупность, всю крайнюю противоположность и двусмысленность мира образов. Это определение явления, выходящее из рамок нормальной средней меры; поэтому нормальная середина и не знает этих ужасных загадок. Они для нее не существуют. Лишь немногие достигают того предела мира, где начинается его зеркальное отображение. Для того, кто стоит всегда в середине, душа имеет человеческий, а не сомнительный, демонический характер; и ближние также никогда не казались ему загадочными. Только совершенная самоотдача тому или другому началу придает им эту двусмысленность. Интуиция Шпиттелера постигла тот душевный образ, который у более простодушной натуры стал бы разве сновидением.
Так, на с. 25 мы читаем: «Пока он так метался в неистовстве и рвении своем, вкруг уст и по лицу ее вдруг зазмеились чудно тени, и беспрестанно трепетали веки и бились вверх и вниз, в то время как за мягкими пушистыми ресницами как будто что-то стерегло, грозило, кралось, подобное огню, коварно и таинственно ползущему по дому, или подобно тигру, что извивается в кустах и светится сквозь темную листву своим желто-пятнистым, пестрым телом».
Итак, избранный Прометеем путь жизни есть, несомненно, интровертирующий путь. Он жертвует настоящим и своим отношением к нему для того, чтобы творить далекое будущее предвосхищающею мыслью. У Эпиметея дело обстоит совершенно иначе: он понимает, что стремление его направлено к внешнему миру и к тому, что связано с этим миром. Поэтому он говорит ангелу: «Отныне же мое желание направлено на истину; и вот, смотри, душа моя находится в твоих руках, и если угодно тебе, то дай мне совесть, которая могла бы научить меня весьма высшим качествам и праведности духа». Эпиметей не может устоять против искушения – осуществить свое собственное назначение и подчиниться «бездушной» точке зрения. Это присоединение его к миру немедленно несет ему вознаграждение: «Случилось так, что, вот, Эпиметей, поднявшись, ощутил, как рост его стал выше и крепче дух его, все существо его объединилось и чувства все его здоровы стали в спокойствии могучем и отрадном. Он возвращался бодрыми шагами по долине, прямым путем, как тот, кому никто не страшен, с открытым взором, как человек, одушевленный мыслью о собственном богатстве».
Он, как говорит Прометей, продал за «высшие качества свою свободную душу». Он утратил свою душу (в пользу своего брата). Он пошел за своей экстраверсией, а так как она ориентируется по внешнему объекту, то он растворился в желаниях и чаяниях мира, сначала наружно, к величайшей своей пользе. Он стал экстравертным, после того как долгие годы, по примеру брата, прожил в одиночестве, как экстраверт, искажавший себя в подражании интроверту. Такая «непроизвольная симуляция в характере» (Paulhan, «simulation dans le caractere») встречается нередко. Поэтому превращение его в настоящего экстраверта является шагом вперед по направлению к «истине» и заслуживает выпавшей на его долю награды.
В то время, как тираническая требовательность души мешает Прометею вступить в какое бы то ни было отношение к внешнему объекту и ему приходится в служении своей душе приносить самые суровые жертвы, – Эпиметей получает действенную для начала защиту против грозящей экстраверту опасности совершенно потерять себя перед властью внешнего объекта. Это защита является в лице совести, опирающейся на традиционные «правильные понятия», то есть на ту, унаследованную нами, сокровищницу житейской мудрости, которой не следует пренебрегать и которой общественное мнение пользуется так же, как судья уложением о наказаниях. Тем самым Эпиметею дано ограничение, мешающее ему отдаваться объекту в той мере, в какой Прометей отдается своей душе. Ему это запрещает совесть, занимающая в нем место души. Вследствие того что Прометей отвращается от мира людей и от их кодифицированной совести, он попадает под господство своей жестокой владычицы – души и под ее кажущийся произвол, а за свое пренебрежение к миру он платит беспредельным страданием.
Однако мудрое ограничение безукоризненной совестью настолько помрачает зрение Эпиметея, что он принужден слепо изживать свой миф постоянным чувством правильного поступания, – потому что он всегда остается в согласии со всеобщим ожиданием и всегда имеет успех, потому что исполняет желания всех. Именно таким люди хотят видеть царя, и таким его осуществляет Эпиметей, вплоть до бесславного конца, все время сопровождаемый и поддерживаемый всеобщим одобрением. Его уверенность в себе и самоудовлетворенность, его непоколебимая вера во всеобщее значение его личности, его несомненно правильное поступание и его чистая совесть позволяют нам без труда узнать тот характер, который описывает Джордан. Сравним с этим описанное на с. 102 и сл. посещение Эпиметеем больного Прометея, когда король Эпиметей желает исцелить страдающего брата: «Когда они все это совершили, царь выступил вперед и, опираясь левой и правой рукой на друга, он начал говорить, сказал приветствие и вымолвил благонамеренное слово: „Глубоко сокрушаешь ты меня, о Прометей, возлюбленный мой брат! Но все же ты не падай духом; смотри, вот мазь, испытанное средство против всех недугов: она чудесно исцеляет как жар, так и озноб; воспользуйся же ею и пусть она послужит тебе и в утешение и в мзду“. Сказавши так, он взял свой посох, и, привязав к нему лекарства, он осторожно брату протянул его с торжественной миной. Но Прометей, едва почуяв мази аромат и увидав ее наружный вид, тотчас же с отвращением отвернулся. Тогда король возвысил, изменив, свой голос, пророчески заговорил и закричал в горячем рвении: „По истине скажу, нуждаешься ты явно в большем наказании, и недостаточно проучен ты своей судьбой“. Сказавши так, он вынул зеркало из-под плаща и начал объяснять ему все с самого начала, красноречиво излагая все проступки брата».
Эта сцена является меткой иллюстрацией к словам Джордана: «Если возможно, он должен понравиться обществу; если нельзя понравиться, он должен удивить его; если же нельзя ни понравиться, ни удивить, он должен, по крайней мере, напугать и потрясти его». [Jordan: «Society must be pleased, if possible; if it will not be pleased, it must be astonished, if it will neither be pleased, nor astonished, it must be pestered and shocked». ] В вышеописанной сцене мы видим почти то же движение по восходящей линии. На Востоке богатый человек обнаруживает свое достоинство тем, что показывается в обществе не иначе, как опираясь на двух рабов. Эпиметей пользуется этой позой для того, чтобы произвести впечатление. С благодеянием должно быть тесно связано увещание и моральное назидание. А если это не действует, то нужно, по крайней мере, чтобы слушатель был испуган образом своей собственной низости. Потому что все сводится к тому, чтобы произвести впечатление. Американская поговорка гласит: «В Америке имеют успех два сорта людей: тот, который действительно способен на что-нибудь, и тот, который ловко симулирует свои способности». Иными словами: видимость иногда имеет такой же успех, как и действительное достижение. Экстравертный человек такого рода прекрасно пользуется видимостью. Интроверт стремится достигнуть того же насильственно и злоупотребляет для этого своими силами.
Если мы соединим Прометея и Эпиметея в одной личности, то получится человек, наружно представляющий собою Эпиметея, а внутренне – Прометея; причем обе тенденции непрерывно раздражают друг друга и каждая из них старается окончательно склонить эго на свою сторону.
2. Сравнение Прометея Шпиттелера с Прометеем Гете
Является в высокой степени интересным сравнить это понимание Прометея с гетевским его изображением. Думаю, что мы имеем достаточное основание предположить, что Гете принадлежит скорее к экстравертному, чем к интровертному типу, тогда как Шпиттелера я отношу именно к последнему типу. Полное доказательство правильности такого предположения возможно было бы лишь на основании пространного и тщательного изучения и анализа биографии Гете. Мое предположение основано на множестве разных впечатлений, о которых я, однако, не хочу упоминать, чтобы не впасть в недостаточно обоснованные утверждения.
Интровертная установка отнюдь не должна непременно совпадать с образом Прометея; я хочу этим сказать, что традиционную фигуру Прометея можно было бы и иначе истолковать. Так, например, в платоновском «Протагоре» мы находим именно эту другую версию: там не Прометей, а Эпиметей распределяет жизненную силу между существами, которых боги только что создали из земли и огня. Тут, как и вообще в мифе, Прометей (согласно античному вкусу) является хитроумным и изобретательным. И вот, у Гете мы находим два разных понимания. В отрывке «Прометей», написанном в 1773 году, Прометей является упрямым, полагающимся на самого себя, богоподобным, презирающим богов созидателем и творцом. Душа его – Минерва, дочь Зевса. Отношение Прометея к Минерве во многом похоже на отношение Шпиттелерова Прометея к душе. Так, Прометей говорит Минерве:
«Мне с самого начала
Твои слова небесным светом были.
Всегда как будто бы моя душа
С самой собою говорила:
Она вся раскрывалась —
И схожие гармонии звучали
Из ней самой,
И божество вещало,
Когда, я думал, говорил я сам,
Когда же думал – божество вещает,
То сам я говорил.
Так я с тобою
Соединен; так глубока,
Вечна моя любовь к тебе!»
и дальше:
«Как сладостно мерцающий тот свет
Склонившегося солнца
Там стелется по высям
Угрюмого Кавказа
И душу сладким миром мне объемлет,
Всегда, и в самом
Отсутствии, присутствуя со мною, —
Так силы развивались мои
С дыханьем каждым
Из воздуха твоих небес». /45– Т.2. С.268/
Прометей Гете тоже стоит в зависимости от своей души. Сходство с отношением Шпиттелерова Прометея к душе очень большое. Так, Прометей Шпиттелера говорит своей душе: «И если даже все они похитят у меня, останусь все-таки безмерно я богатым, пока пребудешь ты со мною и будешь сладкими устами называть меня „мой друг“, и будешь на меня взирать, склоняя надо мной твой гордый, благодатный лик».
Но, несмотря на сходство этих двух образов и их отношения к душе, между ними есть и существенное различие: Прометей Гете – созидатель и творец, и Минерва одушевляет его глиняные статуи. Прометей Шпиттелера, напротив, не творит, а претерпевает: творит только его душа, но ее творчество скрыто и таинственно. Она говорит ему, прощаясь: «Теперь расстанусь я с тобой: смотри, меня великое ждет дело, исполненное мощного труда; великий опыт необходим, чтобы я его свершила». /43– S.28/
По-видимому, у Шпиттелера прометеевская творческая работа приходится на долю души, тогда как сам Прометей только претерпевает муки творческой души. У Гете же Прометей самодеятелен, и деятельность его прежде всего и исключительно творческая; именно на основе своей собственной творческой силы Прометей и непокорствует богам:
«Кто мне помог
С титанами бороться?
Кто спас меня от смерти,
От рабства?
Не все ж само ты совершило,
Святое пламенное сердце?» /45– Т.2. С.278/
В отрывке у Гете характер Эпиметея очерчен скудно; он во всех отношениях ниже Прометея, он защитник того коллективного чувства, которое в служении душе не видит ничего, кроме «упрямства». Вот что Эпиметей говорит Прометею:
«Ты одинок стоишь!
Не понимаешь ты, упрямец,
Что это было за блаженство,
Когда бы боги, ты,
И все твои, и небо, и весь мир
Себя единым целым ощутили!» /45– Т.2. С.267/
Намеки, имеющиеся в гетевском отрывке Прометея, слишком скудны для того, чтобы мы могли на основании их распознать характер Эпиметея. Характеристика же Прометея, данная Гете, обнаруживает типичное отличие его от Прометея Шпиттелера. Гетевский Прометей творит, и творчество его направлено во внешний мир, он наполняет пространство образами, которые оформлены им и оживлены его душою, он населяет землю созданиями, порожденными его творчеством; и в то же время он является учителем и воспитателем людей. У Шпиттелерова же Прометея, напротив, все уходит вовнутрь, исчезает во мраке душевных глубин, подобно тому как и он сам исчезает из мира, удаляется даже из своей ближайшей родины, как бы для того, чтобы стать еще более невидимым. Согласно принципу компенсации, принятому в нашей аналитической психологии, душа (то есть олицетворение – персонификация – бессознательного) должна быть в таком случае особенно активной и подготовлять некое дело, которое остается пока еще невидимым. Кроме вышеприведенного места у Шпиттелера есть еще одно подробное описание этого ожидаемого процесса эквивалентной замены, а именно в интермедии, посвященной Пандоре.
Пандора, эта загадочная фигура в мифе о Прометее, является у Шпиттелера божьей дщерью, не имеющей никакого другого отношения к Прометею, кроме одного, самого глубокого. Такое понимание примыкает к истории мифа, в котором женщина, завязывающая отношение с Прометеем, есть или Пандора, или Афина. Душа мифологического Прометея имеет отношение к Пандоре или Афине, так же как и у Гете. У Шпиттелера же произошло замечательное раздвоение, уже намеченное, правда, в историческом мифе, где Прометей и Пандора соприкасаются с аналогичными Гефестом и Афиной. Гете предпочел версию Прометей – Афина. У Шпиттелера же, напротив, Прометей изъят из божественной сферы и ему дана собственная душа. Но его божественность и его мифологическое изначальное отношение к Пандоре сохраняются при этом в потустороннем небесном мире, в качестве космических противообразов, и действуют самостоятельно. Дела, происходящие в потустороннем мире, суть дела, происходящие по ту сторону нашего сознания, то есть в области бессознательного. Поэтому интермедия о Пандоре есть изображение того, что происходит в бессознательном Прометее во время его страданий. Исчезнув в мире и разрушив последний мост, связывающий его с человечеством, Прометей погружается в глубину себя самого, и единственной его средой, единственным его объектом является он сам. Вследствие этого он становится «богоподобным», ибо бог, согласно его определению, есть то существо, которое всюду покоится в самом себе, и всегда и всюду, в силу своего вездесущия, имеет себя самого предметом. Само собою разумеется, что Прометей чувствует себя совершенно не богоподобным, а, напротив, в высшей степени несчастным. А после того, как приходит Эпиметей для того, чтобы оплевать его страдания, начинается интермедия в потустороннем мире, и понятно, что это происходит именно в тот момент, когда всякое отношение Прометея к внешнему миру является вытесненным до полного его пресечения. Опыт свидетельствует о том, что это как раз те моменты, когда содержания бессознательного наиболее способны приобретать самостоятельность и живость настолько, что они могут даже осиливать сознание. [Jung K. G. Inhalt der Psychose. /46– С.177/] И вот, в бессознательном, состояние Прометея отображается следующим образом: «И в тот же день, на сумрачной заре, в безмолвном одиночестве лугов, над совокупностью миров, бог шествовал, творец всего живого, свершая свой проклятый круг, покорный странной сущности своей загадочной и злой болезни.
Сей недуг никогда не позволял ему окончить труд обхода своего; он на стезе своей не находил покоя, но вечно, ровным ходом, он день за днем и год за годом свершал все тот же круг по тихой луговине, ступая тяжело, главу склонивши долу, с наморщенным челом и с ликом искаженным, вперяя сумрачные взоры всегда в центр круга.
И ныне, в то время, как он совершал все то же, что каждый день, по непреложному свершенью, и ниже от скорби преклонялась голова и в утомленьи тяжелей влачились ноги, и от мучительной бессонной ночи казалось, что иссяк источник его жизни; из сумерек и мглы предстала вдруг Пандора, дочь младшая его; к святому месту походкой неуверенно-стыдливой она приблизилась, смиренно стала одаль, скромным взором приветствуя отца, благоговейно вопрошая его молчаньем уст своих».
Ясно без дальнейших объяснений, что бог страдает недугом Прометея. Ибо, подобно тому как Прометей всю свою страсть, все свое либидо направляет потоком в свою душу, в свою внутреннюю глубину и посвящает всего себя на служение своей душе, так и бог его совершает «круговой обход» вокруг мирового центра, истощая себя в этом, совершенно так, как Прометей, уже близкий к полному угасанию. Это значит, что его либидо целиком перешло в область бессознательного, где и должен подготовиться эквивалент, потому что либидо есть энергия, которая не может исчезнуть бесследно, но всегда создает некоторый эквивалент. Эквивалентом является Пандора и то, что она приносит отцу, а именно драгоценное сокровище, которое она хотела бы подарить людям для облегчения их страданий.
Если мы перенесем эту сцену в человеческую сферу Прометея, то это означает следующее: пока Прометей страдает в состоянии «богоподобия», душа его подготовляет некое создание, предназначенное для того, чтобы облегчить страдания человечества. С этим произведением душа его стремится к людям. Однако это произведение, которое душа Прометея в действительности подготовляет и творит, вовсе не тождественно с даром Пандоры. Сокровище Пандоры есть бессознательное отображение, символически представляющее собою действительное создание души Прометея. Из текста с несомненностью вытекает, что именно представляет собой это сокровище: это бог-спаситель, обновление солнца. [Относительно мотива сокровища и возрождения я должен сослаться на мою книгу /47– Ч.II. Гл. IV,V/]
Это страстное желание выражается в недуге бога, он томится по возрождению, и вследствие этого вся его жизненная сила устремляется назад в центр его самости, то есть в глубину бессознательного, из которой жизнь возрождается вновь. Поэтому появление этого сокровища в мире описывается так, как если бы воспроизводилась картина рождения Будды из Лалитавистары /43– S.126/: Пандора кладет свое сокровище под ореховое дерево, подобно Майе, рождающей свое дитя под смоковницей.
«В полуночной тени, под деревом оно пылает, искрится и пламенеет вечно; подобно утренней звезде на темном небе лучится вдаль алмазное сверканье».
«И даже пчелы и бабочки, порхавшие над цветником, поспешно прилетели, играя и носясь вокруг чудесного младенца». «…И жаворонки из воздушных сфер падением тяжелым опускались, исполненные жажды благоговейно поклониться новорожденному прекраснейшему лику солнца, и вот, совсем вблизи, они смотрели в белизну лучистого сиянья и трепетали сердцем». «А надо всем отечески и милостиво возвышалось избранное дерево с его гигантской лиственной короной, с тяжелым зеленеющим плащом и царственные руки простирало как бы в защиту над головами своих детей.
И множество ветвей любовно нагибалось, склоняясь до земли, как изгородью защищая сокровище от посторонних взоров, ревнуя и стремясь сберечь себе, одним себе все наслажденье незаслуженным благодеяньем дара; и тысячи бесчисленных нежно-одушевленных листьев дрожали, трепетали от блаженства и лепетали в радостном волненьи, слагая мягкий чисто-звучный хор и шелестя в аккордах: „Кто знал бы, что сокрыто под смиренной кровлей, кто ведал бы, какое сокровище покоится средь нас!“»
Когда для Майи пришел час родить, она родила своего младенца под смоковницей, опускавшей для защиты свою лиственную корону до земли. От воплотившегося Бодхисатвы по миру распространяется неизмеримое сияние, боги и природа принимают участие в его рождении. Как только Бодхисатва ступает на землю, из-под его ног вырастает огромный лотос, и, стоя в лотосе, он созерцает мир. Отсюда тибетская молитвенная формула: om mani padme hum = О, какая драгоценность в лотосе! В момент возрождения Бодхисатва находится под избранным деревом Bodhi (познания), где он и становится Буддой (просветленным). Это возрождение или обновление сопровождается тем же световым сиянием, теми же чудесами природы и появлением богов, как и рождение его.