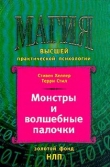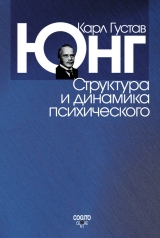
Текст книги "Структура и динамика психического (сборник)"
Автор книги: Карл Юнг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Доклад на английском языке был сделан К.Г. Юнгом в июле 1919 года на совместном заседании Аристотєльского общества, Духовной ассоциации и Британского психологического общества в Бедфордском колледже Лондонского университета. Впервые был опубликован в: British Journal of Psychology (General Section) (London), X (1919): 1, 15–26.
1 Reid Th. Essays on the Active Powers of Man. Edinburg, 1788, p. 103.
2 Кант И. Антропология // Собр. соч. / Под ред. Э. Кассирера. Берлин, 1912–1922. Т. 8, с. 156.
3 James W. Principles of psycology, II, p. 391.
4 Kerner von Marilaum. The Natural History of Plants, II, p. 156.
5 См.: Jung C.G. Psychological types, Def. 35: «Intuition». [Рус. пер. – Юнг К.Г. Психологические типы. СПб., 1995, пар. 733. Деф. 27. «Интуиция».]
6 [Это первый случай, когда Юнг употребляет термин «архетип» (Archetypus). Ранее в своих работах он рассматривал тот же феномен и использовал термин «первообраз» (Urbild), который он позаимствовал у Буркхардта (см.: Юнг К.Г. Символы трансформации. М., 2000, пар. 45. Примеч. 45; Юнг К.Г. Очерки по аналитической психологии. М., 2006, пар. 108.). Понятие «изначальный образ» здесь и далее используется как эквивалент понятия архетипа; это привело к неизбежной путанице и к убеждению, что юнговская теория унаследованных элементов предполагает наследственность представлений (идей или образов) – точка зрения, против которой Юнг неоднократно высказывался. Термин «изначальный образ», однако, в настоящем тексте явно фигурирует как графическое название для архетипа – бессознательной, по сути, сущности, которая, как указывает Юнг, является априорной формой – наследственным компонентом предметно-изобразительного образа, представленного в сознании.]
7 Термин «архетип» обнаружился и у Дионисия Ареопагита и в Corpus Hermeticum.
8 Herbert of Cherbury, Edward, Baron. De veritate, trans. by Carre [впервые опубликована в 1624 году].
9 Бенедикт Спиноза. Этика.
10 Как и устаревшее теперь понятие эфира, энергия и атом интуитивно постигались первобытными людьми. Первобытное понимание энергии выражено в понятии мана, а атома – в атоме Демокрита и в «душевных искрах или вспышках» австралийских аборигенов. [См. также: Юнг К.Г. Очерки по психологии бессознательного. М., 2006, пар. 108 и далее.]
11 На протяжении своей жизни я часто высказывался по теме этого короткого эссе, и выводы, к которым я пришел, изложены в статье под названием «О природе психического» (см. настоящее издание, пар. 345 и далее), где проблема инстинкта и архетипа изложена значительно более подробно. Биологическая сторона проблемы обсуждается в: Alverdes, «Die Wirksamkeit von Archetypen in den Instinkthandlungen der Tiere».
Структура психического
283 Психическое1 как отражение мира и человека представлено в столь безмерной сложности, что существует бесконечное множество аспектов его рассмотрения. Здесь возникает та же проблема, что и в случае познания мира: систематическое изучение мира лежит вне пределов возможностей человека, и поэтому все, что нам в этом смысле доступно, – это выявление обыденных правил и исследование тех узких аспектов, которые составляют для нас особенный интерес. Каждый исследователь выбирает для себя определенный фрагмент мира и сооружает для него собственную, частную систему, зачастую с непроницаемыми границами, так что через некоторое время ему начинает казаться, будто он ухватил смысл и структуру мира в целом. Но конечное никогда не обхватит бесконечное. Мир психических явлений есть лишь часть мира как целого, и кое-кому может показаться, что как раз в силу своей частности он более познаваем, чем весь мир целиком. Однако при этом не принимается во внимание, что психическое является единственным непосредственным явлением мира, а следовательно, и необходимым условием – sine qua non – всякого опыта.
284 Говоря, что единственными непосредственно познаваемыми элементами мира являются содержания сознания, я вовсе не пытаюсь свести «мир» к «представлению» о мире. Таким образом я хочу сформулировать нечто подобное тому, как если бы я сказал, что жизнь есть функция атома углерода. Эта аналогия демонстрирует ограниченность профессиональной точки зрения, которой я придерживаюсь, как только собираюсь дать вообще хоть какое-нибудь объяснение миру или даже только одной из его частей.
285 Моя точка зрения, естественно, является психологической, причем точкой зрения практического психолога, задача которого заключается в том, чтобы как можно быстрее разобраться в хаотической путанице
самых сложных психических состояний. Она кардинально отличается от точки зрения психолога, который в тиши лаборатории может спокойно исследовать какой-нибудь отдельный психический процесс. Это то же самое различие, которое существует между хирургом и гистологом. Точка зрения практического психолога не является также и метафизической: от него не требуется что-либо сказать о бытии вещей как таковом – существуют ли они в абсолютном виде или нет. Мои предметы лежат целиком в пределах переживаемого, опытного.
286 Моя первейшая обязанность заключается в том, чтобы уметь разбираться в комплексных условиях и быть способным говорить о них. Я должен достаточно понятным образом характеризовать сложное психическое явление и различать группы психических фактов. Это различение, в свою очередь, не должно производиться произвольно, если я хочу добиться взаимопонимания со своим пациентом. Значит, я вынужден использовать простые схемы, которые, с одной стороны, удовлетворительно отображают эмпирические факты, а с другой – связаны с тем, что общеизвестно и общепринято.
287 Классифицировать содержания сознания мы начнем, согласно традиционному правилу, с положения: Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu[30]30
Нет ничего в разуме, чего бы не было раньше в чувствах (лат.).
[Закрыть].
288 Сознание как бы устремляется из внешнего мира вовнутрь, в нас, в форме чувственных восприятий. Мы видим, слышим, вкушаем, осязаем и обоняем мир и тем самым осознаем его. Чувственное восприятие говорит нам, что нечто есть. Но оно не говорит нам, что это. Об этом мы узнаем благодаря процессу не перцепции, а апперцепции, который является весьма сложным образованием. Это не значит, что чувственное восприятие является чем-то простым, однако по своей природе этот комплексный процесс скорее физиологический, нежели психический. Сложность апперцепции, с другой стороны, носит психический характер. Она является результатом взаимодействия различных психических процессов. Допустим, что мы слышим шум, природа которого нам неизвестна. Спустя некоторое время нам становится ясно, что этот своеобразный шум происходит от газового пузыря, образовавшегося в водопроводной трубе центрального отопления. Таким образом, мы поняли, что это за шум. Этим знанием мы обязаны процессу, который называется мышлением. Мышление говорит нам, чем является нечто.
289 Я только что назвал шум «своеобразным». Когда я называю что-либо «своеобразным», то тем самым подразумеваю некоторый особый чувственный тон, которым обладает вещь. Чувственный тон включает в себя оценку.
290 Процесс распознавания можно, в сущности, понимать как сравнение и различение с помощью памяти: если, например, я вижу огонь, то световой стимул вызывает у меня представление об «огне». Содержащееся в моей памяти бесчисленное множество образов воспоминаний об огне вступает в связь с только что полученным образом огня; в результате сравнения и различения с этими образами памяти возникает знание, то есть окончательная констатация особенностей только что приобретенного образа. Этот процесс в обиходном языке называется мышлением.
291 Иначе обстоит дело с процессом оценки: огонь, который я вижу, вызывает эмоциональные реакции приятия или неприятия, кроме того, образы памяти также привносят с собой сопутствующие эмоциональные проявления, которые называют чувственным тоном. В результате предмет кажется нам приятным, желанным, красивым или же отвратительным, плохим, негодным и т. д. В обыденном языке этот процесс называется чувствованием.
292 Интуитивный процесс отличен от чувственного восприятия, мышления или чувствования, хотя язык в этом отношении обнаруживает подозрительно слабую способность их различения. Можно воскликнуть: «О, я уже вижу, как горит весь дом». Или: «Ясно, как дважды два – четыре, что если здесь вспыхнет огонь, это будет большое несчастье». Или: «Я чувствую, что этот огонь приведет к страшной беде». В соответствии со своим темпераментом один будет называть свое предчувствие ясным видением, то есть уподоблять его восприятию, другой будет называть его мышлением. «Стоит только подумать, и сразу станет ясно, какие будут последствия», – скажет он. Третий, наконец, под впечатлением своего эмоционального состояния будет называть свое предвосхищение чувством. Я же понимаю интуицию как одну из основных функций психического, а именно, функцию восприятия возможностей, заключенных в ситуации.
То, что в немецком языке все еще путаются понятия «чувство», «ощущение» и «интуиция», объясняется, пожалуй, недостаточным развитием языка, тогда как во французском слова sentiment и sensation, а в английском feeling и sensation вполне четко различаются, а иногда и используются в качестве дополнительных для обозначения «интуиции». В последнее же время слово «интуиция» становится все более употребительным и в обиходном английском языке.
293 В качестве содержаний сознания можно выделить также волевые процессы и влечения. Первые можно охарактеризовать как направленные импульсы, основанные на апперцепции, природа которых позволяет человеку действовать, так сказать, по своему усмотрению. Последние представляют собой импульсы, проистекающие из бессознательного или непосредственно из тела и характеризующиеся дефицитом степеней свободы и компульсивностью (навязчивостью).
294 Процессы апперцепции могут быть направленными или ненаправленными. В первом случае мы говорим о «внимании», во втором – о «фантазировании», или «мечтании». Направленные процессы рациональны, ненаправленные – иррациональны. К ненаправленным процессам относятся и сновидения. В некотором смысле сновидения напоминают сознательные фантазии, поскольку они имеют ненаправленный иррациональный характер. Однако сновидения отличаются от фантазий тем, что их причины, пути и цели неясны нашему сознательному разуму. Тем не менее, я считаю, что они составляют одну из категорий содержаний сознания, поскольку являются наиболее важной и очевидной равнодействующей бессознательных психических процессов, проникающей в сознание. Выделения вышеназванных семи категорий, пожалуй, достаточно для поверхностного экскурса в содержание сознания. Более подробное его описание в нашу задачу не входит.
295 Как известно, существует точка зрения, согласно которой все психическое ограничивается сознанием через отождествление с ним. Согласиться с этим нельзя. Раз мы допускаем, что существуют некоторые вещи, пребывающие вне нашего чувственного восприятия, значит, мы можем говорить также и о психических элементах, в существовании которых мы можем убедиться лишь косвенным образом. Каждый, кто знаком с психологией гипнотизма и сомнамбулизма, знает об известном факте, что в некоторых случаях сознанию, ограниченному искусственно или вследствие болезни, недоступны определенные представления, но оно проявляет себя так, как если бы содержало их. Например, одна пациентка с истерической глухотой постоянно что-то напевала. Однажды доктор незаметно сел за пианино и сопроводил очередной куплет мелодией в другой тональности, на что больная тут же отреагировала продолжением пения уже в новой тональности. У другого пациента постоянно возникали истероидно-эпилептические конвульсии при виде открытого огня. При этом у было заметно сужено поле зрения, то есть он страдал от периферической слепоты (это заболевание называют еще «трубчатым», или «тубулярным», полем зрения). Но даже если свет попадал в слепую зону, все равно следовал приступ, как если бы пациент этот огонь видел. В симптоматологии подобных состояний имеется бесчисленное множество примеров, относительно которых при всем желании нельзя сказать ничего другого, кроме того, что человек бессознательно воспринимает, думает, чувствует, вспоминает, решает и совершает поступки, то есть бессознательно осуществляет то, что другие делают сознательно. Эти процессы происходят независимо от того, замечает их сознание или нет.
296 К бессознательным психическим процессам подобного рода относится также и имеющая немалое значение композиционная работа, осуществляющаяся во сне. Хотя сон является состоянием, в котором сознание в значительной степени ограничено, однако психическое ни в коей мере не перестает существовать и действовать. Сознание просто отступает от него и вследствие отсутствия предметности, поддерживающей его внимание, превращается в относительную бессознательность. Но, разумеется, психическая жизнь при этом продолжает идти своим чередом, равно как и бессознательная психическая жизнь не прекращается во время бодрствования. Доказательства этому найти нетрудно. Эта особая область переживаний представляет собой то, что Фрейд назвал «психопатологией обыденной жизни» и описал в книге с соответствующим названием. Он показал, что наши сознательные намерения и действия часто перечеркиваются бессознательными процессами, само существование которых нас просто ошеломляет. Мы допускаем оговорки, совершаем описки, бессознательно делаем такие вещи, которые прямо-таки с головой выдают то, что мы хотели бы скрыть, или то, о чем мы сами никогда не знали. «Lingua lapsa verum dicit»[31]31
Оговорка выдает правду (лат.).
[Закрыть],– говорит одна старая пословица. Распространенность таких явлений позволила заложить их в основу диагностических ассоциативных тестов, которые всегда с пользой применяются там, где отсутствует либо желание, либо возможность что-то высказать.
297 Однако классические примеры бессознательной психической деятельности обнаруживаются в патологических состояниях. Вся симптоматика истерии, неврозов навязчивости, фобий, а также большая часть симптоматики шизофрении– самого распространенного умственного расстройства – основывается на бессознательной психической деятельности. Поэтому мы можем, пожалуй, говорить о существовании бессознательного психического. Оно, конечно же, недоступно нашему непосредственному наблюдению – ведь иначе оно не было бы бессознательным – и может быть только выведено на основе косвенных признаков. Соответственно, наши выводы не могут простираться далее умозаключения: «Это так, как если бы…»
298 Итак, бессознательное также является частью психического. Можем ли мы теперь по аналогии с различными содержаниями сознания говорить также и о содержаниях бессознательного? Ведь тем самым мы постулировали бы наличие в бессознательном другого сознания. Я не хочу останавливаться здесь на этом деликатном вопросе, который обсуждался мною в другом месте, а ограничусь иным вопросом: однородно ли бессознательное по своей природе. На этот вопрос можно ответить только эмпирически, а именно с помощью встречного вопроса: имеются ли веские основания для подобной дифференцировки?
299 Я абсолютно не сомневаюсь в том, что любая работа, обычно совершающаяся в сознании, может точно так же протекать и в бессознательном. Существует множество примеров, когда интеллектуальная проблема, оставшаяся не решенной в часы бодрствования, была разрешена во сне. Например, я знаю одного бухгалтера-ревизора, который в течение многих дней тщетно пытался распутать случай злонамеренного банкротства. Однажды он просидел за этим занятием до полуночи и, не добившись успеха, отправился спать. В три часа утра жена услышала, как он встал с постели и пошел в свой кабинет. Она последовала за ним и увидела, как он что-то усердно пишет, сидя за своим рабочим столом. Примерно через четверть часа он вернулся в спальню. Утром он не помнил об этом и снова принялся за работу, но вдруг обнаружил целый ряд сделанных его рукой записей, которые сразу расставили все по местам в этом запутанном деле.
300 В своей практической работе я имею дело со сновидениями уже более двадцати лет. Много раз я был свидетелем того, как не мыслившиеся сознательно днем мысли и не переживавшиеся сознательно чувства позже появлялись в сновидениях и, таким образом, окольным путем достигали сознания. Сновидение как таковое, несомненно, является содержанием сознания, иначе оно не могло бы быть объектом непосредственного переживания. Но коль скоро сновидение делает известным материал, который прежде был бессознательным, мы вынуждены допустить, что в некой форме эти содержания уже вели психическое существование в бессознательном состоянии, а в сновидении лишь стали доступны «остаткам» сознания. Сновидение относится к нормальным содержаниям психического и может рассматриваться в качестве равнодействующей бессознательных процессов, вторгающейся в сознание.
301 Итак, если на основании этих знаний мы придем к допущению, что все категории сознательных содержаний могут также, в некоторых случаях, оказываться бессознательными и в качестве таковых воздействовать на сознательный разум, то окажемся перед довольно неожиданным вопросом, а именно: имеет ли и бессознательное свои «сновидения»? Другими словами, существует ли равнодействующая еще более глубоких и – если это возможно – еще более бессознательных процессов, которая проникает в эту объятую мраком область психического? Мне пришлось бы прекратить обсуждение этого парадоксального вопроса как слишком уж рискованного, если бы не было реальных оснований, позволяющих перевести такую гипотезу в область возможного.
302 Прежде всего, нам нужно представить, каким должен быть пример, который сумел бы убедить нас в том, что и бессознательное тоже имеет «сновидения». Когда от нас требуется доказать, что сновидения являются содержаниями сознания, то нам надо просто показать, что оно включает содержания, по своим свойствам и характеру полностью отличные от прочих, рационально объяснимых и понятных содержаний. Если же теперь мы захотим доказать, что и у бессознательного есть свои сновидения, то нам нужно аналогично рассмотреть и его содержания. Пожалуй, будет проще всего, если я проиллюстрирую это одним практическим примером.
303 Речь идет об одном двадцатисемилетнем мужчине, офицере. Он жаловался на приступы сильной боли в области сердца, словно там застряла пуля, и на колющие боли в левой пятке. Никаких органических нарушений у него обнаружено не было. Приступы продолжались уже около двух месяцев, и пациент, поскольку порой он не мог даже ходить, был уволен с военной службы. Различные курсы лечения нисколько не помогли. Тщательное изучение предыстории его болезни также не дало ключа к разгадке; впрочем, и у самого пациента не было ни малейшего представления о возможной ее причине. Он производил впечатление человека веселого, пожалуй, даже легкомысленного, возможно, с чертами «ухарства»: «Где вам с нами тягаться». Поскольку анамнез ничего не дал, я задал ему вопрос о его сновидениях. Причина болезни сразу же выявилась. Непосредственно перед возникновением невроза девушка, в которую он был влюблен, отказала ему и обручилась с другим человеком. В разговоре со мной он представил всю эту историю как не относящуюся к делу: «Глупая девчонка, – если она не хочет, мне ничего не стоит найти другую. Такого мужчину, как я, это не может огорчить». Подобным способом он пытался избыть свои несбывшиеся надежды и свое горе. Теперь же его аффекты вышли наружу. Боли в сердце у него скоро пропали, а после того, как он несколько раз выплакался, исчез и комок в горле. «Боль в сердце» – поэтическое выражение – здесь стала реальным фактом, сердечными болями, потому что гордость, по-видимому, не позволяла ему страдать от боли в душе. «Ком в горле», так называемый globus hystericus, образуется, как известно, при попытках сдержать слезы. Сознание пациента просто-напросто ушло от слишком мучительных для него содержаний, и они, предоставленные самим себе, смогли достичь сознания только окольным путем, в виде симптомов. Это процесс был объясним и вполне – если хорошенько поразмыслить – доступнен пониманию; он с равным успехом мог бы пройти и сознательно, если бы не мужская гордость пациента.
304 Третий же симптом, боль в пятке, так и не исчез. Эти боли не имеют ничего общего с только что изображенной картиной, так как сердце никак не связано с пяткой и оно, естественно, не выражает свою боль через нее. С рациональной точки зрения вообще невозможно понять, почему в данном случае двух других симптомов оказалось недостаточно. Теоретически осознание вытесненной душевной боли должно было бы сначала вылиться в обычное человеческое горе, а затем привести к исцелению.
305 Поскольку сознание пациента не смогло дать мне в данном случае никакой отправной точки относительно пяточного симптома, я снова обратился к прежнему методу, к анализу сновидений. Пациент рассказал мне, что однажды ему приснился сон, в котором змея укусила его в пятку и он сразу же оказался парализованным. Это сновидение внесло некоторую ясность в отношении пяточного симптома. У него болела пятка, потому что именно туда его ужалила змея. С таким странным содержанием рациональное сознание ничего поделать не может. Нам удалось довольно быстро понять, почему у него болит сердце, но то, что у него при этом должна болеть еще и пятка, выходит за рамки разумного. Пациент пребывал относительно этого факта в полной растерянности.
306 Следовательно, здесь мы имеем дело с содержанием, странным образом проникшим в зону бессознательного и возникшим, пожалуй, в другом, более глубоком слое; с содержанием, рациональным путем разгадать которое уже невозможно. Следующая аналогия с этим сновидением выражает, очевидно, суть его невроза. Своим отказом девушка нанесла ему рану, которая парализовала его и сделала больным. Дальнейший анализ сновидения высветил еще кое-что в предыстории заболевания, которая теперь и самому пациенту стала ясна до конца. Он был любимцем своей несколько истеричной матери. Она жалела его, восхищалась им – и так избаловала, что он никогда должным образом не успевал в школе, поскольку был слишком – «по-девичьи» – изнежен. Позже он неожиданно «переметнулся» на мужскую сторону и пошел в армию, где ему удалось скрыть свою внутреннюю слабость ценой показного «ухарства». Даже мать в известной степени была шокирована его поведением.
307 Очевидно, мы имеем здесь дело с библейским змеем-искусителем (= дьяволом), который состоял в особой дружбе с Евой. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту», – говорится в «Бытии» (3:15), библейском отголоске гораздо более древнего египетского гимна, который раньше декламировали или пели для того, чтобы вылечить человека от змеиного укуса:
Уста Бога[32]32
Речь идет о боге солнца Pa. – Прим. ред.
[Закрыть] дрожали от старости,
Слюна его капала на землю,
И все, что он выплевывал, падало на землю.
Тогда Исида смешала это с землей, что была там,
И вылепила червя, похожего на копье.
Она не обвила живую змею вокруг своего чела,
А бросила ее, свившуюся в кольцо, на дорогу.
По которой великий Бог любил бродить,
Наслаждаясь двумя своими царствами.
Величественный Бог шествовал и своем великолепии,
И другие боги, служившие Фараону, сопровождали его,
Он шел впереди, как делал это всегда,—
И тут благородный червь ужалил его…
Его челюсти застучали,
Он задрожал всем телом,
И яд вторгся в его плоть,
Как Нил вторгается в его владения2.
308 На сознательном уровне пациент помнил Библию крайне плохо. Вероятно, он когда-то слышал о змее, кусающей в пятку, но сразу же забыл об этом. Однако нечто глубоко бессознательное в нем этого не забыло, а при удобном случае снова напомнило – та часть бессознательного, которая, очевидно, любит выражаться мифологически, потому что такой способ проявлять себя наиболее ей соответствует.
309 Однако какому складу ума соответствует символический или метафорический способ выражения? Он соответствует менталитету первобытного человека, в языке которого отсутствуют абстракции и есть лишь естественные и «неестественные» («unnatural») аналогии. Эта первобытная ментальность так же далека от тех душевных проявлений, кторые вызывают боли в сердце и создают ком в горле, как бронтозавр от скаковой лошади. В сновидении о змее обнаруживается фрагмент психической активности, не имеющей ничего общего со сновидцем как современным человеком. Эта психическая активность осуществляется, скажем так, на каком-то более глубоком уровне, и только ее результаты поднимаются в вышележащий слой, где находятся вытесненные аффекты, причем результаты эти так же им чужды, как сновидение – бодрствующему сознанию. И если для того, чтобы понять сновидение, мы должны применить определенную аналитическую технику, то для того, чтобы суметь постичь значение содержания, возникшего в более глубоком слое, нам необходимы знания мифологии.
310 Разумеется, мотив змеи не был индивидуальным приобретением сновидца, ибо сны про змей очень распространены, даже среди жителей больших городов, которые настоящей змеи вообще, возможно, никогда и не видели.
311 Можно было бы возразить, что змея в сновидении – это не более чем наглядная конкретизация образного выражения, широко используемого в нашей речи. Ведь говорят же иногда о женщинах, что они вероломны и лживы как змеи, говорят о змее-искусителе и т. д. Мне кажется, что в данном случае это возражение вряд ли обоснованно, однако привести строгое тому доказательство было бы, пожалуй, нелегко, потому что змея и в самом деле является распространенной риторической фигурой. Более надежное доказательство стало бы возможным лишь в том случае, если бы нам удалось отыскать пример, когда мифологический символизм не объяснялся бы ни традиционным образным выражением, ни фактом криптомнезии; иначе говоря, должна быть исключена возможность того, что сновидец когда-то видел, слышал или читал о том, что составляет мотив сновидения, потом забыл, а через какое-то время случайно вспомнил. Такое доказательство, будь оно найдено, имело бы огромное значение. Это означало бы, что рационально объяснимое бессознательное, состоящее из, так сказать, искусственных бессознательных материалов, является лишь поверхностным слоем, что под ним лежит абсолютное бессознательное, которое никак не связано с нашим личным опытом. Это абсолютное бессознательное в таком случае представляло бы собой психическую активность, протекающую независимо от сознательного разума; более того, активность, не зависимую даже от верхних слоев бессознательного и не затронутую (а, возможно, и в принципе не затрагиваемую) личным опытом. Эту разновидность надиндивидуальной психической активности я назвал коллективным бессознательным, чтобы отличить от поверхностного, относительного или личного бессознательного.
312 Но прежде чем заняться поисками соответствующего доказательства, я хотел бы, ради точности изложения, сделать еще несколько замечаний по поводу сна о змее. Складывается такое впечатление, как будто наш гипотетический, более глубокий слой бессознательного, – то есть коллективное бессознательное, как я буду его теперь называть, – перевел личный опыт пациента в отношениях с женщинами в сновидение о змеином укусе и, тем самым, превратил его в формальный мифологический мотив, или мифологему. Причина – или, вернее, цель – этого перевода с первого взгляда не совсем ясна. Но если вспомнить фундаментальный принцип терапии, состоящий в том, что симптомология болезни одновременно представляет собой естественную попытку исцеления – боли в сердце, например, являются попыткой вызвать эмоциональный взрыв, – то и пяточный симптом мы должны также рассматривать как своего рода попытку лечения. Как показывает сновидение, благодаря этому симптому характер мифологического события придается не только недавним разочарованиям в любви, но и вообще всем прочим разочарованиям, например неудачам в школе и т. д., – как будто это может каким-то образом помочь пациенту.
313 Наверное, все это может показаться совершенно неправдоподобным. Но древнеегипетские жрецы-целители, исполнявшие речитативом гимн змее-Исиде против змеиного укуса, вовсе не находили подобное предположение невероятным; и не только они, но и весь мир верил, как еще и сегодня верят первобытные народы, в магию с помощью аналогии или, по-другому, в «симпатическую магию»
314 Мы имеем здесь дело с психологическим феноменом, лежащим в основе магии через посредство аналогии. Не следует считать это древним суеверием, которое мы давно переросли. Внимательно читая латинский текст Мессы, постоянно наталкиваешься на знаменитый «sicut»[33]33
Как (лат.).
[Закрыть], в зависимости от обстоятельств вводящий аналогию, с помощью которой должно произойти изменение. Другой замечательный пример аналогии – разжигание огня в Sabbatus sanctus[34]34
Святая суббота (лат.).
[Закрыть]. Как известно, раньше огонь высекали из камня; еще раньше он добывался трением (возникающем при «сверлении» деревянного бруска), что было прерогативой храма. Поэтому в молитве священника говорится: «Deus, qui per Filium tuum, angularem scilicet lapidem, claritatis luae fidelibus ignem contulisti productum ex silice, nostris profuturum usibus, novum hunc ignem sanctifica» («Боже, Ты, который через Сына Своего, зовущегося краеугольным камнем, принес огонь света Своего верующим, освяти этот новый, высеченный из кремня огонь, для нашего пользования»). Через аналогию Христа с краеугольным камнем простой кремень поднимается до уровня самого Христа, разжигающего новый огонь.
315 Рационалист, возможно, посмеется над этим. Но, когда мы сталкиваемся с подобными вещами, что-то откликается у нас глубоко в душе, да и не только у нас, а у миллионов христиан (мужчин и женщин), даже если мы называем это лишь чувством прекрасного. То, что отзывается в нас, и есть та первооснова, те древние структуры или паттерны человеческого разума, которые мы унаследовали из глубины веков, а вовсе не приобрели в ходе своей короткой жизни.
316 Если бы такое сверхиндивидуальное психическое существовало, то, наверное, все переведенное на язык образов было бы лишено личного, а в случае осознания воспринималось бы sub specie aeter-nitatis[35]35
С точки зрения вечности (лат.).
[Закрыть], то есть не как индивидуальная скорбь, но как скорбь мировая; не как личная, обособляющая боль, но как боль без ожесточения и злобы, объединяющая все человечество. Целительный эффект в этом случае не нуждается в доказательстве.
317 Но я до сих пор не привел доказательства того, что такая надындивидуальная психическая деятельность существует на самом деле, которое удовлетворяло бы всем требованиям. Мне бы хотелось сделать это теперь, и снова в форме примера: речь идет о случае одного душевнобольного в возрасте около тридцати лет, страдавшего параноидной формой шизофрении. Он заболел рано, сразу по достижении двадцатилетнего возраста. С детских лет он демонстрировал редкую смесь интеллекта, упорства, граничившего с упрямством, и фантазерства. Служил он рядовым секретарем в одном консульстве. Видимо, в качестве компенсации своего весьма скромного существования этот человек был одержим мегаломанией и считал себя Спасителем. Он страдал галлюцинациями и временами приходил в состояние сильного возбуждения. Когда же он был спокоен, ему позволяли свободно прогуливаться по больничному коридору. Однажды я застал его там за следующим занятием: он смотрел из окна на солнце, жмурился и при этом как-то странно двигал головой из стороны в сторону. Он тут же взял меня под руку и сказал, что хочет мне кое-что показать: я должен, глядя на солнце, моргать, и тогда я смогу увидеть солнечный фаллос. Если я буду производить движения головой, то солнечный фаллос будет двигаться тоже, а это мол и есть источник ветра.