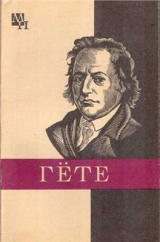
Текст книги "Гёте"
Автор книги: Карен Свасьян
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
В возражении Шиллера: «Это не опыт, это идея» – идея оттого и не может совпасть с опытом, что мыслится изначально разнородной с ним. Рассудок предписывает природе правила, говорит Кант. Но откуда взялась в нем эта способность предписания, если не из самой природы! Между тем «сама» природа безмолвствует у Канта; «наше» познание природы оказывается извлечением из природы вложенного в нее нами же нашего рассудочного произвола. «…Мы a priori познаем о вещах лишь то, – пишет Кант, – что вложено в них нами самими» (14, 3, 88). Попытаемся расшифровать этот тезис в терминах очевидности. Если, скажем, мы видим падающее яблоко, то мы «научно» видим его не потому, что оно падает, а оно падает потому, что мы заведомо вложили в него «Principia» Ньютона. Неудивительно, что Мольеру оставалось в такой ситуации лишь закидывать невод в «плодотворную глубину» рассудочного опыта… Впрочем, самозваный рассудок оказался на руку не только комедиографам; уже в пределах самой философии он спровоцировал сильнейшее негодование с обратного конца и рост иррационализма, потребовавшего «вышвырнуть рассудок за его пределы» (формулировка Бергсона). Гёте и здесь сохраняет мудрую меру равновесия: «Я желал бы критики человеческого рассудка» (7, 5, 365). Критика рассудка– точное определение его прав и функций. По самой природе своей рассудок назначен расчленять и аналитически прояснять опыт. Ложь и бессмысленность его начинаются с момента, когда он полагает себя основой опыта. Может ли анализ быть основой? «Аналитику, – говорит Гёте, – грозит большая опасность, когда он применяет свой метод там, где в основе нет никакого синтеза. Тогда его работа полностью уподобляется усилиям Данаид» (7, 2, 61). Анализ не только предваряется опытом, но и полностью обусловливается им в стадии познания, называемой Гёте «научным феноменом». Понятия вступают здесь в силу, но не в модусе законодательности, а для выражения объективных законов. Понятие ведь и значит понять. Допонятийный поток чувственных восприятий именно непонятен; в нем есть всё, кроме понятия; иначе говоря, в нем есть закон, но отсутствует понятие закона, так что закон остается непонятным. Необходим анализ, искусственное расчленение потока, который только таким образом может обнаружить через рассудок свои закономерности. Собственно говоря, в восприятиях нам дано не столько содержание опыта, как полагал Кант, сколько именно форма (субъективная), и эта форма есть не что иное, как форма проявления понятия, которое полностью содержательно, так как дает нам возможность объективно понять явление. У Канта потому и выглядит все наоборот, что понятие в его аналитике наделено не понимающей функцией, а определяющей. Кантовское понятие извне привносится в поток восприятий и облицовывает их терминами; но в термине нет понимания; прежде чем понимать термином, необходимо еще понять и самый термин. Поэтому понятие может быть либо содержательным, либо ему остается быть пустым. В восприятии оно находит себе не что иное, как форму выражения своего содержания, которое и есть объективное содержание (содержание объекта). Эта стадия познания характеризуется Гёте как « чистый феномен», или « первофеномен». Здесь, по Гёте, и достигается труднейшее: взятие вещи такой, как она есть на самом деле. Это «на самом деле» и есть сама мысль, которая отражается в рассудке, как понятие, а в разуме, как идея. Мысль, следовательно, не оторвана от природы, а есть венец развития самой природы («громовой вопль» ее восторга перед вершиной собственного становления); между внешним свершением природы и внутренним процессом мысли существует глубочайшая родственная связь, так что, мысля, мы присутствуем не в мозговом изоляторе, а в самом средоточии «вещи в себе». «Природу и идею, – говорит Гёте, – нельзя разделить, не разрушив тем самым искусство и жизнь» (7, 5, 503). И еще: «То, что называют идеей, всегда обнаруживается в явлении и выступает как закон всякого явления» (9, 13(4), 39).
Посылая Гёте экземпляр своего «Наукоучения», Фихте писал ему в сопроводительном письме: «Философия не достигнет своей цели, покуда результаты рефлектирующей абстракции не примкнут к чистейшей духовности чувства. Я рассматриваю Вас, и всегда рассматривал Вас, как представителя этой духовности на современной достигнутой человечеством ступени развития. К Вам по праву обращается философия. Ваше чувство – пробный камень ее» (34, 435). Круг замкнулся. Гёте, вынужденный стать философом, потребовал и от философии невозможного, что на его языке было равнозначно умению « жить в идее», а не просто писать о ней книги. Немногие философы поняли и приняли это; в целом же и здесь сработало четко сформулированное им однажды правило: «Каждый слышит только то, что он понимает» (7, 5, 355).
Глава V. «ГАЛИЛЕЙ ОРГАНИКИ»
Непреходящей, бессмертной заслугой Гёте-естествоиспытателя останется создание науки об органическом мире. Этот вопрос требует предварительного уяснения некоторых пунктов, в связи с которыми историкам науки приходится испытывать ряд трудностей и недоразумений. Как правило, суть дела упирается в отдельные биологические открытия или догадки Гёте, оценка которых колеблется в связи с общими установками историка. Уже с конца прошлого века неоднозначность, а временами и несовместимость оценок бросались в глаза; панегирики в адрес гётевского естествознания перекрещивались с негативными выпадами вплоть до прямой хулы. Достаточно будет сопоставить книгу известного фармаколога и историка науки Р. Магнуса «Гёте как естествоиспытатель» (44), где биологическим открытиям Гёте приписывается исключительная значимость, с работой другого историка науки, И. Кольбругге, «Историко-критические исследования о Гёте как естествоиспытателе» (43) или – ближе по времени к нам – с книжкой английского физиолога Ч. Шеррингтона «Гёте о природе и науке» (55), не только отрицающими за Гёте какие-либо научные заслуги, но и доказывающими научную вредоносность его естествознания, чтобы картина прояснилась сполна. Полюсы выравниваются более сдержанным признанием естественнонаучного наследия Гёте, где последнему отводится и вовсе уж подозрительное место: между натурфилософскими фантазиями, с одной стороны, и биологической наукой – с другой, т. е. между, скажем, Кильмайером и Тревиранусом и Дарвином и Геккелем; Гёте-де уже был свободен от околонаучных тенденций, но еще далек от строго научных, так что в целом его значимость определяется рядом гениальных толчков, которые он дал вновь зарождающейся органике, оказавшись предтечей будущих свершений и т. д. и т. п.
Вносить ясность в эту разноголосицу, на наш взгляд, было бы неблагодарным занятием, так как неплодотворной и прямо тупиковой представляется нам сама постановка вопроса. Гёте действительно принадлежат многие большие и малые открытия в сфере биологии, но оценивать его значимость в этом русле, сводить ее только к этому уровню значило бы проглядеть существенное и наиболее уникальное. Дюбуа-Реймон в своем двусмысленном отношении к естествознанию Гёте высказал мысль, что «наука и без Гёте продвинулась бы вообще до своего настоящего уровня» (28, 31). Это утверждение представляется нам вполне справедливым и приемлемым, но с одной поправкой: «без Гёте» означает – без отдельных открытий, сделанных Гете. Необходимо строго различать у Гёте эти открытия и науку об органическом как таковую. Гетевские открытия в любом случае были бы сделаны и без него; они частично и были сделаны одновременно с ним и даже немногим раньше его; так, французский естествоиспытатель Ф. Вик д'Азир почти в одно время с Гёте обнаружил межчелюстную кость у человека, а немецкий ученый Л. Окен выдвинул позвоночную теорию черепа, что впоследствии привело его даже к спору о приоритете. «Многие мысли, – говорит Гёте, – вырастают только из общей культуры, как цветы из зеленых веток. В период цветения роз повсюду распускаются розы» (7, 5, 395). Суть дела, однако, вовсе не в открытиях, а в способе, каким они были сделаны. Сам Гёте никогда не соблазнялся комплексом первооткрывателя; его интересовали не открытия сами по себе, сколь бы значительными они ни были, а тайна живого. Он учился адекватно постигать жизнь; этой центральной задаче подчинялась вся его практическая деятельность естествоиспытателя. «После того, – признается он однажды, – что мне довелось увидеть, исследуя растения и рыб у Неаполя и в Сицилии, будь я на десять лет моложе, мне было бы трудно удержаться от соблазна совершить путешествие в Индию, не для того чтобы открыть нечто новое, а чтобы рассмотреть открытое по моему способу» (57, 101). Открытия приходили сами собой и побочно, в подтверждение способа исследования. Так, между прочим, случилось со знаменитой os intermaxillare (межчелюстной костью). «Его поначалу не интересовал вопрос: есть ли у человека, как у прочих животных, межчелюстная кость в верхней челюсти. Он хотел обнаружить план, по которому природа образует градацию животных и кульминирует эту градацию человеком. Общий праобраз, лежащий в основании всех животных видов и, наконец, в своем наивысшем совершенстве проявляющийся в человеке, – вот, что он хотел найти. Естествоиспытатели говорили ему: в строении животного и человеческого тела существует различие. В верхней челюсти у животных имеется промежуточная кость, каковая отсутствует у человека. Его же воззрение состояло в том, что физическое строение человека может отличаться от животного лишь по степени совершенства, а не в частностях. Ибо в последнем случае в основании животной и человеческой организации не мог бы лежать общий праобраз. Утверждение естествоиспытателей заводило его в тупик. Поэтому он взялся за поиск промежуточной кости у человека и обнаружил ее» (57, 102).
В этом отрывке, принадлежащем перу Рудольфа Штейнера, впервые осуществившего в 80-х годах прошлого века систематизацию и редакцию естественнонаучного наследия Гёте, наияснейшим образом подчеркнута специфика гётевской биологии.
Сосредоточивать внимание на отдельных открытиях, которые никогда не выступали у Гёте как самоцель, но всегда как средства к выработке способа исследования, – значит способствовать укреплению разноголосицы в оценке их, примеры чего мы уже приводили выше. В этом плане Гёте хоть и представляет немалый интерес, но полностью стушевывается в самом главном. Быть предшественником Дарвина и разделять с Океном приоритет на научное открытие, разумеется, весьма почетная привилегия. Отметить ее у Гёте – долг исследователя; но свести к ней Гёте – значит зачеркнуть то именно, в чем он не только никакой не предшественник, но и по сей день никем не превзойден. Речь идет, повторяем, о способе, каким он исследовал мир живых существ, открыв тем самым – сквозь все отдельные открытия – возможность самой науки об органическом.
Краткий исторический экскурс необходим и в этом случае. Без предварительной картины общего состояния биологии, с каковой пришлось столкнуться молодому Гёте, смысл и значимость содеянного им останутся недоступными.
Собственно, говорить о биологии применительно к тому времени можно лишь условно и с большой натяжкой. Мишель Фуко в парадоксально точных выражениях дал характеристику ситуации: «Хотят писать историю биологии XVIII века, но не отдают себе отчета в том, что биологии не существовало… и что на это имелась весьма простая причина: отсутствие самой жизни. Существовали лишь живые существа, являющиеся сквозь решетку знания, образуемого естественной историей» (30, 139). Иначе говоря, отсутствовала сама идея организации живых существ; эмпирическое разнообразие живого долгое время опережало попытки как структурного овладения материалом, так и постижения внутренних принципов его строения. Материал нарастал в чудовищных темпах; расширение географических рамок взрывной волной преобразований прошлось по всем слоям европейской культурной жизни вплоть до представлений о флоре и фауне. Приток новых, чужестранных растений, культивация картофеля и табака, знакомство с экзотическими видами животного мира бесповоротно снесли старый, средиземноморский авторитет Плиния и Теофраста, отвердевший в веках в исключительную догму. Возникала новая культура – зоологических музеев и ботанических садов. Вполне понятно, что все это требовало порядка и системы: миссия, осуществить которую взялась естественная история. XVII век – век естественных историй, где реальные естества соседствуют с мифическими. Забыты все метафизические волнения; страсть к наведению порядка оказалась превыше всего. Белон пишет «Историю птиц», Альдрованди – «Историю Змей и Драконов», Дюре – «Восхитительную историю растений», Джонстон – «Естественную историю четвероногих», Рей – знаменитую «Общую историю растений». Высочайшего уровня достигла эта тенденция уже в XVIII в. у Карла Линнея. «Систематик по врожденному, яркому таланту, систематик до мозга костей, доводивший свое влечение к классификациям порою до курьезов…» – так характеризует шведского ученого отечественный историк науки В. В. Лункевич (16, 2, 333). Образцом такого курьеза может послужить, к примеру, линнеевская классификация наряду с растениями самих ботаников («фитологов», как он их называет), которые сначала делятся на две группы: Botanici (ботаники) и Botanophili (любители ботаники), затем первая группа снова делится на две подгруппы: Collectores et Methodici (собиратели и методисты), каждая из которых в свою очередь распадается на множество мелких подгрупп: Collectores – на Patres (отцы, или собственно собиратели растений), Commentatores (комментаторы «отцов»), Ichniographi (рисовальщики растений), Adonides (собиратели экзотики), a Methodici – на Philosophi (философы), Systematici (систематики), Nomenclatores (наименователи). Таксономический экстаз на этом не кончается: Philosophi снова распадаются на Oratores (ораторы), Eristici (спорщики), Physiologi (физиологи, занятые проблемой пола у растений), Institutores (учредители канонов ботанической методики). В свою очередь Systematici дробятся на Fructistae (классификаторы по плодам), Carollistae (классификаторы по венчику), Calicistae (классификаторы по чашечке), Sexualistae (классификаторы по полу). Группа Botanophili (придется ее вспомнить) также подвергается здесь распаду, но, Думаем мы, можно со спокойной совестью остановиться и на этом.
Нетрудно догадаться, каково в этой системе было самим растениям. Достаточно упомянуть одну лишь калькуляцию Линнея: 38 органов генерации, включающие каждый четыре переменные величины, допускают 5776 конфигураций, достаточных для определения родов (см. § 167 его «Философии ботаники»). Таким мощным противоударом ответила наука на разрастающийся в хаос эмпирический материал. Впрочем, едва ли можно говорить здесь о курьезах: такова была общая программная страсть эпохи, движимой импульсом к господству над природой и научно реализующей этот импульс на старый имперский лад: разделяй и властвуй. Влияние Линнея, подчинившего живую природу строжайшей классификационной дисциплине, было огромным; не избежал его и Гёте. «Я хочу признаться, – пишет он, – что после Шекспираи Спинозынаибольшее воздействие оказал на меня Линней, и как раз через противодействие, к которому он меня спровоцировал» (7, 1, 68). Причина противодействия вскрыта со всей определенностью: «…рожденный поэтом, я стремился создавать свои слова, свои выражения в непосредственной связи с соответствующими предметами, чтобы до некоторой степени удовлетворять им. И вот такому человеку приходилось удерживать в памяти готовую терминологию, иметь наготове известное число существительных и прилагательных, чтобы при встрече с какой-либо формой мочь, производя подходящий выбор, применять и сочетать их для характеристичного обозначения. Подобный способ всегда казался мне некоторого рода мозаикой, где один готовый камешек помещают возле другого, дабы в конце концов из тысячи отдельных кусков создать видимость картины, и поэтому такое требование было мне в некоторой степени отвратительным» (7, 1, 76). Как бы то ни было, школу эту следовало пройти; гётевский принцип – использовать даже враждебные вещи – оказал ему услугу и здесь: поэту пришлось посторониться и уступить место прилежному каталогизатору.
Драматичность ситуации была обусловлена самой спецификой характера Гёте. Резолюция, наложенная им однажды в административном порядке: « Все зависит от личности» – в полной мере сохраняла силу во всех проявлениях этого характера, и наука не могла составить здесь исключения. Ему был бесконечно чужд тип ученого мужа, культивирующего стерильную объективность ценою чудовищно репрессивных мер в отношении собственной личности, где идеалом научного знания выступало насильственное самоотчуждение от научного поиска. Об этих ученых выразился он однажды в таких словах: «Слишком велика масса неполноценных людей, которые оказывают влияние и воздвигают свое ничтожество друг на друге» (9, 38(4), 13). Его случай был вполне полноценным; его наука имитировала не «гримасничающую серьезность совы» (как он выразился в другой раз), а веселую науку провансальских трубадуров: «…теоретизировать сознательно, с привлечением своих знаний, свободно и, если воспользоваться смелым словом, иронично; такое умение необходимо для того, чтобы абстракция, которой мы опасаемся, оказалась бы безвредной, а результат опыта, который мы ожидаем, – вполне живым и полезным» (7, 3, 79). По этому принципу он не только теоретизировал, но и жил; «Зезенгеймские песни», «Гец фон Берлихинген», «Метаморфоз растений» проистекают из одного источника и морфологически равноценны. Понятно, что в живой природе внимание такого человека могла привлекать не решетка классификации, а сама жизнь. В одном юношеском письме он пишет об увиденной им бабочке: «Бедное создание трепещет в сачке, стирает свои прекраснейшие цвета, и когда его ловят невредимым, оно лежит уже застывшим и безжизненным; труп не есть всё животное, здесь недостает чего-то еще, чего-то главного, а при случае, как и при всех случаях, чего-то очень главного: жизни» (9, 1(4), 237). Между тем именно жизни недоставало и вновь зарождающейся науке о живой природе; наилегчайшее и здесь оказывалось наитруднейшим: видеть глазами то, что лежало перед глазами. Наука о живом росла и крепла под строжайшим присмотром более старшей по возрасту и несоизмеримой по успехам науки о неживом; гегемон механистической модели не мог не сказаться и в этом случае. Мы уже имели возможность ранее отметить особенности общего стиля эпохи, словно бы запрограммированной в гигантских масштабах идеей формализованного порядка. Порядок стал бредом, одержимостью, невменяемостью ума; все, что грешило против правил этого порядка, подлежало либо исправлению, либо исключению: Драйден переписывал Шекспира согласно правилам, издатели вычеркивали из него сотни строк, Фридрих II благодарил Вольтера за редактированный перевод «бесформенной пьесы этого англичанина»; во Франции свирепствовал Буало, и «исправленные» гомеровские герои вели себя на подмостках сцен, как будущие персонажи романов Дюма; триумф суровейших правил вызвучивался в барочной музыке; теологи упорядочивали небеса по схеме конституционной монархии – «даже Бог Локка, – как удачно выразился один английский исследователь, – был вигом» (24, 3); открывалась эпоха нотариусов и бюрократов, где сама Вселенная моделировалась на манер бесконечного «конструкторского бюро» при отсутствии нужды клерков в гипотезе Главного Конструктора. Мода на математику, ибо что в большей степени могло гарантировать порядок, как не математика, побивала все рекорды истории мод; математикой бредили все: мужчины, женщины, сановные особы, обыватели; появлялись придворные математики; Фонтенель приписывал все хорошие книги a l'esprit geometrique (духу геометрии). Понятно, что метод Линнея в этом контексте не мог быть курьезом; скорее напротив, курьезом оказывалось все не подчиняющееся этому методу. Богатство и разнообразие форм живой природы вносили пугающий диссонанс в господствующее умонастроение эпохи; «жизнь» грозила « порядку» чем-то очень главным и ему недостающим: собою. Здесь и сыграл свою роль таксономический гений шведского ученого, подчинившего природу господству вымышленных знаков и структур.
Что могло отталкивать от всего этого Вольфганга Гёте? Ответ напрашивается со стремительной силой: его личность. Коллизия была очевидной: его в равной степени влекло и к природе, и к науке о природе. Но столкнулся он и здесь, и там с совершенно различными и противоположными мирами; созерцание и мышление, опыт и идея оказывались разъятыми по всем правилам философской образованности. Опыт был опытом жизни, идея представала застывшей и безжизненной. Опыт створял с живыми растениями, идея преображала их в гербарий отвлеченных структур. Опыт имел дело с естеством, идея обнаруживалась как естествознание, в котором не было естества, а знание было знанием неестественного. Гёте вспоминал впоследствии свое знакомство с одним из образцов такого «естествознания»: «Нам было непонятно, как могла такая книга считаться опасной. Она казалась нам до такой степени мрачной, киммерийской, мертвенной, что неприятно было держать ее в руках; мы содрогались перед ней, как перед призраком» (2, 3, 413). Недоставало чего-то при всех случаях очень главного: связи, перехода, жизни. Недоставало личности, которая за субъективностью была отстранена от дел, дабы не вносить разлад в призрачное царство объективности. «Абсурдный народ! – еще раз перед самой смертью резюмирует Гёте. – Совсем как некоторые философы среди моих соотечественников. Тридцать лет просиживают они в запертой камере, не глядя на мир. Все их занятие в том лишь и состоит, чтобы снова и снова просеивать сквозь сито идеи, выцеженные ими из собственных убогих мозгов, и в этом находят они неиссякаемый источник оригинальных, великих, дельных озарений! Вы знаете, что при этом выходит наружу? Химеры, сплошные химеры! Глуп был я, долго сетуя на эти сумасбродства: нынче позволяю я себе в свой старческий досуг смеяться над ними!» (34, 730).
Личность требовала единства многообразия. Линней изучался ежедневно, но при этом ювелирный порядок его классификаций воспринимался как маска хаоса и распада. «Его резкие, остроумные обособления, меткие, целесообразные, но часто произвольные законы… представали мне внутренне как разлад: то, что он силился насильственно разъединить, должно было, по глубочайшей потребности моего существа, стремиться к соединению» (7, 1, 68). Живое требовало жизни. Естественная история и система природы должны были претвориться в биологию.
В скором времени корень проблемы обнаружился самым ясным образом. Не представляло особого труда заметить, что все сводилось к способу исследования. Способ был наспех и безоглядно позаимствован из механики, которая уже не только числилась царицей наук, но и начинала слыть наукой как таковой. Здесь и столкнулись с очевиднейшим препятствием. Механика занята неживым; ее способ вполне отвечает неорганической природе. Но допустимо ли переносить на живое в качестве объясняющего принципа метод, имеющий значимость только в неживом? Мертвый организм есть ли организм? Говоря словами юношеского письма Гёте– труп бабочки есть ли сама бабочка? Но труп – в ведении патологоанатомии; в чьем же ведении живая бабочка, которая ищет не только распятия в коллекции, но и объяснения в жизни? Крах механистического способа засвидетельствовал не кто иной, как Мефистофель:
Выход из тупика искали, в частности, путем противопоставления механицизму виталистического способа рассмотрения. Предполагалась некая «жизненная сила», одушевляющая органический мир. При этом ссылались на Парацельса, Ван-Гельмонта; эксплуатировали данные алхимии и натуральной магии, но уловом стало метафизическое понятие с выхолощенным содержанием. «Жизненная сила» оказалась по существу перенесенной в науку театральной развязкой Deus ex machina (Бог из машины); о науке здесь не могло быть и речи.
Безысходность ситуации потребовала философского вмешательства. Кант, успевший уже обосновать возможность механики, взялся теперь за обоснование возможности органики. Парадокс, однако, состоял в том, что если в первом случае он исходил из фактического наличия механистической науки, то во втором случае пришлось иметь дело не с фактом, а с проблемой. Органики фактически не существовало, и вопрос о ее возможности становился, таким образом, не просто вопросом о ее логической возможности, но вопросом о возможности ее как фактической науки. Решение, предложенное Кантом, поразило парадоксальным сочетанием в нем резкой определенности и не менее резкой двусмысленности.
Механистический способ рассмотрения живой природы подрубается здесь под корень. В одном из ранних своих трудов Кант четко определил водораздел: «…пусть не покажется странным, если я позволю себе сказать, что легче понять образование всех небесных тел и причину их движений, короче говоря, происхождение всего современного устройства мироздания, чем точно выяснить на основании механики возникновение одной только былинки или гусеницы» (14, 1, 127). Механистически объяснить явление – значит разложить его в анализе на составные части и, проследив их взаимосвязь, обобщить в понятии. В живом организме дело обстоит существенно иначе; его части не поддаются никакому обобщению. Принцип живого не общее, а целое, т. е. не совокупность частей, а их особая организованность и подвижная взаимопроникновенность. Механическая часть всегда меньше совокупности частей; в организме каждая часть по-своему равна целому, так как целое неделимо и нерасчленимо; оно присутствует во всем и в каждой отдельности, специфицируясь всякий раз сообразно части и оставаясь всегда равным себе. Если, скажем, наблюдая растение, мы фиксируем отдельные его органы, мы можем говорить о них как следствиях чего-то. Но это что-то не принадлежит ни одному органу, ни их сумме; оно есть некий формообразующий принцип, действующий во всех органах как бы «нераздельно и неслиянно». Кант следующим образом определяет организм: «…органический продукт природы – это такой, в котором все есть цель и в то же время средство. Ничего в нем не бывает напрасно, бесцельно и ничего нельзя приписать слепому механизму природы» (14, 5, 401). Шокирующие последствия этого представления вскрывает Гёте. «Действие природы, – так говорит он об организме, – которое по идее мы должны мыслить как зараз одновременное и последовательное, может довести нас до своего рода сумасшествия» (7, 1, 117). Понятно, что механика совершенно бессильна перед таким действием природы, что и фиксирует Кант в следующем ярком отрывке: «Вполне достоверно то, что мы не можем в достаточной степени узнать и тем более объяснить организмы и их внутреннюю возможность, исходя только из механических принципов природы; и это так достоверно, что можно смело сказать: Для людей было бы нелепо даже только думать об этом или надеяться, что когда-нибудь появится новый Ньютон, который сумеет сделать понятным возникновение хотя бы травинки, исходя лишь из законов природы, не подчиненных никакой цели…» (14, 5, 428).
Яснее и определеннее не скажешь. В сфере механики, по Канту, мы подводим частное под общее, явление под понятие. В органике дело обстоит иначе: нам дано частное, для которого нужно найти общее. Рассудок уже не штампует чувственный опыт априорными метками, а вынужден искать принцип, сообразуясь с единичным. Но найти его он не может ни в опыте, ни в самом себе. Опыт не дает его, так как сам нуждается в нем, чтобы стать осмысленным. Не дает его и рассудок, так как речь идет не о предписании закона явлению (механика), а о возможности мыслить явление сообразно закону, чего «наш» рассудок, по Канту, не в состоянии делать. Делает это особая способность, называемая Кантом «рефлектирующей способностью суждения», где понятие уже принадлежит не рассудку, а оказывается как бы присущим самому явлению. Во всей кантовской философии нет другого более драматичного и конфликтного хода мысли, чем описанный, к которому привела его непредвзятая сила анализа. Еще шаг – и он должен был заговорить (до Шеллинга) на языке Шеллинга. Но последнее слово осталось за высотобоязнью (вспомним: «Высокие башни, вокруг которых шумит ветер, – не для меня»). Кант спешит обратно, к опыту низовий. Его вывод: предмет механики дан в чувственном опыте, понятию здесь есть что синтезировать, тогда как предмет органики не чувственный, а сверхчувственный, и для того, чтобы синтез был возможен, рассудок должен иметь особый сверхчувственный материал. Этот материал он сам мог бы дать себе через созерцание., но тогда ему пришлось бы уже быть не дискурсивным, а интуитивным. Между тем человеческий рассудок именно дискурсивен и неразрывно связан с чувственным. Сверхчувственный опыт вне его возможностей.
«Когда я стремился, – пишет Гёте, – если и не проникнуть в кантовское учение, то хотя бы по возможности использовать его, мне порой казалось, что этот превосходный муж действовал с плутовской иронией, когда он то словно бы старался самым тесным образом ограничить познавательную способность, то как бы кивком указывал на выход за пределы тех границ, которые он сам провел» (7, 1, 115). Последний случай мы уже обсуждали раньше; речь идет о кантовском чисто теоретическом допущении мыслимости интуитивного ума, реальность которого у человека тем не менее решительно им отрицается. По существу на такого рода кивках и строит Кант свое дальнейшее объяснение. Подведем его итоги. Органика не может опираться на механистический способ рассмотрения. Она требует самостоятельного и сообразного собственной специфике обоснования. Но, с другой стороны, наука может быть только опытной наукой, а опыт в свою очередь только чувственным опытом. Опыт органики выходит за пределы чувственного мира, и это значит, что рассудку с ним делать нечего. Следовательно, органика, как наука, невозможна.
Так в негативном плане. Но, отказывая органике в праве на научность, Кант вынужден считаться с фактом органического мира. Здесь и вступает в силу «кивок». Если интуитивный рассудок чисто теоретически не содержит в себе никакого противоречия, то сверхчувственное единство организма мы можем рассматривать так, как если бы оно было предписано природе именно таким рассудком. Ведь кроме рассудочных понятий человек обладает еще и разумом, содержащим идеи, высокие регулятивные принципы, в которых и не пахнет никакой научностью, зато куда как пахнет переодетой теологией, отжившей свой век и наделенной, на чисто английский лад, всем иллюзионом царственной особы. Что касается научной стороны, то здесь все обошлось по принципу: «Механика умерла! Да здравствует механика!» Теоретическое естествознание, по Канту, возможно только в пределах механистического способа исследования. Поэтому, несмотря на принципиальную (!) непригодность механистического объяснения органической природы, мы должны все-таки объяснять ее механистически, как этого требует строгая научность, но, с другой стороны, поскольку механистический подход неадекватен живому явлению, нам остается ввести в игру резервы разума и выпутываться из ситуации с помощью регулятивной фикции « как если бы» (als ob). Вот ее образчик в рассуждениях самого Канта: так как чувственный опыт не содержит в себе ничего сверхчувственного, а таковой именно и является целесообразность природы, то «…понятие целесообразности природы в ее продуктах (т. е. в организмах. – К. С.) будет для человеческой способности суждения в отношении природы необходимым, но не касающимся определения самих объектов понятием, следовательно, оно будет, субъективным принципом разума для способности суждения, который как регулятивный (не конститутивный) принцип для нашей человеческой способности суждения имеет такую же необходимую значимость, как если бы он был объективным принципом» (14, 5, 433–434). В итоге долгом исследователя оказывается: «…все продукты и события природы, даже самые целесообразные, объяснять механически настолько, насколько это в нашей возможности (пределы которой для этого способа изучения мы не можем указать)…» (14, 5, 446). Нужно только не упускать из виду, что этот тип объяснения (в отличие от чистой механики) нуждается в особом покровительстве регулятивных фикций разума.








