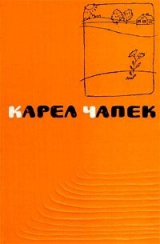
Текст книги "Метеор"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
XXXV
Бывший мистер Кеттельринг не усидел в отеле и выбежал на улицу. И вот ночью он сидит в порту, на штабеле шпал, под присмотром негра-полицейского, и, упершись локтями в колени, смотрит, как плещется черная вода. Теперь он все вспомнил и лишь наводит порядок в памяти, словно тасует колоду карт – надо, чтобы они лежали ровно, по порядку, что бы ни одна не торчала. И он переворачивает то одну, то другую: да, все на месте, нехваток нет. Странное это чувство – то ли облегчение, то ли бремя непосильных воспоминаний…
Вот, скажем, родной дом. Дом без матери, громадные комнаты с тяжелыми портьерами и солидной черной мебелью. Отец большой, чужой и строгий; ему некогда заняться с сыном. Аккуратная, робкая тетушка: смотри, мальчик, там не садись, этого не бери в ротик, нельзя играть с такими грязными детьми. Полосатый красно-зеленый мячик – самая любимая игрушка, ведь она украдена на улице у заплаканного мальчугана, одного из тех сопливых счастливцев, которым разрешается бегать босиком, возиться в грязи и сидеть на корточках в песке.
Бывший Кеттельринг улыбается, глаза его сияют.
Вот видишь, тетя, я все-таки побегал босиком, был грязен, как угольщик. Я ел огурцы "чучу", которые негритянка обтирала грязным подолом, ел незрелые гуайявы, подобранные на пыльной дороге… Кеттельринг чувствует что-то вроде злорадного удовлетворения: я все-таки поступил по-своему!
Потом он стал беспокойным подростком, чью врожденную грубоватость подавляло так называемое воспитание. Он начал понимать предназначение своего отца. Это предназначение – постоянно наживать деньги. Для этого нужны заводы. Предназначение отца в том, чтобы заставить работать на себя как можно больше людей, а платить им как можно меньше. Мальчик видит: рабочие валят толпой из ворот завода. От них исходит какой-то особый кисловатый запах. Ему кажется, что все они ненавидят его. Отец привык распоряжаться и покрикивать. Бог весть, как долго надо помыкать людьми и обижать их, чтобы накопить такое богатство. Пожалуй, не стоит оно всей этой злобы. Но что поделаешь, собственность – не мертвая материя, она хочет жрать, чтобы не сдохнуть, ее надо кормить. Со временем, мальчик, все это состояние будет доверено тебе, для того чтобы ты приумножил его, а не только владел им. Поэтому учись бережливости и старайся изо всех сил, ведь ты будешь принуждать людей усердно трудиться и довольствоваться малым. Я воспитываю в тебе делового человека, ращу из тебя слугу своего капитала.
Бывший Кеттельринг усмехнулся. Стало быть, умение распоряжаться людьми и не щадить их – это у меня от отца. Все-таки, значит, я кое-что унаследовал. А тогда… тогда все это очень не нравилось молодому человеку. Он был легкомыслен и ленив, быть может, лишь из протеста против того, что ему заранее определили его будущее. Мы, мол, существуем не для самих себя, а для того, чтобы служить собственности: кто не служит своей собственности, будет служить чужой, таков закон жизни. И ты, мальчик, пойдешь по моим стопам.
Бывший Кеттельринг тихо засмеялся. Нет, он решительно не пошел по стопам отца. Он был только наследным принцем, который ждет, когда все владения перейдут в его руки. Но, как назло, он попал в дурную компанию… ну и все такое прочее. Конечно, влез в долги, правда, пустяковые, однако бросившие на него тень. Отец, дрожа от возмущения, допрашивал сына: что, мол, это значит, на что ты тратил деньги. Ты, мальчишка, думаешь, что я тружусь, чтобы ты, негодник, мог швырять деньги, которые я зарабатываю и коплю?
И тут сыночек взорвался. Разумеется, только из упрямства, своенравия, из необузданной вспыльчивости. Стиснув кулаки, он крикнул в лицо отцу: "Возьми свои деньги, подавись ими, мне они не нужны. Плевать мне на них, они мне противны, не воображай, что я буду таким рабом денег, как ты!"
Отец побагровел – удивительно, как его тогда не хватил удар. "Вон!" – прохрипел он, указав на дверь.
Сыночек демонстративно хлопнул дверью, и, конечно, прощай, отчий дом!
Бывший мистер Кеттельринг покачал головой.
Боже, как глупо! Мало ли бывает в семье таких стычек, черт подери! Но в этот раз, как говорится, нашла коса на камень. Сын больше не вернулся домой и даже не откликнулся на приглашение отцовского адвоката. Сей почтенный правозаступник в конце концов отыскал блудного сына в постели какой-то "теоретической и практической анархистки" и, так как молодой человек не пожелал с ним больше встречаться, вынужден был изложить ему суть своей миссии в этой неподобающей обстановке. Однако же адвокат выполнил свою задачу вполне непринужденно: он то укоризненно хмурился, то источал тактичную и снисходительную благосклонность, как бы соглашаясь с тем, что юность вправе быть мятежной, особенно юность столь многообещающего наследника.
– Ваш уважаемый папаша не желает вас видеть, пока вы не образумитесь, мой юный друг, – сердечно начал он. – Не сомневаюсь, что вы постараетесь образумиться и это вам удастся, ха-ха, не так ли? Между нами говоря, – продолжал он, благоговейно склонив голову набок, – состояние вашего уважаемого папаши (он чуть не сказал "уважаемое состояние") оценивается сейчас примерно в тридцать – тридцать пять миллионов. С таким состоянием шутить нельзя, молодой человек. – При этих словах адвокат принял чрезвычайно серьезный и торжественный вид, но тотчас снова оживился. – Ваш уважаемый папаша просил меня передать, что он согласен, через мое посредство, выплачивать вам до совершеннолетия известное содержание. – Он назвал сумму, почти жалкую; старый скряга и в справедливом гневе остался верен себе. – Если же вы и потом не проявите благоразумия, то, разумеется… – Адвокат выразительно пожал плечами. – Но я надеюсь, что суровая школа жизни будет для вас благотворна.
– Давайте-ка сюда эти денежки! – отозвался наследник тридцати миллионов. – И скажите старику, что я желаю ему многих лет жизни, пусть он меня подольше подождет.
Анархистка восторженно зааплодировала.
Почтенный адвокат игриво погрозил ей толстым пальцем.
– Смотрите, не вскружите голову нашему юному другу. Пусть позабавится, почему бы и нет – но и только, понятно?
Девушка показала ему язык. Но сияющий благодушием адвокат уже сердечно жал руку блудного сына.
– Милый и дорогой друг, – сказал он растроганно, – мы все будем уповать на ваше скорое возвращение.
* * *
Блудному сыну тогда было восемнадцать лет. До совершеннолетия он пробавлялся, как умеют только молодые люди; сейчас он уже не помнит, как это ему удавалось, а главное, кому и сколько он остался должен. Ну конечно, Париж, Марсель, Алжир, Париж, Брюссель, Амстердам, Севилья, Мадрид и снова Париж… Насколько ему было известно, после распада семьи, отца ничто больше не удерживало, и он полностью предался прямо-таки болезненному стяжательству и мелочному, старческому скопидомству.
Бог с ним, пусть себе набивает мошну! Точно в день совершеннолетия перестало поступать скромное содержание. Блудный сын разъярился: "Думаете, я теперь приползу на коленях? Как бы не так!" Он попытался работать, но странное дело: именно теперь его постигли лишения и нужда, а когда он попробовал снова вести легкую жизнь, это уже не получилось, бедность наложила на него отпечаток, вызывавший недоверие у людей. Была у него тогда девушка, которая болела и осталась без работы. Ему было жалко ее и хотелось помочь. Он написал отцовскому адвокату, что просит на короткий срок несколько тысяч франков… и получил ровно столько, сколько стоит билет третьего класса из Парижа домой. В сопроводительном письме говорилось, что уважаемый папаша готов простить его, если сын проявит желание разумно трудиться дома, и так далее.
Пожалуй, именно в тот день блудный сын стиснул зубы и сказал себе уже без легкомысленной заносчивости: "Нет, лучше я сдохну с голоду".
Бывший мистер Кеттельринг, сидящий на бревнах в Порт-оф-Спейн на острове Тринидад, даже испугался: он сейчас вслух повторил эти же самые слова, но, произнося их, задумчиво покачал головой.
XXXVI
Сейчас Кеттельринг видит свое прошлое с поразительной ясностью: будь он тогда по-настоящему, действительно беден, он бы наверняка обосновался где-нибудь; возможность представлялась не раз, можно было, например, стать бухгалтером в Касабланке или коммивояжером по продаже перламутровых пуговиц в Марселе. Но представьте себе, что вы, наследник тридцати, сорока или пятидесяти миллионов – бог весть сколько накопил за это время старик! – подвизаетесь в роли коммивояжера, который с покорным терпением уламывает грубого, пыхтящего лавочника взять тридцать дюжин пуговиц. Временами Кеттельринг остро сознавал комичность своего положения и не мог отнестись к нему всерьез, не мог усердно, в поте лица выторговывать десяток франков или песет. По лицу его часто было видно, что он лишь забавляется своим делом, и это оскорбляло людей, да и сам он не раз развлекался такими провокационными выходками, что приходилось поскорей менять службу.
Кеттельринг вспоминает об этом не без удовольствия. Недешево я вам достался, ослы. Может быть, у вас еще и сейчас дух захватывает от злости, когда вы вспоминаете дерзкого юнца, который был неучтив с вами: счастливо, мол, оставаться, плевать я на вас хотел. Но сейчас, когда он размышляет об этом, ему кажется, что все это была какая-то призрачная, не настоящая действительность: что бы он ни делал, его не покидало сознание, что все это временно, невсерьез, а как-то наугад и на пробу. Подлинным было упрямство, одно лишь упрямство, которое вело его и по верным, но чаще по ложным путям. В самом бедственном положении он не забывал, что многомиллионное состояние у него под рукой: только пожелай, потянись, и готово. Можешь позвякивать в кармане этим богатством, когда бродишь по улицам, бездомный и неустроенный, можешь ехидно подмигивать людям, которые сторонятся подозрительного бродяги…
Знали бы вы, кто я такой… В кармане у меня миллионы, но мне не по средствам даже кружка пива. Есть там еще пять медяков, на них я куплю чайную розу.
Он вечно забавлялся своим положением. Разве можно забыть острое переживание первого попрошайничества! Помнится, это было в Барселоне, на площади Рамбле, где прыгали стаи воробьев… Старая дама с четками на руках испуганно воззрилась на улыбающегося парня. "Рог Dios misericordia, senora"[66]66
Подайте, Христа ради, сеньора (исп.)
[Закрыть].
Бывший Кеттельринг потер себе лоб. "Да, не вынес бы я такой жизни, будь это всерьез. Но ведь это была своего рода пустая игра. Я как бы пробовал, долго ли еще я выдержу, прежде чем сдамся и начну взывать о помощи. Какое мучительное и дразнящее ощущение – стоя на краю тротуара алчно смотреть на прекрасных, нарядных женщин. Стоит мне захотеть, и вы будете моими, а сейчас вы, конечно, и не замечаете меня, стервы…" Как прекрасна ярость и освобождающее презрение ко всем и всему. Конечно, и к так называемой морали. Ибо есть добродетели бедняков и добродетели богатых, но нет морали для нищего проходимца, который не хочет разбогатеть.
Он не дает привязать себя к одному месту. Ведь кроме семейных уз и привычек, человека делает оседлым собственность или зависимость. Тот, кто презирает и нужду и деньги, подобен воздушному шару без привязи: он носится по воле господа бога и ветра.
Да, бродяжничество – это, конечно, безумие, нарушение деятельности собственнических центров, нечто вроде потери чувства равновесия. Что ж, бродяжничай, глупец, если не можешь иначе…
Погоди-ка, есть еще кое-что, о чем надо вспомнить. Впрочем, это были просто сентименты и телячьи нежности. Или нет… Ну, скажем, глупость.
Тогда я служил на корабле и мы стояли в Плимуте.
Вечерами я сиживал на холме, с девушкой из Барбикэна. Это было на острове Хоэ у полосатого маяка. Эдакая худенькая маленькая англичанка семнадцати лет. Она держала мою руку в своей и пыталась обратить на путь истинный меня, рослого, беспутного моряка. Бывший Кеттельринг вздрогнул. Ведь это было почти как… как с Мери… с Марией Долорес, которая держала меня за руку и старалась помочь мне найти свое "я"! О боже, стало быть, в жизни бывают знамения, а мы их не понимаем. Бывший моряк напряженно глядит на черную воду, но ему мерещится синий прозрачный вечер на Хоэ, красные и зеленые огоньки буйков и морская даль… О боже, как прекрасна безбрежная водная гладь!.. Девушка держала меня за руку и прерывисто дышала. "Обещайте мне… обещайте мне, что вы исправитесь и… поселитесь здесь". Она была работницей на какой-то фабрике. Сказать ей о миллионах, которые меня ждут?
Да, это была бы сказка из "Тысячи и одной ночи"…
Признание чуть-чуть не сорвалось у него с языка, но он подавил его, как-то даже слишком торопливо…
На прощанье она поцеловала его испуганно и неловко, а он сказал: "Я вернусь…"
Судно ушло в Вест-Индию, и он не вернулся.
Так, ну вот теперь уже все, добрались до конца, слава богу.
– Нет, не все, – возражает какой-то суровый неумолимый голос. – Вспомни, что произошло дальше.
– А что такое? Ну, я сбежал с корабля, дело было тут, на Тринидаде, как раз в Порт-оф-Спейне, верно?
– Да, а потом что?
– Потом я покатился по наклонной. Когда человек катится вниз, он не останавливается, ничего не поделаешь.
– До чего же ты докатился, скажи?
– Ну, я был портовым грузчиком, потом кладовщиком, бегал с накладными в руках.
– А еще что?
– Еще присматривал за неграми на Асфальтовом озере, чтобы они на работе даже пот утереть не смели.
– А еще чего-нибудь ты не забыл?
– Да… я был кельнером на Гваделупе и в Матансасе, подавал мулатам коктейли и лед…
– А похуже ничего не было?
Бывший Кеттельринг закрывает лицо горячими ладонями и стонет. Не надо об этом, не надо! Это была месть, моя месть за то, что мне дали пасть так низко. Знай же: я упивался своим унижением! Сволочи, сволочи, вот вам, подавитесь своими миллионами! Смотрите все, каков единственный сын и наследник миллионера!
Что ж, вспомним и это. Да, да, вспомним, он был сутенером у мулатки… Вот, теперь вы знаете. Он неистово любил ее… и водил к ней пьяных мужчин, к этой распутнейшей девке. И ждал на улице своей доли.
Вот так это и было.
Так было…
Бывший Кеттельринг низко опускает голову…
– Сидел там в кафе один янки. А я глупо ухмыляюсь и говорю ему: "Могу проводить вас к красотке, сэр… Мулатка, хороша собой…" Американец покраснел, вскочил, – видно, не мог стерпеть такого унижения белого и ударил меня по лицу, вот по этой щеке. – На щеке бывшего Кеттельринга проступило алое пятно. – Потом он бросил на пол скомканную пятидолларовую бумажку, а меня тем временем вытолкали на улицу. Но я вернулся за этими пятью долларами и, как собака, ползая на четвереньках, искал их…
Бывший Кеттельринг поднял глаза, полные ужаса.
Разве это можно забыть?
Может быть, все-таки можно. Попытайся.
Я напился тогда как скот, но все же никак не мог забыться и бродил, сам не знаю, где… шел по дороге, похожей на Млечный Путь, среди изгородей из цветущей бугенвилеи… Да, да, именно там! Вдруг я услышал револьверные выстрелы, и кто-то на бегу столкнулся со мной. И тогда я наконец забыл все, что было…
XXXVII
Бывший Кеттельринг вздохнул. Ну вот, теперь все ясно, теперь хоть убей, не может быть хуже. И подумать только, даже когда я лез на четвереньках за этими долларами, я не капитулировал, не крикнул мысленно: довольно, я сдаюсь, я вернусь домой с повинной… Я только пил и плакал над унижением человека. И это было… своего рода победой…
А теперь ты сдаешься?
Да, теперь я сдаюсь. И как охотно, боже, как охотно! Если хотите, чтобы я наплевал себе в лицо или снова пополз на коленях, я сделаю и это. Я знаю почему: ради нее, ради дочери камагуэно.
Или затем, чтобы взять верх над ее старым отцом?
Молчи, это неправда! Ради нее! Разве я не сказал ей, что вернусь, разве не дал честного слова?
Твое честное слово, сутенер!
Ну и пусть сутенер, зато я теперь знаю, кто я.
Человек становится цельным лишь после поражения.
Тогда он осознает: вот это бесспорно подлинно, это неотвратимая действительность.
Это поражение?
Да, это поражение. Какое облегчение испытываешь, когда можно сдаться – сложить руки на груди и покориться…
Чему?
Любви. Быть униженным и побежденным и любить, вот тогда по-настоящему поймешь, что такое любовь. Ты не герой, а презренный, побитый сутенер.
Ты ползал на четвереньках, как животное, и все же ты будешь облачен в лучшие одежды и на палец твой наденут перстень. В этом чудо. Я знаю, знаю, она ждет меня! И теперь я могу прийти за ней. О господи, как я счастлив!
Правда, счастлив?
Безмерно счастлив, даже в дрожь бросает. Коснись моего лица, смотри, как у меня горят щеки.
Только левая щека – на ней горит та пощечина.
Нет, не пощечина! Разве не знаешь ты, что Мери поцеловала эту щеку? Да, поцеловала и оросила ее слезами. Не знаешь? Это искупление всего прошлого…
Скольких мук это стоило! Сколько было тоски, и потом этот адский труд. Все ради нее.
И пощечина тоже была ради нее?
Да, и пощечина! Она была нужна, чтобы свершилось чудо. Я приду за Марией. Она будет ждать меня в саду, как тогда…
…И положит свою руку на твою?
Ради бога, не говори о ее руке. Стоит напомнить мне о ней, и у меня дрожат пальцы и подбородок.
Как она тогда взяла меня за руку своими нежными пальцами. Перестань, перестань!
И ты счастлив безмерно?
Да, нет… погоди, это пройдет, проклятые слезы…
Неужели можно любить до беспамятства?! Если бы она ждала меня вон там, около того крана, я бы ужаснулся: "Боже, как далеко! Когда еще я добегу туда!" Если бы я даже держал ее за руку, за локти… боже, как далеко!
Значит, ты счастлив?
Где там, ведь ты видишь, что я с ума схожу!
Когда же я увижусь с ней?! Прежде надо вернуться домой, ведь правильно? Надо смириться, прийти с повинной и получить прощение… вернуть себе имя и личность… А потом снова за океан… Нет, это невозможно, я не переживу… нельзя ждать так долго!
А может быть, прежде съездить к ней и рассказать?..
Нет, этого я не могу, не смею, так нельзя. Я сказал ей, что приду за ней, когда у меня будет на это право. И я не могу обмануть ее. Прежде нужно домой, и только потом… Я громко постучу в ее ворота, я войду и с полным правом потребую: "Откройте, я пришел за ней!"
Негр-полицейский, уже долго поглядывавший на человека, который разговаривает сам с собой и машет руками, подошел поближе. "Эй, мистер!"
Бывший Кеттельринг поднял взгляд.
– Понимаете, – торопливо заговорил он, – прежде всего мне нужно домой… Не знаю, жив ли еще мой отец, но если жив, то, видит бог, я поцелую ему руку и скажу: "Благослови, отец, свинопаса, который рад был наполнить чрево свое рожками, что жрут свиньи… Я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим". А он, старый скупец, возрадуется и скажет: "Этот сын мой был мертв и ожил; пропадал и нашелся". Так сказано в писании.
– Аминь! – произнес чернокожий полицейский и хотел отойти.
– Погодите минутку. Это значит, что блудный сын будет прощен, да? Ему простится распутство и утолен будет волчий голод его. Забыта будет и та пощечина… "Принесите лучшую одежду и оденьте его и дайте перстень на руку его…"
Бывший Кеттельринг встал со слезами на глазах.
– Думаю, что мой отец все-таки еще жив и ждет меня на склоне лет, чтобы сделать из меня богача и скрягу по образцу и подобию своему. Вы не знаете, да, вы не знаете, чем пренебрег блудный сын, не знаете, чем он жертвует… Нет, не жертвует, ведь она ждет! Я приду, Мери, я вернусь, но прежде нужно домой, домой…
– Я провожу вас, мистер, – сказал полицейский. – Вам куда?
– Туда, – широким жестом показал он на небо и на горизонт, где беззвучно сверкали зарницы.
* * *
Меня не покидает уверенность, что он не поехал морем. Поездка на пароходе слишком медленна и успокоительна, в ней нет стремительности. Я справлялся в авиатранспортных компаниях, есть ли воздушная связь с Тринидадом, и выяснил, что существуют регулярные рейсы из Европы в порт Натал и далее в Пара. Но они не знают, есть ли оттуда линия на Тринидад или на какой-нибудь другой пункт на Антильских островах. Стало быть, это вполне возможно, и потому я принимаю гипотезу, что пациент Икс избрал самый быстрый способ передвижения – по воздуху. Должен был избрать, ибо в последний раз мы видим его в низвергающемся самолете, объятом пламенем, – он достиг своей цели, достиг ее с ужасающей стремительностью, как метеор… Да, он должен был лететь, он не сводил нетерпеливых глаз с горизонта… Пилот сидит неподвижно, словно спит.
Эх, ударить бы его кулаком в затылок: проснись, лети быстрее! Кеттельринг пересаживается из самолета в самолет, оглушенный, ошалевший от грохота моторов, охваченный лишь одним стремлением: скорей!
На последнем аэродроме, почти уже у границ своей страны, напряженная струна быстроты вдруг лопнула: нелетная погода, буря. Пассажир рвет и мечет – это вы называете бурей?! Трусливые собаки, видели бы вы ураганы там, в тропиках! Ладно, я найму частный самолет, чего бы это ни стоило!
И снова судорожное, неистовое нетерпение, сжатые кулаки и зубы, стиснувшие краешек кружевного платка… И конец. Падение "штопором", огонь, запах горящего бензина и черное озеро беспамятства, сомкнувшееся густыми волнами…
* * *
Милый доктор, я охотно оказал бы вам честь, изобразив вас, вашу достойную, плечистую фигуру, склоненную над смертным одром пациента Икс. Я видел вас у его постели и все же сейчас никак не могу представить себе, что вы были там в этот момент. Поэтому разрешите мне еще раз отклониться от бесхитростной действительности и посадить на постель пациента Икс лохматого, довольно несимпатичного ассистента.
Он держит руку больного и внимательно щупает пульс, склонив свою пышноволосую голову. Красивая сестра не сводит глаз с его русых волос – она по уши влюблена в этого молодого самоуверенного врача. Ах, растрепать бы эти волосы, дернуть их, а потом ерошить и нежно ласкать их…
Молодой врач поднимает голову.
– Пульс не прощупывается. Поставьте здесь ширму, сестра.







