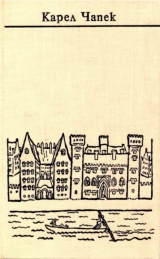
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 5. Путевые очерки"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
Самое прекрасное в Англии – это, пожалуй, деревья. Хороши, конечно, и газоны и полицейские, но лучше всего – деревья, такие могучие, красивые, старые, ветвистые, почтенные, огромные деревья, растущие на приволье. Деревья в Хемптон-Корте, Ричмонд-парке, Виндзоре и где хотите еще. Может быть, эти деревья оказывают большое влияние на английский консерватизм. Я думаю, что они поддерживают аристократические инстинкты, историческую преемственность, консервативность, протекционизм, гольф, палату лордов и прочие своеобразные древности. Я был бы, наверное, страстным лейбористом, если бы жил на улице Железных Балконов или Серых Стен, но, сидя под коренастым дубом в Хемптон-парке, я почувствовал в себе серьезную склонность признавать ценность старины, высокое назначение старых деревьев, гармоническую разветвленность традиций и какое-то почтение ко всему, что оказалось достаточно сильным, чтобы удержаться в веках.
Кажется, в Англии много таких старых-престарых деревьев; почти во всем, с чем вы здесь встречаетесь в клубах, в литературе, в домашнем быту, вы чувствуете запах древесины и листвы столетних, почтенных, страшно солидных деревьев. Здесь вы не увидите ничего нарочито нового; новшеством здесь является только метрополитен, и, вероятно, потому он так безобразен. А в старых деревьях и в старых вещах гнездятся домовые – веселые, шаловливые духи; такой дух присущ и самим англичанам. Они невероятно серьезны, солидны и почтенны, но вдруг что-то в них шевельнется, они скажут что-нибудь очень смешное, искрящееся юмором, и тут же снова станут солидными, как старое кожаное кресло; они, вероятно, тоже сделаны из старого дерева.
Не знаю почему, но эта трезвая Англия кажется мне самой сказочной и самой романтической страной из всех мною виденных. Должно быть, из-за своих старых деревьев; хотя нет: из-за газонов, вероятно, тоже. Потому что здесь ходят по траве, а не по дороге. Мы, в Европе, разрешаем себе ходить только по дорожкам и тропинкам, что сильно влияет на нашу психологию. Когда я в первый раз увидел в Хемптон-парке джентльмена, разгуливающего по газону, я подумал, что это какое-то сказочное существо, хотя он был в цилиндре; я ждал, что вот-вот он поедет в Кингстаун[111]111
Кингстаун – город на юго-западе от Лондона; прежде в нем короновались английские короли.
[Закрыть] на олене, пустится в пляс или что к нему подойдет сторож и обругает его страшными словами. Ничего не случилось; тогда и я набрался смелости и пустился напрямик к тому самому коренастому дубу, что стоит на рисунке на краю прелестной лужайки. И тут ничего не произошло; но в этот момент у меня было такое чувство безграничной свободы, как никогда. Очень странно:  человек, очевидно, не считается здесь вредным животным. Здесь не придерживаются того мрачного мнения, что под его копытами трава не растет. Он имеет здесь право ходить по траве, словно он русалка или крупный землевладелец. Я думаю, это оказывает большое влияние на его характер и мировоззрение. Это дает ему чудесную возможность ходить непроторенными путями и при этом не считать себя вредным существом, бродягой или анархистом.
человек, очевидно, не считается здесь вредным животным. Здесь не придерживаются того мрачного мнения, что под его копытами трава не растет. Он имеет здесь право ходить по траве, словно он русалка или крупный землевладелец. Я думаю, это оказывает большое влияние на его характер и мировоззрение. Это дает ему чудесную возможность ходить непроторенными путями и при этом не считать себя вредным существом, бродягой или анархистом.
Обо всем этом я раздумывал под дубом в Хемптон-парке, но в конце концов даже на старых корнях становится больно сидеть.
Посылаю вам рисунок, чтобы показать, как выглядит такой английский парк. Я хотел нарисовать еще оленя, но, признаюсь, не умею по памяти.
Лондонские улицыЧто касается самого Лондона, то весь он пропах бензином, горелой травой и смазочным маслом, в отличие от Парижа, где к этим запахам примешивается аромат пудры, кофе и сыра. В Праге каждая улица пахнет по-своему; в этом отношении Прагу не превзойти. Самое сложное – это голоса Лондона. В центре – на Стрэнде или на Пикадилли – словно прядильня с тысячами веретен; жужжат, стрекочут, звенят, гудят и грохочут битком набитые людьми автобусы, таксомоторы, автомобили и паровые машины; а вы сидите на империале автобуса, который не может двинуться дальше и дребезжит впустую, а вы подскакиваете, как заводная кукла, и трясетесь вместе с машиной. Есть, конечно, и боковые улицы, всякие gardens, squares, roads, grovs и crescents[112]112
садики, площади, шоссе, парки и улицы (англ.)
[Закрыть], вплоть до захудалой улицы в Нотингхилле, где пишутся эти строки: всевозможные улицы Двух Колонн, Одинаковых Решеток, Семи Ступенек Перед Каждым Домом и т. д.; так вот, если они оглашаются безнадежными вариациями на «и», это – продавцы молока, горестное завывание «йе-йей» означает самые обыкновенные щепки для растопки, «уо» – это воинственный клич угольщика, а страшный, исступленный матросский рев возвещает, что некий парень везет на продажу в детской колясочке пять кочанов капусты. А по ночам здесь устраивают свои концерты кошки, такие же дикие, как на крышах Палермо, вопреки всяким россказням о пуританской строгости английских нравов.  Только люди здесь тише, чем в других местах; друг с другом они разговаривают сквозь зубы и торопятся поскорей попасть домой. Это и есть самая удивительная особенность английских улиц; здесь вы не увидите на углу почтенных дам, которые сплетничают о том, что случилось у Смитов или у Гринов, ни влюбленных, бредущих, словно лунатики, взявшись за руки, ни почтенных обывателей, сидящих на крылечках, скромно сложив руки на коленях (между прочим, я еще не видел здесь ни столяров, ни слесарей, ни мастерских, ни подмастерьев, ни учеников; здесь только магазины, одни магазины, да Вестминстер-банк и Мидленд-банк); не увидите вы и мужчин, пьющих на улице, ни скамеек на площади, ни ротозеев, ни праздношатающихся, ни служанок, ни пенсионеров, одним словом – никого, никого, никого. Лондонская улица – это только русло, по которому течет жизнь, стремящаяся поскорей попасть домой. На улице не живут, не разговаривают, не глазеют по сторонам, не стоят и не сидят; по улицам только пробегают. Здесь улица самое скучное место, тут вы не увидите тысяч захватывающих зрелищ и не столкнетесь с тысячами приключений. Это не то место, где люди свистят или дерутся, любезничают, отдыхают, сочиняют стихи или философствуют, ходят по нужде и пользуются жизнью, острят, занимаются политикой и собираются по двое, по трое, в группы, в толпы, в революционную грозу. У нас, в Италии, во Франции улица – нечто вроде большого трактира или общественного сада, площадь, место сборищ, стадион и театр, продолжение дома или крылечка. Здесь она не принадлежит никому и никого не сближает; вы не встречаете здесь ни людей, ни вещей, вы только проходите мимо них.
Только люди здесь тише, чем в других местах; друг с другом они разговаривают сквозь зубы и торопятся поскорей попасть домой. Это и есть самая удивительная особенность английских улиц; здесь вы не увидите на углу почтенных дам, которые сплетничают о том, что случилось у Смитов или у Гринов, ни влюбленных, бредущих, словно лунатики, взявшись за руки, ни почтенных обывателей, сидящих на крылечках, скромно сложив руки на коленях (между прочим, я еще не видел здесь ни столяров, ни слесарей, ни мастерских, ни подмастерьев, ни учеников; здесь только магазины, одни магазины, да Вестминстер-банк и Мидленд-банк); не увидите вы и мужчин, пьющих на улице, ни скамеек на площади, ни ротозеев, ни праздношатающихся, ни служанок, ни пенсионеров, одним словом – никого, никого, никого. Лондонская улица – это только русло, по которому течет жизнь, стремящаяся поскорей попасть домой. На улице не живут, не разговаривают, не глазеют по сторонам, не стоят и не сидят; по улицам только пробегают. Здесь улица самое скучное место, тут вы не увидите тысяч захватывающих зрелищ и не столкнетесь с тысячами приключений. Это не то место, где люди свистят или дерутся, любезничают, отдыхают, сочиняют стихи или философствуют, ходят по нужде и пользуются жизнью, острят, занимаются политикой и собираются по двое, по трое, в группы, в толпы, в революционную грозу. У нас, в Италии, во Франции улица – нечто вроде большого трактира или общественного сада, площадь, место сборищ, стадион и театр, продолжение дома или крылечка. Здесь она не принадлежит никому и никого не сближает; вы не встречаете здесь ни людей, ни вещей, вы только проходите мимо них.
Стоит у нас человеку высунуться в окошко, и он уже на улице. Английские же дома отделены от улицы не только оконной занавеской, но еще и садиком и решетчатой оградой, плющом, газоном, живой изгородью, молотком у двери и вековыми традициями. У английского дома должен быть свой собственный садик, потому что улица для человека здесь не диковинный сад наслаждений; а в садике должны быть собственные семейные качели или спортивная площадка, потому что улица для англичанина не стадион и не увеселительное место. Поэзия английского дома оплачивается тем, что английская улица лишена поэзии. И никогда здесь по улицам не пройдут революционные толпы, для этого улицы слишком длинны. И слишком скучны.
Хорошо еще, что есть автобусы – корабли пустыни, верблюды, несущие вас на спине через каменную бесконечность Лондона. Я и сейчас не понимаю, как они не заблудятся, – ведь по большей части из-за здешней облачности они не могут отыскать пути по солнцу или по звездам. Я до сих пор не знаю, по каким таинственным признакам водитель отличает Ледбрук-Гров от Грейт– Вестерн-род или Кенсингтон-парк-стрит. И не понимаю, почему он предпочитает совершать рейсы в Ист-Эктон вместо Пимлика или Хаммерсмита. Все эти места так поразительно похожи друг на друга, что для меня непостижимо, почему, собственно, он специализировался на Ист-Эктоне. Должно быть, у него там дом, один из тех – с двумя колоннами и семью ступеньками у входа. Эти дома немного похожи на семейные гробницы; я пытался было нарисовать их, но при всем желании мне не удалось передать достаточно ярко безнадежность этих улиц; кроме того, у меня нет с собой серой краски.
Кстати, чтобы не забыть: само собой разумеется, я побывал из любопытства на Бэкер-стрит и вернулся чрезвычайно разочарованный. Там нет и следа Шерлока Холмса; это невероятно приличная торговая улица, для которой нет цели более возвышенной, чем влиться в Риджент-парк, что ей после долгих усилий, в общем, удается. Если еще упомянуть, что на ней имеется станция метро, то будет исчерпано все, в том числе и наше терпение.
TrafficНикогда в жизни я не примирюсь с тем, что здесь называется «traffic», то есть с уличным движением. С ужасом вспоминаю тот день, когда меня впервые привезли в Лондон. Сначала меня везли в поезде, потом мы бежали по каким-то бесконечным застекленным залам, меня втолкнули в решетчатую клетку, походившую на весы для скота; но это был лифт, он спускался вниз по отвратительному бронированному колодцу; потом меня извлекли из клетки, и мы понеслись по извилистым подземным коридорам, – это было как страшный сон. Затем мы очутились в туннеле или канале с рельсами, с ревом примчался поезд, меня швырнули в вагон, и поезд полетел дальше; там стоял тяжелый, удушливый воздух, по-видимому из-за близости преисподней. Потом меня снова вытащили из вагона, и мы бежали по новым катакомбам прямо к движущимся лестницам, которые грохочут, как мельницы, увлекая вверх стоящих на них людей. Говорю вам, это кошмар. Еще несколько коридоров и лестниц, и, несмотря на мое сопротивление, меня выволокли на улицу, где у меня душа ушла в пятки.  Бесконечной, беспрерывной лентой тянулись в четыре ряда всевозможные экипажи: автобусы, пыхтящие, облепленные роями людей, как стадо несущихся мастодонтов, рокочущие автомобили, грузовики, паровые машины, велосипедисты, автобусы, летящая свора автомобилей, бегущие люди, тракторы, машины скорой помощи, люди, карабкающиеся, как белки, на империалы автобусов, снова стадо моторизованных слонов... Но вот все это остановилось, гудит и звенит и не может двинуться дальше; и я тоже не могу сейчас продолжать, потому что вспоминаю ужас, охвативший меня при мысли, что мне надо перебежать на другую сторону улицы. Однако мне удалось это сделать вполне благополучно, и после этого я бесконечное множество раз переходил лондонские улицы, но до конца своей жизни не примирюсь с ними.
Бесконечной, беспрерывной лентой тянулись в четыре ряда всевозможные экипажи: автобусы, пыхтящие, облепленные роями людей, как стадо несущихся мастодонтов, рокочущие автомобили, грузовики, паровые машины, велосипедисты, автобусы, летящая свора автомобилей, бегущие люди, тракторы, машины скорой помощи, люди, карабкающиеся, как белки, на империалы автобусов, снова стадо моторизованных слонов... Но вот все это остановилось, гудит и звенит и не может двинуться дальше; и я тоже не могу сейчас продолжать, потому что вспоминаю ужас, охвативший меня при мысли, что мне надо перебежать на другую сторону улицы. Однако мне удалось это сделать вполне благополучно, и после этого я бесконечное множество раз переходил лондонские улицы, но до конца своей жизни не примирюсь с ними.
Я возвращался тогда из Лондона ошеломленный, подавленный, разбитый душой и телом; впервые в жизни я почувствовал слепую, яростную ненависть к современной цивилизации, Мне казалось, что есть что-то варварское и катастрофическое в таком страшном скоплении людей: говорят, что в Лондоне семь с половиной миллионов жителей, но сам я не считал. Знаю только, что первое впечатление от этой громадной толпы было почти трагическим. Мне стало страшно, и я отчаянно затосковал по Праге, как малое дитя, заблудившееся в лесу. Да, не скрою от вас, я боялся: боялся, что потеряюсь, что попаду под автобус, что со мной что-нибудь стрясется, что я погиб, что человеческая жизнь не стоит гроша ломаного, что человек – просто увеличенная во много раз бактерия, мириады которых кишат на какой-нибудь заплесневевшей картофелине, что все это только отвратительный сон, что человечество будет истреблено какой-то ужасной катастрофой, что человек бессилен, что я ни с того ни с сего заплачу и надо мной все будут смеяться: все семь с половиной миллионов лондонцев... Возможно, когда-нибудь я пойму, что так напугало меня с первого взгляда и наполнило бесконечным ужасом; впрочем, теперь я уже чуточку попривык, хожу, бегаю, лавирую, езжу, карабкаюсь на империал автобуса или низвергаюсь под землю в лифте и сажусь в вагон метро, как и все, но только при одном условии: нельзя об этом думать. Стоит только осознать, что происходит вокруг, мною опять овладевает мучительное ощущение чего-то зловещего, чудовищного и катастрофического, совершенно для меня непонятного. И потому-то меня охватывает невыносимая тоска.
Иногда все вдруг останавливается на какие-нибудь полчаса, просто потому, что всего этого слишком много. Где-нибудь на Черинг-Кросс образуется пробка, и пока она рассосется, вереницы машин выстраиваются от Банка вплоть до Бромптона, а вы тем временем можете в своей машине размышлять, как это будет выглядеть лет через двадцать. Такие заторы случаются, видимо, очень часто, а потому над тем, как быть, ломают головы множество людей. До сих пор не решен вопрос, будут ли ходить пешеходы по крышам или под землей, но ясно одно: по земле ходить им не придется. В этом и состоит самое замечательное достижение современной цивилизации. Что касается меня, то я отдаю предпочтение земле, как великан Антей. Я нарисовал вам картинку, но в действительности все это выглядит еще хуже, потому что все это шумит, как фабрика; все-таки англичане – спокойный народ: шоферы не гудят как сумасшедшие, а люди совсем не ругаются.
Между прочим, я расшифровал кое-что: дикий крик на улице «о-эй-о» означает картофель, «ой» – растительное масло, а «у-у» – бутыль с чем-то непонятным. А иногда на самой оживленной улице на краю тротуара выстраивается целый оркестр и играет, трубит, барабанит и собирает пенни; либо к окнам подходит итальянский тенор и поет арии из «Риголетто», «Трубадура» или песнь жгучей тоски «Оцарапалась я», совсем как в Неаполе. Зато я встретил только одного человека, который свистел; это случилось на Кромвель-род, и это был негр.
Гайд-паркА когда мне особенно взгрустнулось на английской земле, – это было в английское воскресенье, отравленное невыносимой скукой, – я двинулся по Оксфорд-стрит; мне просто хотелось пойти на восток, чтобы быть ближе к родине, но я ошибся, пошел прямо на запад и очутился около Гайд-парка; это место называется Marble Arch, потому что там находятся мраморные ворота, которые никуда не ведут; я, собственно, так и не знаю, по какому случаю они там поставлены. Мне даже жалко их стало, и я пошел на них посмотреть и увидел парк. Там были толпы людей, и я помчался узнать, что случилось. А когда я понял, что тут делается, я сразу повеселел.
Гайд-парк занимает огромное пространство; желающие могут принести с собой стул или трибуну или не приносить ничего и начать ораторствовать. У оратора сейчас же находится пять, двадцать или триста слушателей, ему отвечают, с ним спорят, кивают головами, а иногда поют вместе с ним духовные или светские гимны. Иногда слушателей привлекает на свою сторону оппонент и сам берет слово; иногда толпа взбухает, делится на части почкованием, как простейшие одноклеточные организмы или колонии клеток. Некоторые кучки имеют прочный, постоянный состав, другие не перестают дробиться и переливаться, растут, разбухают, множатся или распадаются. У более крупных сект есть нечто вроде специальных переносных кафедр для проповедника, но большинство ораторов стоит просто на земле; посасывая мокрую сигарету, они говорят о вегетарианстве, господе боге, воспитании, о репарациях или о спиритизме. Я в жизни не видывал ничего подобного.
Так как я, грешный, уже много лет не посещал никаких проповедей, то подошел послушать. Из скромности я присоединился к небольшой тихой кучке; речь произносил горбатый молодой человек с красивыми глазами, по-видимому, польский еврей. Прошло много времени, пока я понял, что тема его речи – всего-навсего школьное дело. Тогда я перешел к большой толпе, где на кафедре метался пожилой человек в цилиндре. Оказалось, это представитель какой-то Hyde park Mission[113]113
Миссии Гайд-парка (англ.)
[Закрыть]. Он так размахивал руками, что я испугался, как бы он не перелетел через перила. В следующей группе ораторствовала немолодая леди. Я совсем не против женской эмансипации, но нельзя долго слушать женский голос; на общественном поприще женщинам мешают их органы (я имеют в виду органы речи). Когда выступает дама, мне всегда кажется, что я маленький мальчик и меня бранит моя матушка. Кого бранила эта английская леди в пенсне, я толком не понял; знаю только, что она кричала, чтобы все углубились в себя. В следующей группе проповедовал католик перед высоким распятием. Я впервые увидел, как проповедуют истинную веру еретикам. Это было очень красиво, и проповедь кончилась пением. Я пытался вторить; к сожалению, я не знал мелодии.  Несколько групп занимались исключительно пением. Это делается так: в середине становится невзрачный человек с дирижерской палочкой и дирижирует, а вся толпа поет очень громко и даже стройно. Я хотел послушать молча, потому что я из другого прихода, но мой сосед, джентльмен в цилиндре, предложил мне принять участие, и я громко запел, прославляя господа бога без слов и без мелодии. Проходит мимо влюбленная парочка, он вынимает изо рта сигару и поет, девушка тоже поет, поет старый лорд и юнец с тростью под мышкой, а потрепанный человечек в середине круга дирижирует грациозно, как в Большой Опере; ничто еще мне здесь так не нравилось. Потом я пел с двумя другими сектами, слушал проповедь о социализме и извещение какого-то Metropolitan Secular Society[114]114
Несколько групп занимались исключительно пением. Это делается так: в середине становится невзрачный человек с дирижерской палочкой и дирижирует, а вся толпа поет очень громко и даже стройно. Я хотел послушать молча, потому что я из другого прихода, но мой сосед, джентльмен в цилиндре, предложил мне принять участие, и я громко запел, прославляя господа бога без слов и без мелодии. Проходит мимо влюбленная парочка, он вынимает изо рта сигару и поет, девушка тоже поет, поет старый лорд и юнец с тростью под мышкой, а потрепанный человечек в середине круга дирижирует грациозно, как в Большой Опере; ничто еще мне здесь так не нравилось. Потом я пел с двумя другими сектами, слушал проповедь о социализме и извещение какого-то Metropolitan Secular Society[114]114
Столичного Мирского Общества (англ.)
[Закрыть]; останавливался около небольших кучек спорящих. Один необычайно оборванный джентльмен, отстаивал консервативные общественные принципы, но он говорил на таком ужасном кокни[115]115
Кокни – народный лондонский диалект; кокни называют себя также исконные жители бедняцких кварталов Лондона.
[Закрыть], что я его совсем не понял; ему возражал эволюционный социалист, судя по всему – процветающий банковский служащий. Другая группа насчитывала всего-навсего пять слушателей. Она состояла из смуглого индуса, какого-то одноглазого человека в приплюснутой кепке, толстого армянского еврея и двух молчаливых мужчин с трубками. Одноглазый с ужасающим пессимизмом твердил, что «нечто есть иногда ничто», тогда как индус отстаивал более радостную теорию, что «нечто всегда есть нечто». Это он повторил раз двадцать на необыкновенно ломаном английском языке. Далее там стоял одинокий старичок, державший в руке высокий крест с хоругвью, на которой было написано «Thy Lord calleth thee»[116]116
Господь твой призывает тебя (англ.)
[Закрыть]; старичок слабым хриплым голоском проповедовал что-то, но никто его не слушал.  И я, пропащий чужестранец, подошел и стал его слушателем. Потом я собрался отправиться восвояси, потому что стемнело, но меня остановил какой-то нервозный субъект и стал говорить мне невесть что. Я ответил, что я иностранец, что Лондон страшная штука, но что англичан я люблю; что я повидал на свете немало, но ничто мне так не понравилось, как ораторы в Гайд-парке. Не успел я все это сказать, как вокруг нас стояло человек десять и молча слушало. Я мог попробовать основать новую секту, но мне не пришло в голову ни одного достаточно бесспорного догмата веры, да и по-английски я говорю плохо, поэтому я потихоньку удалился.
И я, пропащий чужестранец, подошел и стал его слушателем. Потом я собрался отправиться восвояси, потому что стемнело, но меня остановил какой-то нервозный субъект и стал говорить мне невесть что. Я ответил, что я иностранец, что Лондон страшная штука, но что англичан я люблю; что я повидал на свете немало, но ничто мне так не понравилось, как ораторы в Гайд-парке. Не успел я все это сказать, как вокруг нас стояло человек десять и молча слушало. Я мог попробовать основать новую секту, но мне не пришло в голову ни одного достаточно бесспорного догмата веры, да и по-английски я говорю плохо, поэтому я потихоньку удалился.
В Гайд-парке за решеткой паслись овцы. И когда я на них посмотрел, одна, видимо, самая главная, поднялась и начала блеять. Я прослушал ее овечью проповедь и, только когда она кончила, отправился домой удовлетворенный, с просветленной душой, словно после церковной службы. Я мог бы сделать отсюда превосходные выводы насчет демократии, английского характера, жажды веры и прочего, но я охотнее оставлю весь этот эпизод в его первобытной красе.
Natural history museum[117]117Естественно-исторический музей (англ.)
[Закрыть]
—А вы были в Британском музее?
–А видели вы коллекцию Уоллеса?
–А были вы уже в Галерее Тэта[118]118
Коллекция Уоллеса, Галерея Тэта – музеи живописи; названы по имени дарителей.
[Закрыть]?
–А видели вы Мадам Тюссо?
–А осматривали вы Кенсингтонский музей?
–А вы побывали в Национальной галерее?
Да, да, да, я был всюду. А теперь разрешите мне присесть и поговорить о другом. Так что я хотел сказать? Ах, да. Чудесна и величественна природа, и я, неутомимый паломник по картинным галереям и музеям изящных искусств, должен признаться, что наибольшее наслаждение я получил от созерцания раковин и кристаллов в Естественно-историческом музее. Конечно, и мамонты и праящеры очень симпатичны, а также рыбы, бабочки, антилопы и прочие звери лесные, но раковины лучше всего, потому что вид у них такой, будто игривый дух божий, вдохновленный собственным всемогуществом, сотворил их для своего развлечения. Розовые, пухлые, как девичьи губы, пурпурные, янтарные, перламутровые, черные, белые, пестрые, тяжелые, как поковка, изящнофилигранные, как пудреница королевы Мэб[119]119
Королева Мэб – сказочный персонаж, часто встречающийся в английский поэзии.
[Закрыть], гладко обточенные, покрытые бороздками, колючие, округлые, похожие на почки, на глаза, на губы, стрелы, шлемы и ни на что на свете не похожие, они просвечивают, переливают красками, как опалы, нежные, страшные, не поддающиеся описанию. Так что же я хотел сказать? Ах да, когда я проходил затем по сокровищницам искусства, осматривал коллекции мебели, оружия, одежды, ковров, резьбы, фарфора, изделий чеканных, гравированных, тканых, тисненых, кованых, мозаичных, писанных маслом, покрытых эмалью, вышитых и плетеных, я снова видел: чудесна и величественна природа. Все это те же раковины, но возникшие по иной божественной и необходимой прихоти. Все это создал нагой мягкотелый слизняк, трепещущий в творческом безумии. Какая великолепная вещь – японская натсуке или восточная ткань! Владей я ими, чем они были бы для меня! Таинственным проявлением духа человеческого, выраженного языком чуждым и пленительным. Но в этом грандиозном, устрашающем нагромождении исчезает индивидуальность художника, творческая манера, история, – остается лишь неразумная стихия, неуемная творческая сила, фантастическое изобилие прекрасных, удивительных раковин, безвременно выловленных из океана. Так будьте же подобны природе: творите, творите прекрасные, удивительные вещи – с бороздками или витками, пестрые, прозрачные. Чем обильнее, чудеснее и чище вы будете творить, тем ближе будете вы к природе, или, быть может, к богу. Нет ничего величественнее природы!

Но я должен еще сказать о кристаллах, формах, законах, красках. Есть кристаллы огромные, как колоннада храма, нежные, как плесень, острые, как шипы; чистые, лазурные, зеленые, как ничто другое в мире, огненные, черные; математически точные, совершенные, похожие на конструкции сумасбродных, капризных ученых или напоминающие печень, сердце, громадные половые органы или испражнения животных. Есть кристаллические пещеры, чудовищные пузыри минеральной массы, есть брожение, плавка, рост минералов, архитектура и инженерное искусство. Ей-богу, готическая церковь не самый сложный из кристаллов. И в человеке таится сила кристаллизации. Египет кристаллизовался в пирамидах и обелисках, Греция – в колоннах, средневековье – в фиалах, Лондон – в кубах черной грязи. Как таинственные математические молнии, пронзают материю бесчисленные законы построения. Чтобы быть равным природе, надо быть точным математически и геометрически. Число и фантазия, закон и изобилие – вот живые, творческие силы природы; не сидеть под зеленым деревом, а создавать кристаллы и идеи, вот что значит идти в ногу с природой; творить законы и формы, пронзать материю жгучими молниями божественного расчета.
О, как мало в нашей поэзии оригинальности, как мало в ней смелости и точности!








