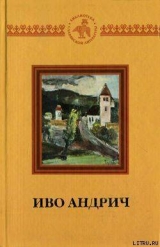
Текст книги "Времена Аники"
Автор книги: Иво Андрич
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Назавтра весь город уже знал, какое письмо отправила Аника протопопу в Добрун. Но с тех пор, как и каймакам зачастил к ней в гости, люди перестали чему-либо удивляться. Говорили, что протопоп, ужаснувшись тем, что творилось в городе, отслужил в добрунской церкви ночной молебен в вывернутой наизнанку одежде и со свечами, перевернутыми вниз головой, предавая анафеме погрязших в грехе горожан.
В городе не верили больше в человеческие возможности пресечь зло; видно, надо было ждать десницы божией. Но до тех пор Аника ухитрилась еще раз взбаламутить и ужаснуть народ.
На рождество богородицы в добрунской церкви служили торжественную литургию, собиравшую множество горожан и целые толпы крестьян, стекавшихся из самых отдаленных сел.
Накануне праздника после полудня Аника тронулась в Добрун. Она и Еленка ехали верхами на спокойных, откормленных конях; за ними шел слуга. Они проследовали окраинными улочками, но по торговым рядам сейчас же разлетелся слух, что Аника отправилась в Добрун. И весь базар засуетился, вытягивал шеи, чтоб хоть издали увидеть, как она будет проезжать по круче под Стражиштем. Приказчики и ученики изыскивали себе какие-то дела на чердаках и через слуховые окна смотрели, как Аника скрывается за склоном.
Едва ли не по пятам за Аникой пустился в Добрун и Тане, золотых дел мастер, в спешке нанявший у цыгана хромого коня. Белый как полотно, с ввалившимися щеками, проехал он, потеряв всякую совесть и стыд, напрямик через торговые ряды, не оборачиваясь ни на хохот, ни на издевательские приветствия; возможно, он их и не слышал. Но когда и он исчез за горой, базар как-то задумался и притих. Люди, расползшись по лавкам, стали что-то такое соображать и обмозговывать. И многие из тех, кто только что смеялся над Тане, невольно начали подумывать о том, чтобы и самим как-нибудь незаметно или под каким-нибудь предлогом двинуться вслед за Аникой. Одни отправлялись при этом в села закупать шкуры, другие – в Добрун, третьи – на ярмарку в Прибой. А когда спустилась ночь, и молодые парни, неслышно выскользнув из дома, повалили следом за старшими. Иные, еще совсем дети, устремились в Добрун без всякой надежды, просто им было приятно рисковать собой ради нее, пробираясь вдоль Рзава по камнелому впотьмах.
У Железного моста Тане догнал женщин. Еленка принялась его ругать. Тане только усмехался в ответ, поглядывая на Аникину спину, словно бы дожидаясь ее слова.
– А чем я тебе мешаю?
Еленка в бешенстве осадила коня.
– Мешаешь. Вот ты у меня где сидишь! Хватит, я на тебя в Вышеграде насмотрелась. Чего ты увязался за нами? Домой возвращайся и качай своих детей!
Препираясь, оба они поглядывают на Анику, но она продолжает путь, не оборачиваясь и ничем не показывая, что слышит их. Еленка в сердцах пришпорила коня и поравнялась с Аникой.
Тане, потупившись, опустив узду, поплелся за ними следом.
Так проехали они сотню шагов, как вдруг Аника остановилась и обернулась назад. Тане неожиданно для себя оказался с ней лицом к лицу. Кони их сошлись. Щеки ее, в обрамлении тонкого белого шарфа, спускавшегося концами на плечи, пылали румянцем. Она улыбнулась ему ласково, по-детски. Тане стало тесно в собственной коже. Растянувшийся рот обнажил его редкие зубы и бескровные десны, слезы набежали на его скорбные бесцветные глаза.
– Тане, я сегодня у Меджуселаца в лавке лимоны купила да позабыла их на прилавке. Вернись, бога ради, за ними в Вышеград. Ты нас еще до Добруна догонишь.
С трудом соображая, что от него требуется, Тане повторял с коротким и блаженным смешком:
– Лимоны… у Меджуселаца… Хорошо, я мигом.
Тане тотчас же повернул назад и поплелся к Вышеграду, напрасно стараясь взбодрить шенкелями цыганскую клячу, невосприимчивую к ударам. По временам он оборачивался и смотрел, как, удаляясь, вьется на ветру длинный белый шарф Аники.
Разгадав Аникину хитрость, Еленка едва удержалась, чтобы не расхохотаться. И так и прыснула со смеху, едва Тане повернул назад. Молча улыбаясь, Аника продолжала путь. Ушедший вперед слуга дожидался их в тени.
Добрун шумел многолюдьем и праздничным гулом. Говорили, что и Аника где-то здесь, но никто ее не видел ни во время службы, ни после возле церкви, хотя все только ее и высматривали. Среди возбужденной, поющей толпы бродил Тане, золотых дел мастер, горестно озираясь вокруг. Его затирали в толпе и толкали пьяные крестьяне, но он все кружил по двору, стискивая в руке полный кулек лимонов, которые он купил, поняв, что Аника ничего не забывала в лавке. Аника с Еленкой появилась только под вечер и уселась на самом видном месте под большим навесом посреди церковного двора.
Узнав о приходе Аники, протопоп, вне себя от возмущения, хотел было сам идти прогнать ее с церковного двора. Старейшины и городские попечители с трудом сумели его задержать. Двое из них отправились сказать негодницам, чтобы они сей же час проваливали со двора.
Мужская половина прихожан между тем уже теснилась вокруг Аники. Дружный смех, а вслед за ним и брань встретили посланцев протопопа. Аника делала вид, что ничего не замечает и не слышит. Попытка прорваться к женщинам и выставить их силой ни к чему не привела, их окружала плотная стена молодых парней, и горожан, и крестьян, по большей части уже пьяных. Старейшин оттеснили к протопопскому дому, и они там едва спаслись.
Смеркалось, когда городские попечители и сам протопоп стали спускаться с крыльца его дома. Однако же толпа не давала им пройти на церковный двор.
Народ, в наивысшие моменты мятежного пыла меньше всего способный отдавать себе отчет в своих желаниях, отхлынул от навесов, где сидели женщины, к крыльцу протопопского дома. Из колыхнувшейся толпы вперед вырвалось несколько подвыпивших парней. Особенно буянили лештане, на всяком церковном празднике находившие повод для потасовки.
Вдохновленные высоким саном противника, они орали с удвоенной силой:
– Не позволим!
– Не дадим!
Братья Лимичи, самые известные среди лештан скандалисты, распоясанные, скрипя зубами и изрыгая пену, размахивали ножами и клялись без всякой на то нужды:
– Я за тебя, брат, постою…
Темнота сгустилась. Только что из Вышеграда прибыл Якша, весь день боровшийся с собой и уже под вечер, не в силах с собой совладать, выехавший в Добрун. Люди держались вблизи навесов или у костров, горящих на лугу, и лишь упившиеся в доску расползались в стороны и там, у заборов во мраке, блевали, стонали и сами с собой разговаривали. У крыльца протопопского дома по-прежнему давка и гвалт, в котором ничего не разобрать. В дверях стоял сам протопоп, черный и бледный в свете лучины, которую держал кто-то в прихожей за его спиной. Он порывался говорить, стараясь высвободиться из рук крепко державших его старейшин, но в гомоне и криках и сам не в состоянии был расслышать своих слов. На лице его не было и следа растерянности или боязни, лишь гневное изумление перед тем, что происходит на его глазах. Все это время он тщетно старался что-то сказать или дорваться самому до одного из пьяных буянов. Но вдруг, сделав отчаянный рывок, застыл на пороге, пораженный видом центрального, ярко освещенного навеса. В красных отблесках костра перед ним предстало строгое и гордое лицо Аники с Еленкой и Якшей, который как раз устремился к ней, протягивая руки жестом страстной и рабской мольбы, столь непереносимо унизительной для родительских глаз.
Растолкав стоящих за своей спиной, протопоп бросился назад, в темноту неосвещенных комнат. Протопопша, дрожавшая и плакавшая на галерее, бия себя в голову от позора и неделимой любви и жалости к ним обоим, побежала за мужем вместе с женщинами, бывшими около нее. За ними кинулся кое-кто из мужчин, родных и старейшин, тогда как другие остались сдерживать напор толпы на крыльцо. Протопопа захватили в тот момент, когда он впотьмах срывал со стены длинное ружье. Его настигли у окна, смотревшего на ярко освещенный навес с теснившейся вокруг него толпой, Якшей, согнутым в просительной позе, и с неподвижностью изваяния застывшей в центре всей этой картины Аникой. Мужчины схватили протопопа за пояс, а протопопша повисла у него на ружье. Он отбивался молча, но яростно. Преодолевая сопротивление старика, мужчины приговаривали, задыхаясь:
– Отец протопоп! Батюшка! Опомнись! Протопопша верещала сиплым и тихим, но устрашающим голосом:
– Нет, заклинаю тебя всей нашей жизнью и любовью! Не-е-ет!
Постепенно протопопа увлекли в дальний темный угол комнаты, откуда не был виден церковный двор. Тут наконец склонился грозно вскинутый ствол его ружья, но вместе с ним рухнула на пол и протопопша. Кто-то кинулся приводить в сознание бесчувственную женщину, другие потащили протопопа в комнату, выходившую окнами в противоположную сторону.
Гомон и суматоха во дворе постепенно утихали. Быстро позабыв, как и положено пьяницам, первоначальную причину своего возмущения, гуляки, в поисках нового повода для свары, лезли с объяснениями друг к другу и к родичам, а те грузили их, словно мешки, на коней или под руки уводили вниз по дороге. Только отдельные безумцы еще торчали у навеса, с отблесками пламени на потных пьяных лицах, и, мигая, глазели на Анику. Но и Аника собиралась уже в обратный путь. Она решительно отвергла предложение Якши проводить их до Вышеграда. В беспомощном смущении он горько сетовал:
– А каймакам к тебе все приходит?
Аника и слушала и отвечала рассеянно, словно думая о чем-то другом.
– Каждый вечер, Якша. Как это ты его не встретишь? Уж не обходит ли каймакам тебя стороной?
Задетый за живое, Якша передернулся, но Аника продолжала с тихой вкрадчивостью:
– Или, может быть, ты его обходишь стороной?
И, словно бы не думая о том, что говорит, прибавила:
– Он и завтра придет сразу после ужина.
Народ расходился с необъяснимой после такого неистовства поспешностью. Одни только продавцы кофе, шербета и сладостей еще возились на дворе, собирая свой товар и принадлежности в ящики, служившие им до этого прилавками. Залитые или брошенные, догорали костры. Из темноты доносились пьяные выкрики. Но и они удалялись. И только те из пьяниц, у кого не было близких, валялись кулями в канаве или под забором.
В протопопском доме долго еще мелькали лучины и свечи и шептались женщины, хлопотавшие вокруг протопопши или подававшие кофе и ракию сидевшим в кабинете мужчинам. Протопоп пришел в себя настолько, что мог сидеть и разговаривать с людьми, но делал это с видимым усилием, как после похорон. Наконец, переглянувшись, поднялись и последние, самые близкие. Протопоп попрощался с ними, стараясь держаться как можно более спокойно и уравновешенно. Только с протопоп шей остались ночевать две женщины.
Когда дом опустел, протопоп некоторое время побыл еще в кабинете, а потом встал и пошел в большую комнату, глядевшую окнами на церковный двор и усадьбу Тасича. С трепетом прислушивались к его шагам протопопша и оставшиеся у нее женщины. Но вскоре все замолкло. И женщины решили, что протопоп перебрался прилечь в большую комнату, где было более прохладно и проветрено.
Протопоп между тем зажег восковой ночник, запер дверь и сел перед свечой, озарявшей его грудь, бороду и широкое землистое лицо с темными впадинами глаз. На улице брехали собаки. Церковный двор тонул во мраке; только за рекой у дома Тасича мелькали лучины.
Так он сидел на сундуке со скрещенными на груди руками, словно бодрствовал над покойником.
Гнев его остывал, в голове прояснялось, но боль разрывала сердце. И в безысходности своего теперешнего горя взывал он к прошлому, ища поддержки и опоры в том времени, когда еще «не было этого». Вскоре сравняется тридцать один год, как он священствует в Добруне. Живя при церкви и с народом, много зла повидал протопоп на своем веку, многое хранится в его памяти, но никогда он и мысли не допускал, что доведется дожить до этой нежданной-негаданной беды, которая ворвется в его собственный дом и поразит его родную кровь, надрывая родительские души, покрывая бесчестьем головы отца и матери, бессильных отвратить ее отчаянной борьбой и даже самой смертью.
В холодной пустыне его души возникло не изведанное протопопом до сих пор чувство щемящей всеобъемлющей жалости. Жалости ко всему роду людскому, к самому его дыханию, к хлебу, который он ест. И прежде всего к этому несчастному, большому, неразумному ребенку, впавшему в такой невиданный позор. И, притулившись на сундуке, согнувшись, как сиротинка, закрыв лицо руками, протопоп впервые в жизни зарыдал – безудержно, в голос. Беспомощный и безоружный перед лицом беды, несправедливости и срама, всхлипывал он сквозь стиснутые зубы, тщетно стараясь взять себя в руки и подавить рыдания, но в то же время под живительным потоком этих слез он словно бы возрождался. И, судорожно сжимаясь в комок и склоняясь к самому полу, воспарился духом и в просветлении восстал из падших и проклял всей силой души и разума поганую блудницу, страшное создание без стыда и без совести.
3
Той же ночью при лунном свете Аника возвратилась в Вышеград. За ней по пятам следовал Якша. Следующим вечером по дороге к Анике каймакама подстерег выстрел из-за живой изгороди. Алибег был легко ранен в плечо. В тот же вечер Якша исчез из города.
Аника послала свою цыганку справиться о здоровье Али-бега, но слуги прогнали ее палками. Анику это ничуть не встревожило. Она была совершенно уверена, что каймакам и без всякого зова явится к ней, едва только поправится. Поездка в Добрун окончательно убедила Анику в полной ее безнаказанности. И не только ее, весь город, пребывавший в страхе и трепете перед полным разбродом и безвластием, чувствовал то же самое.
Стоит сентябрь. В сосновом бору над Банполем каждый вечер вздымается пламя костра, который разводит Якша; он подался в гайдуки, ибо в Добрун ему дороги нет, а в город спускаться он опасается. Напрасно на его поимку посылаются жандармы. Вскоре они перестали преследовать беглеца, и его костер что ни вечер разгорается над самым Боровацем, в получасе ходьбы от города. Все жители прекрасно знают, что это Якшин костер светится в горах. И Аника со своего двора глядит порой, как с первыми звездами загорается огонь его костра, расцветая и наливаясь красным пламенем в ночи, сгущающейся над горами.
В то время как Якша прячется в лесах, добрунский протопоп, неподвижный и белый, как мертвец, лежит у себя дома в постели. Заплаканная протопопша днями и ночами неотлучно находится при нем. Взглядом умоляет она мужа произнести хоть единое слово, приказать ей что-нибудь, но он лишь кусает губы, скрытые в седой бороде и усах, и не поднимает на нее остановившегося, отсутствующего взгляда.
Каймакам проводит вечера в своем саду над Дриной с приятелями. Отдав распоряжение жандармам найти и схватить Якшу, он выбросил из головы и дьякона и жандармов. Рана его быстро зажила. А тут к нему еще и гости нагрянули из Сараева – двое лоснящихся жиром османов.
Днем они сидят в саду над рекой, играют в карты или посылают солдат пускать по течению желтые тыквы и стреляют в них как в движущиеся мишени. А под вечер приводят музыкантов-цыган. Османы привезли с собой потешные фейерверки, выписанные из Австрии, и зажигают их, когда стемнеет. Весь город взбудоражен этим невиданным чудом. Дети не ложатся спать, а ждут, прильнув к стеклу, когда начнут пускать ракеты из каймакамового сада. И взрослые с недоверчивым изумлением дивятся на россыпь красных и зеленых огоньков, вспыхивающих на летнем небе и осыпающихся светящимися каплями, после чего наступает еще более густая и непроглядная темнота с мерцанием звезд и полыханием Якшиного костра в горах.
Аника затаилась. Не принимает никого. Под вечер запирает ворота и приказывает Еленке петь. У Еленки высокий, пронзительный голос, так что ее слышит весь город от горы до горы. Аника сидит возле нее и слушает, неподвижно, немо, так что ни один мускул не дрогнет на лице.
В городе, где истолковывался каждый жест Аники и каждое ее слово передавалось из уст в уста, поговаривали, что Аника не успокоилась и не угомонилась, хотя унизила протопопа в его собственных стенах и покорила весь город С недоумением и страхом, граничащим с благоговением, повторяли слова, которые она сказала недавно одному пропойце-турку, особенно упорно осаждавшему последнее время ее дом.
Это был богатый и свирепый турок из Рудова. Трезвый, он сидит где-нибудь в трактире или околачивается в городе, а как напьется, – а напивается он ежедневно, – устремлялся на Мейдан, прямо к Аникиному двору. С каждым днем он проявляет все большее нетерпение и наглость. В ярости кидается на Еленку и Савету или на других мужчин, подобно ему добивающихся, чтоб Аника их приняла. С дикими угрозами мечется он под окнами и вонзает в калитку свой огромный нож. И когда он так однажды бесновался, размахивая ножом, и диким голосом вопил, что сегодня он кого-нибудь прирежет, Аника вдруг сама выбежала из дома. В легкой одежде и белых чулках без шлепанцев, она в одно мгновение оказалась перед турком.
– Ты что? Что ты орешь? Чего тебе надо? – допытывала она его своим глубоким, низким голосом, лицо ее при этом оставалось совершенно спокойным, сошлись только брови. – Кого ты тут прирезать хочешь? Ну, бей! Думаешь, кто-нибудь боится твоего ножа, дурень деревенский! Бей, говорю тебе!
Турок впился в нее своими пьяными глазами, все время что-то жуя и глотая, так что дергались концы его длинных рыжих усов и ходил ходуном выступающий небритый кадык. Позабыв про свой нож и угрозы, он стоял, словно бы сам ожидая от нее смертельного удара. Аника вытолкнула турка со двора и заперла за ним калитку.
Говорили, что, когда Аника проходила мимо Еленки, Тане и еще какого-то юнца, продолжая бранить пропойцу, она проговорила вслух, но как бы про себя:
– Доброе бы дело сделал тот человек, который бы убил меня.
Но в повальном помешательстве, овладевшем городом из-за Аники, даже здесь, где все про всех известно, было два страдающих сердца, о которых никто и не подозревал. Две души, страдающие каждая по-своему и про себя, тайно и скрытно, но глубже и тяжелее других. Это был Лале, брат Аники, и Михаило.
С первых дней позорной Аникиной славы Лале перестал приходить домой. Не появлялся он и в торговых рядах. Дневал и ночевал в пекарне. Сестру он не желал больше знать. Стоило кому-нибудь случайно помянуть при нем ее имя, как его по-детски ясный взгляд хмурился и вперялся в какую-то невидимую точку. Но тотчас же, тряхнув своей светловолосой, запорошенной мукой головой, он снова улыбался особой улыбкой слабоумных. И, напевая, продолжал механически и быстро накалывать пшеничные караваи, выводя на них однообразные узоры, каким его с детства научил отец.
Вот и все, что было видно поверхностному наблюдателю. Какие муки испытывал Лале, что переживал в душе в полутемной клетушке за большой печью молчаливый, недоразвитый юноша – этого никто не знал.
Неподалеку от пекарни Крноелаца, несколько в стороне от центра базара, стоял дом газды Николы, где по-прежнему жил Михаило. С тех пор как Аника вышла на свой срамной, разбойный промысел, Михаило старался больше быть в разъездах, но, возвращаясь в город, не мог избежать разговоров по лавкам и из них узнавал все новости и слухи, связанные с Аникой.
Газда Петар Филипповац, отлучивший сына от дома и не разговаривавший из-за него с женой и дочерьми, особенно любил Михаило и подолгу беседовал с ним, как с близким другом, несмотря на разницу в годах. Частенько с раннего утра устраивались они в лавке газды Петара. Еще и половина лавок на базаре не открыта. Тишина и прохлада. Газда Петар, мрачный и отекший, сипло басит:
– Молод ты еще, а я тебе скажу, что сущую правду старые люди говорили. В каждой женщине бес сидит, которого надо убить или работой, или родами, а то и тем и другим; а если женщина увиливает от того и другого, ее самое надо убить.
И как будто бы до сих пор они об этом никогда не говорили, газда Петар, возвышая голос, обращался к нему с одним и тем же заявлением:
– Забыли этот завет люди, брат Михаило!
Когда же Михаило напоминал ему рассказы о Тияне или о Савете, еще до Аники погрязших в пороке, газда Петар перебивал его:
– Тияна была против этой святая. А Савета? Если бы одна только Савета, город бы мирно спал. Спокон веков водилась здесь какая-нибудь цыганка или бродяжка, да ее место было известное – с солдатьем по канавам. Никто на это и внимания не обращал и никому это глаз не кололо. Но такое! Видал, что творится! Церковь поругана, власть посрамлена и всех нас в гроб она вгонит. И никто ничего с ней поделать не может.
– Никто?
– Никто, видит бог, никто. Сейчас она в городе и паша и владыка. И уж коли в городе не найдется никого, кто бы эту гадюку убил, надо нас поджечь со всех четырех сторон. Разбойники, что по дорогам в засадах сидят, и те меньше, чем она, зла причинили.
И он начинает перечислять все ее злодейства, пока не доходит до собственного своего несчастья. А тут только махнет рукой и сглотнет вставшую в горле комом горечь. Михаило утешает его: когда-нибудь и Аникиной вольнице наступит конец.
– Нет. Не будет ей конца. Так она и будет разбойничать до скончания века. Не знаешь ты нашего народа. Против всякой напасти устоит, только не перед такой. Оседлала она нас, и никто ее никогда не скинет.
Газда Петар неизменно завершал свои речи этими словами, Михаило слушал его, потупив в задумчивости голову.
Знать бы убитому горем старику, какие мучения доставляют Михаило эти разговоры, он бы нашел себе другого собеседника или наедине с собой разбирался бы в своей беде.
А Михаило порой казалось чудом, что у него откуда-то берутся еще силы быть среди людей, работать, говорить, держать себя в руках настолько, чтобы ничем не выдать того, что происходит в нем вот уже целый год.
Стремительность Аникиного преображения убедила его в несбыточности его мимолетной и обманчивой надежды. Негодуя на самого себя, он спрашивал, как мог он хоть на миг помыслить о том, что все произошедшее с ним в корчме на развилке дороги, может изгладиться из памяти и порасти травой забвения. Как смел он надеяться на это? Однажды в Сараеве на ярмарке ему довелось видеть, как один серб пронзил ножом албанца. Нож остался в ране. Раненый, не обернувшись на убийцу, за которым уже кто-то кинулся, медленно, торжественно и сосредоточенно направился к первым открытым дверям. Он шел, словно считая шаги, ни на кого не глядя, только зажимал обеими руками свою рану, ясно отдавая себе отчет в том, что жить ему осталось до тех пор, пока не вытащат из раны нож.
Как собственную свою неминуемую и близкую смерть, Михаило ощущал, что «то дело» не завершилось ночью в корчме и восемь лет страданий его не искупили. Он, Михаило, был тогда смертельно ранен. Восемь лет – это те несколько шагов албанца до первых открытых дверей, которые он проделал, прижав руки к ране, опустив вниз глаза. Спрятавшись и затаившись в этом городе, он дал себя убаюкать обманчивой надежде окончательного избавления. И вот теперь погоня настигла его.
И странно, душевная мука и страх от этого признания собственного поражения словно бы становились меньше. И с сокрушением и грустью внутренний голос нашептывал ему:
– Пришло время вытащить из раны нож. Бессмысленно обманывать себя.
Теперь Михаило не может дать себе отчет, с какого времени в сознании своем стал он путать и отождествлять Анику с Крстиницей; они давно уже, всегда, как чудилось ему, были для него одним лицом. И не только Аника, но и все те малочисленные, убогие женщины из его жизни за эти восемь лет: бродяжка в каком-нибудь трактире или цыганка на дороге, которую он не мог обойти, побежденный желанием, – все они теперь соединились для него в одну женщину: статную, дородную Крстиницу, рыжеволосую, с огненным взглядом и могучими руками. В них во всех узнавал он ее по тому страху, который они по себе оставляли, по желанию бежать, скрываться, очиститься, отмыться и забыть.
Но теперь это было не то, что мгновенно вспыхивало и исчезало: соблазн, испуг и отвращение. Здесь на взгорье, совсем рядом – крикнешь и тебя услышат, – жила женщина, преследующая его неотступным напоминанием о Крстинице, и эту женщину надо убить. Вызванные когда-то Аникой мечты обратились теперь новой мукой, горьким укором самому себе, а ее разоблачение после томительной недолгой игры подтвердило самые тайные его и страшные предчувствия.
Сын оружейника, чувствительный и твердый по натуре, выросший под руководством разумного и честного отца, Михаило умел терпеть и скрывать свои чувства, но страдания его превышали уже всякую меру терпения. Чудовищный призрак позора вставал перед ним страшнее и мучительнее самой смерти. А неизбывная боль, отравляя каждую минуту жизни, доводила до безумия.
Порой его сознание, как неокрепший детский ум, одолевали навязчивые и абсурдные мысли. Может быть, ему было бы легче, если бы он, например, в ту ночь не оставил свой нож в руках Крстиницы? Он воспринимал его как залог, улику, связывавшую его с тем страшным миром, из которого он вырвался в ту ночь. И когда при нем случайно и без всякого отношения к нему произносили слово «нож», внутренний голос сейчас же отзывался в нем: «Мой нож остался у нее». Этот незримый внутренний разговор мало-помалу заменил Михаило истинную жизнь.
Но наряду с многоликими и тяжкими испытаниями, познанными Михаило в его долголетнем одиночестве и непрерывных внутренних расчетах с собой, существовала, оказывается, еще одна чудовищная пытка: упорное повторение одного и того же сна с полным пониманием того, что сон этот он видел прошлой ночью. Это был сон, в котором он сводил счеты с Аникой. Михаило не помнит, когда он впервые приснился ему, но с каждым повторением сон этот пополняется какой-то новой реальной подробностью, которую он тотчас подмечает. И может быть, от этого, сгущаясь, сон этот из области нематериальных видений как бы и сам переходит в действительность, сливается с ней.
Вот каким он предстал перед Михаило впервые.
Прозрачное утро. Свежесть и прохлада на лице, на губах, во всем теле. Гордо выпрямившись, он идет торжественно настроенный, радуясь принятому решению, столь величественному, что он не может охватить его целиком и только ощущает все его непереносимое бремя. Как будто бы кто-то неутомимо расчищает перед ним улочки и перекрестки от людей, и само величие его решения ведет его вперед. Так он проходит мимо Крноелацевой пекарни, откуда доносится веселое пение Лале. Поднимается на Мейдан. Аникин двор залит ярким светом, испещрен ожившими головками цветов. Двери дома гостеприимно распахнуты.
Какие отчаянные усилия во сне и наяву делал над собой Михаило, чтобы не переступать этого порога, чтобы обойти ту дверь! Занимался тем, чем мог не заниматься, отправлялся в дорогу безо всякой надобности, лишь бы отогнать от себя эти мысли, лишь бы забыть про них. До каких-то пор это ему удавалось, но в последнее время происходило обратное: он забывал сроки торговых сделок, пропускал назначенные встречи. И сам пугался своей несобранности и рассеянности, как будто бы обнаружил в себе какую-то болезнь.
Оставался, может быть, еще один выход: предупреждая беду, бросить все и бежать без оглядки, как бегут банкроты и преступники. Трудности жизненного характера или явные враги, скорее всего, принудили бы его именно к этому. Но так – куда бежать? То, от чего хотел он скрыться, подстерегало бы его на всех дорогах, в каждом городе. И, наконец, мысль о побеге, как и о любом другом способе спасения, затерялась в сумбуре видений и мыслей, диким вихрем проносившемся в его голове.
Здоровый разум и молодость, жаждущая жизни, удерживали его на последней черте. Так, он иногда думал написать или передать Анике, пригрозить ей, потребовать, чтобы она исчезла, ради нее самой, ради него, ради всех. Но тут же понимал тщетность этой мысли.
Часто думал Михаило и о Лале. Что-то в этом красивом и простодушном пареньке его всегда привлекало. Между ним и братом этой женщины, вошедшей в его судьбу, давно существовала взаимная тяга, какая-то любовь, настороженность и ревность. Михаило бывал у него при всякой возможности. И после бесед с газдой Петаром особенно часто возвращался мыслями к Лале. Ему казалось, что он, как брат Аники, должен был бы почувствовать и понять, что именно ему надо обуздать, укротить эту женщину, а если потребуется, то и убрать. Проходя ранним утром мимо пекарни, Михаило нарочно заходил туда. И всегда заставал Лале за тем, как он огромным черным ножом накалывал, распевая, белые пышные пшеничные хлебы. Они перебрасывались с ним словом, другим, насколько позволяло косноязычие Лале. Михаило пытался свернуть разговор на Анику, но безуспешно. Сияющего счастливой идиотской улыбкой Лале нельзя было оторвать от его всегдашней темы о муке, воде и хлебе.
Таким образом, у Михаило пропала и эта слабая надежда. Все расступались перед ним, сталкивая его с Аникой лицом к лицу; все неудержимо влекло его в какую-то бездну, и, в беспомощности оглядываясь по временам на проделанный путь, Михаило мог только поражаться, как далеко он зашел на этом пути.
Стояла прекрасная вышеградская осень. Михаило чувствовал, что для него наступила пора прощания и разлуки. Началось все это незаметно. Он проснулся со словом «прощай» на устах, отозвавшимся в нем болезненным стоном. К кому обращено было это «прощай»? К растаявшему сну или к ночи вообще? Этого он не знал и сам. И не думал об этом. Но несколько позднее, умываясь во дворе у источника и склонившись к полной пригоршне студеной игристой воды, вдруг снова произнес это слово «прощай» и тут же расплескал его вместе с водой. И снова позабыл о нем.
Но потом сам увидел – он и в самом деле прощается. И в один прекрасный день подошел как ни в чем не бывало к цыганке Аники, часто попадавшейся ему в торговых рядах, и с тихой вдумчивостью сказал:
– Спроси Анику, могу ли я завтра прийти к ней утром или в полдень, только чтоб никого у нее не было. Есть один разговор.
Когда цыганка исчезла, Михаило с дрожью осмотрелся вокруг, напрасно ища поддержки и совета. Но весь день затем был совершенно спокоен, приводил в порядок счета, убирался в доме. Перед заходом солнца собрался, как обычно, на Стражиште, где столько раз проводил с товарищами вечера, пил, слушал песни.
Неторопливо поднимался он к знакомому уступу. Расположился над турецким кладбищем и расставил перед собой ракию, кофейную чашечку и закуску. И не торопясь стал чиркать кресалом о кремень, с нежностью держа зажженный трут в пальцах левой руки. И потом не отрывался взглядом от кудрявых завитков табачного дыма, застилающего вид и медленно растворяющегося в неподвижном воздухе. Между соснами еще проглядывало солнце. Под ним в долине курился дым над красными и черными кровлями белых вышеградских домов. В разлившемся рукаве Рзава отражались небо и прибрежные ракиты.








