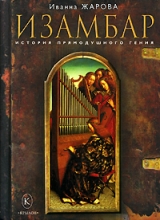
Текст книги "Изамбар. История прямодушного гения"
Автор книги: Иванна Жарова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Кристальной ясностью повеяло от слов Изамбара. Монсеньор Доминик чувствовал себя противоречивым и запутанным рядом с этим хрупким человеком, что стоял перед ним, опираясь рукою о стену, и говорил так прямо о том, о чем епископу вовсе не хотелось думать. Ему было неловко перед Изамбаром так, словно тот был зеркалом, в которое смотрелась епископская душа, смотрелась и цепенела, особенно когда монах просил сжечь его без всякого смущения и называл монсеньора Доминика «отче». Это слово в устах Изамбара каждый раз звучало проникновенно и почтительно, даже когда он упрекнул епископа в невнимании.
Слово из прошлого, уже такого далекого, что как будто бы чужого. Но оно до сих пор согревало и звало. Как может тот, кого так называют, не пытаться спасти, помочь, защитить? «Отче Доминик…» Так звали кого-то другого. А еще раньше был просто Доминик. Доминик, который тоже любил греческие книги и даже увлекался Евклидом. Тот Доминик, у которого за все годы не было ни одного друга…
– Изамбар, у меня тоже есть к тебе просьба. Пожалуйста, пока нас никто не слышит, зови меня просто по имени. Меня зовут Доминик.
– Доминик?
Глаза их встретились близко-близко и раскрылись одинаково широко.
– Так мне будет легче, – прошептал епископ. – И тебе тоже.
– Хорошо, – улыбнулся Изамбар. – Хорошо, Доминик. Так с чего мы начнем? С моего принципа?
– А может быть, Изамбар, лучше с точки? Ты пишешь о точке как о Начале…
– Евклид тоже, – напомнил Изамбар. – Ты прав, Доминик. Принцип вытекает из геометрической очевидности. Всегда. А геометрия начинается с точки.
– Садись, Изамбар. Вот, я все тебе принес. Твои закладки, чистые листы, перо, чернильницу… Здесь… Да, именно здесь у тебя сказано: «В Начале было Начало, Вещь в себе. В богословии – слово, в геометрии – точка».
– Да, Доминик, я помню. Ну, что же… – он внимательно посмотрел на собеседника. – Ты сам этого хотел. Я предупреждал тебя…
Изамбар снова улыбнулся, грустно и, казалось, с прежним почтительным сочувствием к тяжкому бремени епископской власти, помолчал и начал:
– Итак, Начало есть Вещь в себе. Латинское in principio в славословии Пресвятой Троицы стоит перед тремя временными определениями, то есть над временем. Таким образом, Начало как божественный Принцип – понятие метафизическое. Евангелист Иоанн пишет: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». То есть Начало как Принцип принадлежит Творцу, и Творец обладает им вне времени и пространства, которые являются уже частью творения, и возникли вследствие применения Творцом этого Начала– Принципа. Более того, в третьем утверждении Начало-Принцип отождествляется с Самим Творцом. Отсюда вытекает, что Творец присутствует во всем Своем творении в качестве божественного Начала (Принципа) – «через Него все начало быть». Евангелист и вслед за ним все богословы называют этот Принцип Словом. Слово как Начало обладает животворящей, созидающей, божественной силой; оно не тождественно словам человеческим и недоступно ни языкам, ни частному разуму. Божественное Слово не существительное, но Слово-Глагол; оно есть Действие. Но богословы используют слова человеческие, ибо они люди. И говорят о Логосе. Это греческое понятие; изначально оно означало не более чем «суждение», но с развитием логики логос стал именно принципом, позволяющим выстроить логическую цепь. Логос приобрел свое всеобъемлющее значение благодаря математике и развитию доказательства в геометрии. Ты следишь за мыслью, Доминик? Богословы взяли логос у геометров. И отождествили с Самим Творцом. Для геометров же логос – способ постижения посредством рассуждений об очевидностях, выявляемых через геометрию. Все античные философы шли по их стопам. Математическое доказательство стало матерью философии. А для математиков логос умозрителен, но не очевиден. Он вытекает из геометрии с ее очевидностями, отраженными в построениях.
Только геометрия имеет дело с прямыми очевидностями. И она обладает своими собственными началами, которые описаны Евклидом, в своем роде евангелистом геометрии. Первым определением в Первой Книге «Начал» Евклид обозначает точку. Если ты помнишь, Доминик, оно звучит так: «Точка – это то, что не имеет частей». Обрати внимание, что уже здесь заложена условность геометрической очевидности: точка неделима вне зависимости от ее масштаба, даже если обвести ее на чертеже жирным кругом. Геометр никогда не забывает, что имеет дело с миром идеальных объектов и абстрактных идей, графически отражаемых на плоскости. Он помнит, что плоскостное изображение неизбежно ведет к искажению. Особенно явно искажение при работе с объемными фигурами: они подвергаются двойному преломлению – в зрачке нашего глаза и на плоскости листа. Прослеживая и осознавая это явление, геометр понимает, что подобное происходит и с истиной при попытке перенести ее на плоскость человеческого языка. Поэтому, имея точку как неделимое надвременное Начало, заключающее в себе Вселенную, геометр мог бы сказать: «В начале была точка, и точка была у Бога, и точка была Бог… Через нее все начало быть…» Но он так не скажет. Он улавливает нелогичность употребления прошедшего времени по отношению к надвременному. И он не поклоняется точке так, как богословы поклоняются слову. Просто точка есть универсальный геометрический объект. Но геометр, если у него достаточно чувства юмора, может поиграть в игру, правила которой задали богословы.
Глаза Изамбара заискрились тихим весельем. Он явно получал удовольствие от самого процесса высказывания этих мыслей. Но оно было совершенно невинным и походило разве что на озорство беззлобного ребенка, озорство не из духа противоречия, а именно из чувства юмора.
– Геометр берет точку и наделяет ее тем качеством, которым богословы наделили логос, – бесконечным потенциалом созидающей силы. И обнаруживает, что отрицание этого качества точки будет неверным утверждением. Аристотель в свою очередь определил точку как единицу, не имеющую положения. По Пифагору, единица не есть число, тогда как все в мире таковым является, ибо числовой принцип лежит в основе мирозданья, выраженный в цикличности и периодичности самой Жизни. Пифагорово число – сумма единиц, единица же – Начало, точка отсчета. Слышишь, Доминик? Точка отсчета, чисто умозрительная! Геометр задает ей положение, помещая на плоскость. Чертеж – всегда иллюстрация представляемого в уме действия. И если я ставлю точку пером на листе, или грифелем на доске, или же тростью на поверхности земли, это значит, что прежде я зафиксировал воображаемую, абстрактную точку в воображаемой, абстрактной плоскости. Фиксация точки в каком бы то ни было положении как геометрический процесс, с другой стороны, является актом создания плоскости: если точка А существует и обозначена, существует и плоскость, в которой она лежит, некая плоскость альфа . Наличие же плоскости позволяет выполнить на ней любое построение, как планиметрическое, так и стереометрическое, ибо, как я уже сказал, посредством искажающего преломления наши глаза и наши руки способны перенести на ровную поверхность и объемное изображение. И когда мы имеем дело с двумя, тремя и более плоскостями, мы так или иначе условно обозначаем их на рабочей плоскости альфа , вызванной к бытию актом фиксации точки А . Так, плоскость альфа «начинает быть» через точку А . Плоскость альфа, в свою очередь, потенциально заключает в себе множество подобных точек, которые могут быть выбраны и обозначены. Через точку А на плоскости альфа можно провести прямую линию а . Концы линии, по Евклиду, – точки. Но Евклид допускает, что концы эти всегда могут быть продолжены, а определяя параллельность прямых, сам предлагает продлить их, дабы убедиться, что они не пересекутся, продлить до бесконечности! До бесконечности, Доминик! Так, Евклидова прямая линия, определенная в противоположность кривой как равнорасположенная по отношению ко всем точкам, лежащим на ней, и Евклидова плоскость в противоположность поверхности вообще, равнорасположенная по отношению ко всем лежащим на ней прямым, конечны лишь условно, для удобства и наглядности. При этом линия определена как протяженность длины, а поверхность – как протяженность двух измерений, длины и ширины. Речь идет не об измеримости, а именно о протяженности измерений в принципе и графически, протяженности, ограниченной лишь нашими средствами восприятия. А мы начали с точки, Доминик. И уже столкнулись с неизмеримым. Но это только первый шаг. Идем дальше.
Обозначим на плоскости альфа точку B , не лежащую на прямой а, и проведем через нее прямую b, непараллельную прямой а. Очевидно, что прямые а и b пересекутся в некой точке C. Пересекающиеся прямые образуют точку своего пересечения. По тому же принципу пересекаются и плоскости, образуя уже прямую. Вот, например, плоскость бета. Видишь, я выполняю сечение и получаю прямую c, принадлежащую одновременно и плоскости альфа, и плоскости бет. Я могу пойти еще дальше и выполнить сечение обеих плоскостей плоскостью гамма единственно возможным способом, через прямую c. Конечно, графически пересечение трех плоскостей в одной прямой не очень наглядно, ибо тут мы имеем дело с упомянутыми мною неизбежными искажениями, так как само построение выполняется тоже на плоскости, причем уже четвертой по счету. Можно упростить чертеж и свернуть плоскости в прямые, то есть дать вертикальный срез изображения, иными словами – вид сверху (или снизу, если тебе так больше нравится). Мы получили три прямые, свернув протяженность ширины трех плоскостей, три прямые, проходящие через одну точку, которой обозначили прямую, лишив ее протяженности длины. Теперь хорошо видно, что я выполнил построение таким образом, чтобы все углы, образуемые при пересечении рассматриваемых геометрических объектов, были равны между собой. Их шесть, а ось пересечения есть ось симметрии, вокруг которой можно описать окружность. На что похож этот чертеж, Доминик? Что бы ты стал делать с ним дальше?
Епископ не заметил провокации. Он был слишком возбужден.
– Ты пишешь в своих заметках, Изамбар, что окружность – шкала времени. Я удвоил бы количество прямых, проходящих через центр окружности, поделив полученные тобою углы еще надвое, и получил бы Зодиак.
Изамбар рассмеялся поистине хрустальным смехом, полным тихого веселья, чем заставил собеседника разинуть рот от удивления.
– Я так и знал, – довольно сообщил математик. – Честное слово, Доминик! Я знал, что геометрия интересует тебя лишь постольку, поскольку она имеет отношение к астрологии. Прости меня, Доминик. Я не должен был шутить над тобой, – он примирительно улыбнулся. – Потом, Доминик, хорошо? А сейчас давай вернемся к точке. Да, я помню, что писал о движении точки в пространстве и времени. И мы подойдем к этому позже. А пока считай, что точка еще не двигалась. Я только иллюстрировал Евклидовы постулаты и проводил параллель между Первой Книгой «Начал» и началом Евангелия от Иоанна. И сейчас мы продолжаем исследовать свойства точки. Мы совершили переход из плоскости в пространство и, схематически упростив построение, вернулись обратно в плоскость. Окружность же я начертил, чтобы показать тебе еще одно удивительное свойство точки: точка всегда может быть принята за центр окружности любого радиуса, так же как через точку всегда можно провести ось симметрии любой симметричной фигуры. Симметрия может иметь место только относительно точки или проходящей через нее прямой, называемой осью симметрии. Окружность симметрична относительно своего центра благодаря равноудаленности от этого центра всех точек, лежащих на ее поверхности.
Я извинился перед тобой, Доминик, за свою шутку, но твоя мысль о Зодиаке не совсем мне чужда. Просто пока что мы не говорим ни о времени, ни об астрологии. Но твоя ассоциация с зодиакальным кругом, равным тремстам шестидесяти градусам и поделенным на двенадцать частей, вполне правомерна. Я хочу сказать, что через точку, являющуюся центром окружности, можно провести множество прямых и по аналогии любую прямую в пространстве можно представить как ось пересечения множества плоскостей. Твой зодиакальный круг для меня не что иное, как упрощенное плоскостное изображение этой картины. Впрочем, скорее символическое, чем упрощенное, – я опять должен извиниться. Упрощенным следует назвать именно мой последний чертеж, обозначающий, если ты еще помнишь, три плоскости, сходящиеся в одной прямой. Три плоскости, которые я мыслю бесконечными, пронизывающими все существующее пространство, имеющими прямую, единую в этих трех плоскостях. Прямая одна, и вместе с тем их три, просто они совпадают. Можно рассмотреть каждую плоскость в отдельности и убедиться, что прямая принадлежит ей. Три плоскости имеют бесконечное число общих точек.
Ты понял смысл моей модели, Доминик? Богословы по давно уже сложившейся традиции чертят равносторонний треугольник, правильную и простейшую равноугольную фигуру (естественно, на плоскости), и, рассматривая стороны и внутренние углы данной фигуры, рассуждают о единстве Бога в Трех Лицах. Иллюстрируя догмат о Троице, богословы не могут обойтись без геометрии – вслед за логосом они берут у нее треугольник и делают из него культовый знак. Я знаю, Доминик, что и ты это делаешь. И согласен, что плоскостной равносторонний треугольник очень удобен и нагляден. Он отражает главное качество Троицы – единство Трех в Одном: три равные стороны, три равных угла в одной фигуре. Я принимаю и условность, и схематизацию – ведь я геометр, Доминик. Но я не могу забыть, что под Одним подразумевается… Бог! Бога представляют в виде плоской, ограниченной фигуры, замыкающей внутри себя некую конечную площадь. Бесконечного, неизмеримого, всепроникающего Бога!
А теперь взгляни снова на мою схему. Она тоже отражает триединство, но отражает также и бесконечность, и неизмеримость, и проникающие качества. А все оттого, что конструкция не замкнута, а, напротив, разомкнута, распахнута во все стороны. Но именно за счет разомкнутости она обладает еще одним свойством – потенциально ее можно достраивать. Троичность в треугольнике конечна, как и сам треугольник. Моя схема, как я уже сказал, троична чисто условно, из принципа упрощения. Тремя плоскостями я обозначил, что их множество, то есть по крайней мере больше двух и до бесконечности.
– Осторожно, Изамбар! – не выдержал епископ, не на шутку встревоженный. – Что же ты делаешь?! Ты отрицаешь догмат о Троице!
– Ничего подобного, Доминик, – продолжал Изамбар с прежней легкостью. – Я делаю совсем другое: я вывожу свое сознание из двумерной плоскости в многомерное пространство. И когда я это делаю, то понимаю, что и моя схема, и модель богословов не есть модель Бога, но модель мира, схема, выстраивающая человеческое сознание тем или иным образом. Бога же невозможно изобразить ни образно, ни даже схематически в идеальном геометрическом мире. Бог есть тайна. Он во всем. В пространстве. Во времени и вне времени. В Принципе. В точке. Но я ведь не сказал, что Бог есть точка, вспомни, Доминик! Я лишь описал некоторые качества точки как геометрического Начала. Далеко не все. Например, я могу доказать, что точка бесконечна. Она неделима, и она есть начало. Концы линии – точки, которые, по допущению Евклида, можно продлить; следовательно, являясь концами линии, эти точки не теряют своих априорных качеств Начала. Любую точку можно развернуть, как бы вытаскивая из нее ее потенциальные свойства на плоскости и в пространстве. В принципе, в любой точке Вселенной заключена вся Вселенная. Но я не говорю даже, как любят говорить геометры, что Бог – Геометр. Я не могу опредметить Бога, Доминик. Я лишь соприкасаюсь с Его тайной, изучая геометрию. Я могу воспринимать Бога через живой мир Его творений, через счастье или страдание, я могу раскрыть Ему свое сердце и принять Его Любовь, но я не могу вообразить или помыслить Его, ибо все, что я, смертный, способен вообразить и помыслить, есть пространственно-временные образы. Я осознаю это, потому что занимался стереометрией. Мы мыслим Бога трехмерно, ибо воспринимаем мир трехмерным. Но трехмерность данного мира не три измерения пространства; это плоскость и время. Это твой Зодиак, Доминик, и это плоский равносторонний треугольник богословов, формирующий плоскостное юридическое мышление, зажатое между шкалой добра и шкалой зла.
– Ты отрицаешь Троицу, Изамбар! – сокрушенно повторил епископ. – И похоже, к тому же отрицаешь мораль.
– Я ничего не отрицаю, Доминик. Ничего и никогда. Я только говорю, что для человека трехмерного мира, неуклонно стремящегося к плоскости как к более простой модели, Бог, естественно, троичен, причем Третье стремится к выпадению из Триединства по аналогии, ибо картина Бога отражает картину мира человека. Я просто констатирую факт. И я уже почти добрался до Filioque. Я не отрицаю и морали по той причине, что слабо представляю смысл этого понятия. Я упомянул о плоскостном юридическом мышлении в противовес сознанию и восприятию, открытому для абсолютного божественного блага с бесконечным доверием, недостаток которого и проявляется как зло, понятие вторичное и относительное. Если я что и отрицаю, Доминик, так это манихейское двуначалие.
– Ты выворачиваешься, Изамбар! Ты говоришь о Троице как о способе восприятия Бога человеком. Троица не способ восприятия, а сам Бог.
– Ты можешь это доказать, Доминик?
– Это догмат, Изамбар. А ты говоришь ересь.
– Сожги меня, Доминик.
– Нет, Изамбар. Я уверен, что ты говоришь все это нарочно.
– Хорошо. Можешь считать, что я пошутил.
– Пошутил?
– Ну да, пошутил. – И он снова тихо рассмеялся. – Ты уже забыл, Доминик, что я сказал: если у геометра достаточно чувства юмора, он может поиграть в игру, правила которой задали богословы. Ты ведь богослов, Доминик! А богословы шуток не понимают, особенно таких. И они редко утруждают себя доказательствами. Ты можешь, например, приказать снова сечь меня плетьми. Богословы всегда считали плети очень убедительным средством. Меня это нисколько не удивит и не огорчит, уверяю тебя. Я ведь монах, к тому же геометр. Я привык решать задачи, а там всегда стоит слово «дано» – я умею принимать и умом, и сердцем, и плотью. Меня можно бить, меня можно жечь огнем и железом – я ничему не противлюсь и на все согласен. Но у меня есть право монаха – молчать и право геометра – шутить. Так что имей в виду, большая часть того, что я говорю, обратима в шутку. Моя математика не более чем игра ума. Но если в тебе тоже проснется математик, ты подыграешь мне. Видишь ли, геометрия отличается от богословия прежде всего тоном, и не надо быть музыкантом, чтобы почувствовать разницу. Взять хоть те же Евклидовы допущения… В математике плеть не считается аргументом и не принят авторитарный тон со времен Пифагора. Принимается только доказательство. Докажи мне, что я не прав, Доминик. Честное слово, ты очень меня этим порадуешь!
Последняя фраза была сказана с проникновенной искренностью. Изамбар действительно ни на чем не настаивал. Епископ снова почувствовал себя неловко. Ему никогда не доводилось встречать столь легкого и открытого человека.
– Извини, Изамбар. Не могу. Мне самому жаль, что я больше богослов, чем математик. Говори дальше, пожалуйста. Я тебя слушаю.
– И ты разрешаешь мне шутить?
– Конечно.
– Правильно, Доминик, – кивнул Изамбар. – Потому что иначе я мало что смогу тебе сказать. Ты не обращал внимания, что с серьезным видом люди обычно повторяют чужие мысли? Человеку вообще свойственно утверждать то, о чем он не имеет настоящего понятия, и молчать о том, что он знает. Именно поэтому я ни на чем и не настаиваю, в отличие от богословов. И поэтому же я легко могу понять ход их мыслей. Например, на твоем месте как богослов я не упустил бы случая отстоять трехмерность и мораль. «А не приходит ли тебе в голову, Изамбар, – спросил бы я, – что мир людей и их сознание таковы, каковы они есть, потому что этого хочет Бог? Ты вот все говоришь о бесконечности, но забываешь о главном – Бог обладает властью над своим миром. Именно это качество Бога наиболее важно для людей. Людям нужно, чтобы их карали и миловали, наказывали и прощали, а Богу нужно, чтобы Его восхваляли и боялись. Без справедливости и закона, без страха вся земля давно превратилась бы в Содом, но такой „многомерности“ Бог Сам не допускает. Он проявляет Себя перед людьми как суровый Отец, приходит к ним как кроткий Сын и еще посылает Духа Утешителя. Последнее, правда, менее конкретно, но тут, Изамбар, присутствует любимый тобою мотив тайны, как и в триединстве. Практически в сознании людей карающий Отец и всепрощающий Сын уравновешивают друг друга, а Дух служит между ними связующим звеном и, в общем-то, как таковой не особенно осознается Сам по Себе. Видишь, Изамбар, людям нужна конкретика. Не все же занимаются математикой! Люди боятся бесконечности и не понимают абстрактного. Зато они боятся также и небесной кары, и земных начальств, а это главное. Данная ситуация, очевидно, более всего устраивает Самого Бога. Или ты полагаешь, что Он не вмешался бы, если бы это было не так?» А я в свою очередь, конечно же, ответил бы тебе: «О да, Доминик, разумеется. Бог богословов – самый бдительный страж своих интересов и тонкий ценитель славословий. Он никогда не упустит случая хорошенько всыпать своим рабам, причем собственноручно. Ведь Бог богословов – Сам Богослов и, согласно догмату, тоже един в трех лицах: Закон, Судья и Палач». Обрати внимание, Доминик, я не богохульствую, я шучу. Ты сам мне это позволил. Я нарисовал тебе картинку твоего бога – ведь ты богослов. Но, поверь мне, я ничего не имею ни против тебя, ни против богословов вообще, ни даже против их бога. Я без колебаний допускаю, что все это уместно и даже необходимо. Я только искренне сочувствую тебе, Доминик. Тебе придется сжечь меня. Тебе совсем этого не хочется, а придется. Ты – жертва своего бога-тирана. Не я, а ты. Я не прав?
Епископ молчал. Что он мог ответить?
– Но после того, что я сказал тебе сейчас, твоя совесть, Доминик, должна быть спокойна – с точки зрения богословия это очевидная ересь. Меня следует сжечь трижды, тем более что я монах.
Глаза Изамбара сияли добротой.
– Ты нарочно! Опять! – воскликнул епископ. – Зачем, Изамбар? Ну зачем ты так со мной? Я ведь тебе верю!
– И правильно делаешь. Я шучу, но не лгу. Это разные вещи. А сейчас я расскажу тебе про Filioque, то есть про мой принцип, если ты еще не уловил его. Говорить?
– Я слушаю тебя с предельным вниманием, Изамбар.
– Так вот, Доминик. Я сказал, что человек трехмерного мира стремится к упрощению и мыслит все более плоско, подобно тому как я для наглядности сворачивал на своем чертеже плоскости в прямые, а прямую – в точку. Мышление человека подобно черчению. Геометрия, Доминик, это еще и наука о мышлении, недаром она родила логику. Но если я как геометр помню об условности своих обозначений, ибо осознанно перехожу от плоскости к пространству и обратно, то плоскостное сознание, выстраиваемое богословами, безусловно и конечно. Третья составляющая триединства обречена на выпадение по причине того, что ее нельзя опредметить, это – Дух. Я не богослов, Доминик, я математик, но, по моему разумению, Третье должно было быть Первым – его следовало бы поставить во главу угла именно как абстрактное. Но оно стоит Третьим и выпадает. Людям не хватает на него осознания. За Первым и Вторым стоят человеческие образы, за Третьим – нет. С другой стороны, как математик я опять-таки принимаю всякую данность как условие задачи, которую должен решить. Я давно заметил, что жизненные задачи, в принципе, делятся на два вида: первые похожи на математические и решаются с помощью ума, решение вторых само по себе состоит в принятии данности – это задачи для человеческого сердца и духа. Данная задача уникальна; я представляю ее как смешанную. Я расширяю свое сердце и принимаю то, чему оно противится, одновременно приводя в уме слагаемые к общему знаменателю (не сочти опять за кощунство, Доминик, параллель Божественных Лиц с дробными числами – для меня это не менее естественно, чем образы Отца и Сына для человека, живущего заботами о семье и детях). И тогда, произнося славословие Пресвятой Троице, я воспеваю три Божественные Тайны: Тайну Творчества, Тайну Воплощения и Тайну Любви, единые в бесконечном Боге. Я только прояснил для себя смысл, стоящий за образами, принятыми богословами. И получил три основополагающих, составляющих одно Целое; три неотъемлемых друг от друга, взаимозаключающих друг друга, взаимопроникающих, равноценных и равнозначных для человека и его мира. Теперь можно говорить об исхождении, и тут треугольник богословов как раз идеален, в отличие от моей модели. Равносторонний треугольник можно поворачивать, всякий раз убеждаясь в равноправности отношений его сторон: боковые исходят из основания к вершине, и каждая из боковых может быть принята за основание, свойства же останутся прежними. Утверждения, что из Божественного Творчества исходит Любовь, и из Воплощения исходит Любовь, и из Воплощения вытекает Творчество, и из Любви – Творчество, равно как из Любви проистекает Воплощение и из Творчества – Воплощение – все эти утверждения будут неложными; они отражают взаимоотношения трех в одном, качества Триединства, выявленные геометрически в любимом богословами равностороннем треугольнике. А теперь вернемся обратно к образам Отца и Сына. Если от Отца и Сына исходит Святой Дух, то от Сына и Святого Духа – Отец, от Отца и Святого Духа – Сын. Во-первых, обрати внимание на вторую формулу. С точки зрения мистической, то есть исходя из догмата о Троице, она верна. И исторически она тоже верна – Иисус Христос на земле проповедует и воплощает Волю Отца, и Дух Святой подобным же образом благовествует устами апостолов. Но исхождение Отца от Сына и Духа нарушает иерархический принцип. Вопреки собственному догмату богословы не рискуют вращать треугольник. Им важно, чтобы Отец стоял на первом месте. Это столп, на котором зиждется власть, авторитет, закон. Сын подчиняется Отцу, но не наоборот. Это патриархат, Доминик. Ни о каком равноправии не может быть и речи. Отец все равно главный. А где есть главное, там будет и второстепенное. Сын – посредине. Дух – везде. Он исходит, но очень незаметно, из бесконечности и в бесконечность. Он «дышит где хочет», потому что людям не удалось Его опредметить и вписать в свою модель мира. Он – истинный Бог, а не способ восприятия Бога. Благодаря Его пронизывающему присутствию в Триединстве за образом Отца действительно стоит Творец, а за образом Сына – Человек, переполненный бесконечным Богом и сливающийся с Ним в неделимое Целое. Неделимое! Filioque, Доминик, это разделение!
– Подожди, Изамбар, ты потерял логику! Ты противоречишь себе очевиднейшим образом! Только что ты манипулировал треугольником и подробно раскладывал, что из чего в нем исходит, а теперь одним словом сводишь на нет все свои выкладки.
– Я манипулировал треугольником как геометр, – преспокойно заметил Изамбар. – И обратил твое внимание на то, что у богословов такие манипуляции не приняты. С их стороны, это тоже умолчание. Мы квиты.
– Извини, Изамбар, но, по-моему, это тот случай, когда шутки неуместны. Когда ты вылез из ямы, тебе было совсем не до шуток, – сказал епископ почти раздраженно и тут же устыдился своих слов, снова встретив в глазах математика предельную ясность и чистоту.
– Естественно, Доминик. Ведь меня били. И позаботились о том, чтобы мои раны не заживали, но продолжали болеть. И всякий раз, когда мне велели подняться наверх, меня снова били. Прежде я лишь догадывался, что такое боль. Теперь знаю. Это встреча с бесконечностью, Доминик. Человек, ограниченный плотью и замкнутый в мире конечных объектов, боится бесконечности, ибо его разум ее не приемлет, так же как его плоть не приемлет боли. И если нужно, чтобы кто-то перестал шутить, достаточно причинить ему боль и внушить то, что считается серьезным и конечным. Юмор – это щит. Боль его разбивает. Она погружает человека в плоть, а его ум сплющивается, становится плоским. И тогда человеку говорят: «Вот видишь, все, что было прежде, не в счет. Сейчас ты знаешь, что ты есть на самом деле. Ты просто кусок мяса, который мы можем резать, рвать, изжарить на медленном огне. Разве тебе не ясно, что ты заблуждаешься? Если бы это было не так, справедливый Бог не предал бы тебя в наши руки». И человек, как правило, соглашается – ведь он не может бороться с болью, потому что она есть проявление бесконечности по отношению к конечному телу. Ты знаешь все это гораздо лучше меня, Доминик. Ведь ты епископ и богослов. Но со мной получилось иначе. Математика научила меня принимать бесконечность. В геометрии любое построение можно рассматривать и как движение точки относительно плоскости, и как перемещение плоскости относительно точки; стереометрия же позволяет проследить такое количество вариантов, каждый из которых может быть принят как допустимая модель логического хода, что в моем сознании уже нет ничего окончательного. Так мой разум защитил себя от себя самого и давно уже не противится непостижимому. Я не могу отождествить себя с моим конечным телом. Я доверяю бесконечному Богу всем своим существом, и существо мое приемлет боль и смерть, потому что таков путь человека: должно изжить в себе конечное, дабы вернуться к Началу. Иисус Христос прошел этот путь для нас и умер на кресте. Само воплощение Христа уже есть распятие. Человеческое тело можно условно изобразить как точку пересечения времени и пространства. Бесконечный, бессмертный Дух распят на смертном теле. Мы все так созданы. И мы все умрем. Это данность.
– Вот именно, Изамбар! – поспешил прервать епископ. – Ты и так умрешь. Золотые слова! По-моему, тебе пора остановиться. Я понимаю твои претензии к богословам. И даже готов принять, говоря между нами. Я признаю, что плеть не аргумент в богословских спорах. Признаю, потому что ты доказал это. Твое доказательство тождественно математическому и по сути таковым является. Когда врач, который лечил тебя, узнал, что за три раза тебе дали сто пятьдесят шесть ударов, он сказал, что это невозможно. По его понятиям, ты должен был умереть как минимум дважды. Оставшись в живых, ты, конечно, имеешь полное право говорить все, что хочешь. Из того, что я слышал, пока мне ясно лишь одно: твое умолчание Filioque – в высшей степени странный способ поквитаться с богословами за украденный у геометров Логос. По-моему, тебе обидно за геометрию, из которой сделали служанку богословия. Ты исповедуешь ее как веру, освещаешь ее своей кровью и собираешься принести ей в жертву свою жизнь и плоть. Я еще не встречал такой любви к математике и такой преданности ей. Это внушает уважение, признаюсь честно. Не сомневаюсь, сам Пифагор не устыдился бы такого последователя, как ты. Но только вот нужны ли геометрии мученики, Изамбар? Не лучше ли тебе вернуться к твоим задачам? Я с удовольствием позанимался бы ими вместе с тобой; я просил бы твоих объяснений всякий раз, встречаясь с чем-то сложным для своего понимания, и был бы уверен, что твои объяснения останутся ясны и вразумительны, невзирая на степень трудности вопроса. Когда ты решаешь задачи, Изамбар, твоя логика блестяща. Но богословие на твоем месте я оставил бы богословам, простив им даже их неуклюжие поползновения в твою обожаемую геометрию. Я проявил бы к ним снисходительность и великодушие (тем более что тебе присущи эти качества), а не заражался бы дурным примером. Со своей стороны я готов забыть все, что ты наговорил мне. Никакой ереси я не слышал, Изамбар. А насчет Filioque… Где же твое чувство юмора?! Представь себе, Изамбар, лицо отца настоятеля, когда он узнает, что причина твоего молчания, скажем, в болезни горла. Он окажется в весьма неловком положении! Тебя не занимает такая шутка?






