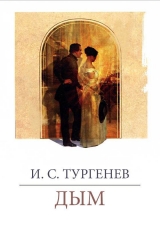
Текст книги "Дым"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Генерал засмеялся, и все опять за ним засмеялись – все, исключая Ирины, которая даже не улыбнулась и как-то сумрачно посмотрела на рассказчика.
Снисходительный генерал потрепал Бориса по плечу.
– Все это ты выдумал, друг ты мой сердечный…Станешь ты палкой кому-нибудь грозить… У тебя и палки-то нет. С'est pour faire rire ces dames. Для красного словца. Но дело не в том. Я сейчас сказал, что надобно совсем назад вернуться. Поймите меня. Я не враг так называемого прогресса; но все эти университеты да семинария там, да народные училища, эти студенты, поповичи, разночинцы, вся эта мелюзга, tout ce found du sac, la petite propriete, pire que le proletariat (генерал говорил изнеженным, почти расслабленным голосом), voila ce qui m'effraie… вот где нужно остановиться… и остановить. (Он опять ласково взглянул на Литвинова.)
Да-с, нужно остановиться. Не забудьте, ведь у нас никто ничего не требует, не просит. Самоуправление, например, – разве кто его просит? Вы его разве просите? Или ты? или ты? или вы, mesdames? Вы уж и так не только самими собою, всеми нами управляете. (Прекрасное лицо генерала оживилось забавною усмешкой.) Друзья мои любезные, зачем же зайцем-то забегать? Демократия вам рада, она кадит вам, она готова служить вашим целям… да ведь это меч обоюдоострый. Уж лучше по-старому, по-прежнему…верней гораздо. Не позволяйте умничать черни да вверьтесь аристократии, в которой одной и есть сила… Право, лучше будет. А прогресс… я, собственно, ничего не имею против прогресса. Не давайте нам только адвокатов, да присяжных, да земских каких-то чиновников, да дисциплины, – дисциплины пуще всего не трогайте, а мосты, и набережные, и гошпитали вы можете строить, и улиц газом отчего не освещать?
– Петербург со всех четырех концов зажгли, вот вам и прогресс! – прошипел раздражительный генерал.
– Да ты, я вижу, злобен, – промолвил, лениво покачиваясь, тучный генерал, тебя бы хорошо в обер-прокуроры произвести, а по-моему, avec Orphee aux enfers le progres a dit son dernier mot.
– Vous dites toujours des betises, – захихикала дама из Арзамаса.
Генерал приосанился.
– Jе ne suis jamais plus serieux,madame,que quand je dis des betises.
– Мсье Вердие эту самую фразу уже несколько раз сказал, – заметила вполголоса Ирина.
– De la poigne et des formes – воскликнул тучный генерал, – de la poigne surtout! А сие по-русски можно перевести тако: вежливо, но в зубы!
– Ах ты, шалун, шалун неисправимый! – подхватил снисходительный генерал. Мерзавец, не слушайте его, пожалуйста. Комара не зашибет. Он довольствуется тем, что сердца пожирает.
– Ну, однако, нет, Борис, – начал Ратмиров, обменявшись взглядом с женою, шалость шалостью, а это преувеличение. Прогресс – это есть проявление жизни общественной, вот что не надо забывать; это симптом. Тут надо следить.
– Ну да, возразил тучный генерал и сморщил нос. – Дело известное, ты в государственные люди метишь!
– Вовсе не в государственные люди… Какие тут государственные люди! А правду нельзя не признать.
"Вогis" опять запустил пальцы в бакенбарды и уставился в воздух.
– Общественная жизнь, это очень важно, потому что в развитии народа, в судьбах, так сказать, отечества…
– Vаlеrien, – перебил "Вогis" внушительно, – il y a des dames ici. Я этого от тебя не ожидал. Или ты в комитет попасть желаешь?
– Да они все теперь, слава богу, уже закрыты, – подхватил раздражительный генерал и снова запел: "Deux gendarmes un beau dimanche…"
Ратмиров поднес батистовый платок к носу и грациозно умолк; снисходительный генерал повторил: "Шалун! Шалун!" А "Вогis" обратился к даме, кривлявшейся в пустом пространстве, и, не понижая голоса, не изменяя даже выражения лица, начал расспрашивать ее о том, когда же она "увенчает его пламя", так как он влюблен в нее изумительно и страдает необыкновенно.
С каждым мгновением, в течение этого разговора, Литвинову становилось все более и более неловко. Его гордость, его честная, плебейская гордость так и возмущалась. Что было общего между ним, сыном мелкого чиновника, и этими военными петербургскими аристократами? Он любил все, что они ненавидели, он ненавидел все то, что они любили; он слишком ясно это сознавал, он всем существом своим это чувствовал. Шутки их он находил плоскими, тон невыносимым, каждое движение ложным; в самой мягкости их речей ему слышалось возмутительное презрение – и однако же он как будто робел перед ними, перед этими людьми, этими врагами… "Фу, какая гадость! Я их стесняю, я им кажусь смешным, вертелось у него в голове, – зачем же я остаюсь? Уйдем, уйдем тотчас!" Присутствие Ирины не могло удержать его: невеселые ощущения возбуждала в нем и она. Он поднялся со стула и начал прощаться.
– Вы уже уходите? – промолвила Ирина, но, подумав немного, не стала настаивать и только взяла с него слово, что он непременно посетит ее. Генерал Ратмиров с прежнею утонченною вежливостью раскланялся с ним, пожал ему руку, довел его до конца платформы… Но едва Литвинов успел завернуть за первый угол дороги, как дружный взрыв хохота раздался за ним. Хохот этот относился не к нему, а к давно ожиданному мсье Вердие, который внезапно появился на платформе, в тирольской шляпе, синей блузе и верхом на осле; но кровь так и хлынула Литвинову в щеки, и горько стало ему: словно полынь склеила его стиснутые губы. "Презренные, пошлые люди!" – пробормотал он, не соображая того, что несколько мгновений, проведенных в обществе этих людей, еще не давали ему повода так жестоко выражаться. И в этот-то мир попала Ирина, его бывшая Ирина! В нем она вращалась, жила, царствовала, для него она пожертвовала собственным достоинством, лучшими чувствами сердца…
Видно, так следовало; видно, она не заслуживала лучшей участи! Как он радовался тому, что ей не вздумалось расспрашивать его о его намерениях! Ему бы пришлось высказываться перед "ними", в "их" присутствии… "Ни за что! никогда!" – шептал Литвинов, глубоко вдыхая свежий воздух и чуть не бегом спускаясь по дороге в Баден. Он думал о своей невесте, о своей милой, доброй, святой Татьяне, и как чиста, благородна, как правдива казалась она ему! С каким неподдельным умилением припоминал он ее черты, ее слова, самые ее привычки…с каким нетерпением ожидал ее возвращения! Быстрая ходьба успокоила его нервы. Возвратясь домой, он уселся за стол, взял книгу в руки и внезапно ее выронил, даже вздрогнул… Что с ним случилось? Ничего не случилось с ним, но Ирина… Ирина…
Удивительным, странным, необычайным вдруг показалось ему его свидание с нею. Возможно ли? он встретился, говорил с тою самой Ириной… И почему на ней не лежит того противного, светского отпечатка, которым так резко отмечены все те другие? Почему ему сдается, что она как будто скучает, или грустит, или тяготится своим положением? Она в их стане, но она не враг. И что могло ее заставить так радушно обратиться к нему, звать его к себе? Литвинов встрепенулся.
– О Таня, Таня! – воскликнул он с увлечением, – ты одна мой ангел, мой добрый гений, тебя я одну люблю и век любить буду. А к той я не пойду. Бог с ней совсем! Пусть она забавляется с своими генералами! Литвинов снова взялся за книгу.
XI
Литвинов взялся за книгу, но ему не читалось. Он вышел из дому, прогулялся немного, послушал музыку, поглазел на игру и опять вернулся к себе в комнату, опять попытался читать – все без толку. Как-то особенно вяло влачилось время. Пришел Пищалкин, благонамеренный мировой посредник, и посидел часика три. Побеседовал, потолковал, ставил вопросы, рассуждал вперемежку – то о предметах возвышенных, то о предметах полезных и такую, наконец, распространил скуку, что бедный Литвинов чуть не взвыл. В искусстве наводить скуку, тоскливую, холодную, безвыходную и безнадежную скуку, Пищалкин не знал соперников даже между людьми высочайшей нравственности, известными мастерами по этой части. Один вид его остриженной и выглаженной головы, его светлых и безжизненных глаз, его доброкачественного носа возбуждал невольную унылость, а баритонный, медлительный, как бы заспанный его голос казался созданным для того, чтобы с убеждением и вразумительностью произносить изречения, состоявшие в том, что дважды два четыре, а не пять и не три, вода мокра, а добродетель похвальна; что частному лицу, равно как и государству, а государству, равно как и частному лицу, необходимо нужен кредит для денежных операций. И со всем тем человек он был превосходный! Но уж таков предел судеб на Руси: скучны у нас превосходные люди.
Пищалкин удалился; его заменил Биндасов и немедленно, с великою наглостью, потребовал у Литвинова взаймы сто гульденов, которые тот ему и дал, несмотря на то, что не только не интересовался Биндасовым, но даже гнушался им и знал наверное, что денег своих не получит ввек; притом он сам в них нуждался. Зачем же он дал их ему? – спросит читатель. А черт знает зачем! На это русские тоже молодцы. Пусть читатель положит руку на сердце и вспомнит, какое множество поступков в его собственной жизни не имело решительно другой причины. А Биндасов даже не поблагодарил Литвинова: потребовал стакан аффенталера (баденского красного вина) и ушел, не обтерев губ и нахально стуча сапогами. И уж как же досадовал на себя Литвинов, глядя на красный загривок удалявшегося кулака! Перед вечером он получил письмо от Татьяны, в котором она его извещала, что, вследствие нездоровья ее тетки, раньше пяти, шести дней она в Баден приехать не может. Это известие неприятно подействовало на Литвинова: оно усилило его досаду, и он лег спать рано, в дурном настроении духа. Следующий день выдался не лучше предшествовавшего, чуть ли не хуже. С самого утра комната Литвинова наполнилась соотечественниками: Бамбаев, Ворошилов, Пищалкин, два офицера, два гейдельбергские студента, все привалили разом и так-таки не уходили вплоть до обеда, хотя скоро выболтались и, видимо, скучали. Они просто не знали, куда деться, и, попав на квартиру Литвинова, как говорится, "застряли" в ней. Сперва они потолковали о том, что Губарев уехал обратно в Гейдельберг и что надо будет к нему отправиться; потом немного пофилософствовали, коснулись польского вопроса; потом приступили к рассуждениям об игре, о лоретках, принялись рассказывать скандальные анекдотцы; наконец, разговор завязался о том, какие бывают силачи, какие толстые люди и какие обжоры. Выступили на свет божий старые анекдоты о Лунине, о дьяконе, съевшем на пари тридцать три селедки, об известном своею точностью уланском полковнике Изъединове, о солдате, ломающем говяжью кость о собственный лоб, а там пошло уже совершенное вранье. Сам Пищалкин рассказал, зевая, что знал в Малороссии бабу, в которой при смерти оказалось двадцать семь пудов с фунтами, и помещака, который за завтраком съедал трех гусей и осетра; Бамбаев вдруг пришел в экстаз и объявил, что он сам в состоянии съесть целого барана, "разумеется, с приправами", а Ворошилов брякнул что-то такое несообразное насчет товарища, силача-кадета, что все помолчали, помолчали, посмотрели друг на друга, взялись за шапки и разбрелись. Оставшись наедине, Литвинов хотел было заняться, но ему точно копоти в голову напустили; он ничего не мог сделать путного, и вечер тоже пропал даром. На следующее утро он собирался завтракать, кто-то постучался к нему в дверь. "Господи, – подумал Литвинов, – опять кто-нибудь из вчерашних приятелей", – и не без некоторого содрогания промолвил:
– Herein!Дверь тихонько отворилась, и в комнату вошел Потугин.
Литвинов чрезвычайно ему обрадовался.
– Вот это мило! – заговорил он, крепко стискивая руку нежданному гостю, вот спасибо! Я сам непременно навестил бы вас, да вы не хотели мне сказать, где вы живете. Садитесь, пожалуйста, положите шляпу. Садитесь же.
Потугин ничего не отвечал на ласковые речи Литвинова, стоял, переминаясь с ноги на ногу, посреди комнаты и только посмеивался да покачивал головой. Радушный привет Литвинова его, видимо, тронул, но в выражении его лица было нечто принужденное.
– Тут… маленькое недоразумение… – начал он не без запинки. – Конечно, я всегда с удовольствием… но меня, собственно… меня к вам прислали.
– То есть вы хотите сказать, – промолвил жалобным голосом Литвинов, – что сами собой вы бы не пришли ко мне?
– О нет, помилуйте!.. Но я… я, может быть, не решился бы сегодня вас беспокоить, если бы меня не попросили зайти к вам. Словом, у меня есть к вам поручение.
– От кого, позвольте узнать?
– От одной вам известной особы, от Ирины Павловны Ратмировой. Вы третьего дня обещались навестить ее и не пришли.
Литвинов с изумлением уставился на Потугина.
– Вы знакомы с госпожою Ратмировой?
– Как видите.
– И коротко знакомы?
– Я до некоторой степени ей приятель.
Литвинов помолчал.
– Позвольте вас спросить, – начал он наконец, – вам известно, для чего Ирине Павловне угодно меня видеть? Потугин подошел к окну.
– До некоторой степени известно. Она, сколько я могу судить, очень обрадовалась встрече с вами, ну и желает возобновить прежние отношения.
– Возобновить, – повторил Литвинов. – Извините мою нескромность, но позвольте мне еще спросить вас. Вам известно, какого рода были эти отношения?
– Собственно – нет, неизвестно. Но я полагаю, – прибавил Потугин, внезапно обратившись к Литвинову и дружелюбно глядя на него, – я полагаю, что они были хорошего свойства. Ирина Павловна очень вас хвалила, и я должен был дать ей слово, что приведу вас. Вы пойдете?
– Когда?
– Теперь… сейчас.
Литвинов только руками развел.
– Ирина Павловна, – продолжал Потугин, – полагает, что та…как бы выразиться…та среда, что ли, в которой вы ее застали третьего дня, не должна возбудить ваше особенное сочувствие; но она велела вам сказать, что черт не такой черный, каким его изображают.
– Гм… Это изречение применяется собственно к той… среде?
– Да… и вообще.
– Гм… Ну, а вы, Созонт Иваныч, какого мнения о черте?
– Я думаю, Григорий Михайлыч, что он, во всяком случае, не такой, каким его изображают.
– Он лучше?
– Лучше ли, хуже ли, это решить трудно, но ни такой. Ну что же, идем мы?
– Да вы посидите сперва немножко. Мне, признаться, все-таки кажется немного странным…
– Что, смею спросить?
– Каким образом вы, собственно вы, могли сделаться приятелем Ирины Павловны?
Потугин окинул самого себя взглядом.
– С моею фигурой, с положением моим в обществе оно, точно, неправдоподобно; но вы знаете – уже Шекспир сказал: "Есть многое на свете, друг Гонца, и так далее. Жизнь тоже шутить не любит. Вот вам сравнение: дерево стоит перед вами, и ветра нет; каким образом лист на нижней ветке прикоснется к листу на верхней ветке? Никоим образом. А поднялась буря, все перемешалось – и те два листа прикоснулись.
– Ага! Стало быть, бури были?
– Еще бы! Без них разве проживешь? Но в сторону философию. Пора идти.
Литвинов все еще колебался.
– О господи! – воскликнул с комической ужимкой Потугин, – какие нынче стали молодые люди! Прелестнейшая дама приглашает их к себе, засылает за ними гонцов, нарочных, а они чинятся! Стыдитесь, милостивый горсударь, стыдитесь. Вот ваша шляпа. Возьмите ее, и "форвертс!" – как говорят наши друзья, пылкие немцы. Литвинов постоял еще немного в раздумье, но кончил тем, что взял шляпу и вышел из комнаты вместе с Потугиным.
XII
Они пришли в одну из лучших гостиниц Бадена и спросили генеральшу Ратмирову. Швейцар сперва осведомился об их именах, потом тотчас отвечал, что «die Frau Furstin ist zu Hause», – и сам повел их по лестнице, сам постучал в дверь номера и доложил о них. «Die Frau Furstin» приняла их немедленно; она была одна: муж ее отправился в Кралсруэ для свидания с проезжавшим сановным тузом из «влиятельных».
Ирина сидела за небольшим столиком и вышивала по канве, когда Потугин с Литвиновым переступили порог двери. Она проворно бросила шитье в сторону, оттолкнула столик, встала; выражение неподдельного удовольствия распространилось по ее лицу. На ней было утреннее, доверху закрытое платье; прекрасные очертания плеч и рук сквозили через легкую ткань; небрежно закрученная коса распустилась и падала низко на тонкую шею. Ирина бросила Потугину быстрый взгляд, шепнула "mersi" и, протянув Литвинову руку, любезно упрекнула его в забывчивости. "А еще старый друг", – прибавила она. Литвинов начал было извиняться. "С'est bien, c'est bien", – поспешно промолвила она и, с ласковым насилием отняв у него шляпу, заставила его сесть. Потугин тоже сел, но тотчас же поднялся и, сказав, что у него есть безотлагательное дело и что он зайдет после обеда, стал раскланиваться. Ирина снова бросила ему быстрый взгляд и дружески кивнула ему головой, но не удерживала его и, как только он исчез за портьеркой, с нетерпеливою живостью обратилась к Литвинову.
– Григорий Михайлыч, – заговорила она по-русски своим мягким и звонким голосом, – вот мы одни наконец, и я могу сказать вам, что я очень рада нашей встрече, потому что она… она даст мне возможность… (Ирина посмотрела ему дрямо в лицо) попросить у вас прощения. Литвинов невольно вздрогнул. Такого быстрого натиска он не ожидал. Он не ожидал, что она сама наведет речь на прежние времена.
– В чем… прощения… – пробормотал он.
Ирина покраснела.
– В чем?.. вы знаете, в чем, – промолвила она и слегка отвернулась. – Я была виновата перед вами, Григорий Михайлыч… хотя, конечно, такая уж мне выпала судьба (Литвинову вспомнилось ее письмо), и я не раскаиваюсь… это было бы, во всяком случае, слишком поздно; но, встретив вас так неожиданно, я сказала себе, что мы непременно должны сделаться друзьями, непременно… и мне было бы очень больно, если б это не удалось… и мне кажется, что для этого мы должны объясниться с вами, не откладывая и раз навсегда, чтоб уже потом не было никакой… gene, никакой неловкости, раз навсегда, Григорий Михайлыч; и что вы должны сказать мне, что вы меня прощаете, а то я буду предполагать в вас… de la rancune. Voila! Это с моей стороны, может быть, большая претензия, потому что вы, вероятно, давным-давно все забыли, но все равно, скажите мне, что вы меня простили.
Ирина произнесла всю эту речь не переводя духа, и Литвинов мог заметить, что в глазах ее заблистали слезы… да, действительные слезы.
– Помилуйте, Ирина Павловна, – поспешно начал он, – как вам не совестно извиняться, просить прощения…
То дело прошедшее, в воду кануло, и мне остается только удивляться, как вы, среди блеска, который вас окружает, могли еще сохранить воспоминание о темном товарище первой вашей молодости…
– Вас это удивляет? – тихо проговорила Ирина.
– Меня это трогает, – подхватил Литвинов, – потому что я никак не мог вообразить…
– А вы все-таки мне не сказали, что вы меня простили, – перебила Ирина.
– Я искренно радуюсь вашему счастью, Ирина Павловна, я от всей души желаю вам всего лучшего на земле…
– И не помните зла?
– Я помню только те прекрасные мгновенья, которыми я некогда был вам обязан.
Ирина протянула ему обе руки. Литвинов крепко стиснул их и не разом их выпустил… Что-то давно небывалое тайно шевельнулось в его сердце от этого мягкого прикосновения. Ирина опять глядела ему прямо в лицо; но на этот раз она улыбалась… И он в первый раз прямо и пристально посмотрел на нее… Он опять узнал черты, когда-то столь дорогие, и те глубокие глаза с их необычайными ресницами, и родинку на щепе, и особый склад волос надо лбом, и привычку как-то мило и забавно кривить губы и чуть-чуть вздрагивать бровями, все, все узнал он… Но как она похорошела! Какая прелесть, какая сила женского молодого тела! И ни румян, ни белил, ни сурьмы, ни пудры, никакой фальши на свежем, чистом лице… Да, это была, точно, красавица!
Раздумье нашло на Литвинова… Он все глядел на нее, но уже мысли его были далеко… Ирина это заметила.
– Ну вот и прекрасно, – громко заговорила она, – ну вот теперь совесть моя покойна, и я могу удовлетворить мое любопытство.
– Любопытство, – повторил Литвинов, как бы недоумевая.
– Да, да… Я непременно хочу знать, что вы делали все это время, какие ваши планы; я все хочу знать, как, что, когда… все, все. И вы должны говорить мне правду, потому что я предуведомляю вас, я не теряла вас из вида… насколько это было возможно.
– Вы меня не теряли из вида, вы… там… в Петергбурге?
– Среди блеска, который меня окружал, как вы сейчас выразились. Именно, да, не теряла. Об этом блеске мы еще поговорим с вами; а теперь вы должны рассказывать, много, долго рассказывать, никто вам не помешает. Ах, как это будет чудесно! – прибавила Ирина, весело усаживаясь и охорашиваясь в кресле. – Ну же, начинайте.
– Прежде чем рассказывать, я должен благодарить вас, – начал Литвинов.
– За что?
– За букет цветов, который очутился у меня в комнате.
– Какой букет? Я ничего не знаю.
– Как?
– Говорят вам, я ничего не знаю… Но я жду… жду вашего рассказа… Ах, какой этот Потугин умница, – что привел вас!
Литвинов навострил уши.
– Вы с этим господином Потугиным давно знакомы? – спросил он.
– Давно… но рассказывайте.
– И близко его знаете?
– О да! – Ирина вздохнула. – Тут есть особенные причины… Вы, конечно, слыхали про Элизу Бельскую… Вот та, что умерла в позапрошлом году такой ужасной смертью?.. Ах, да ведь я забыла, что вам неизвестны наши истории… К счастью, к счастью, неизвестны. Оh, quelle chance! Наконец-то, наконец один человек, живой человек, который нашего ничего не знает! И по-русски можно с ним говорить, хоть дурным языком, да русским, а не этим вечным приторным, противным, петербургским французским языком!
– И Потугин, говорите вы, находился в отношениях с…
– Мне очень тяжело даже вспоминать об этом, – перебила Ирина. – Элиза была моим лучшим другом в институте, и потом, в Петербурге au chateau мы беспрестанно видались. Она мне доверяла все свои тайны: она была очень несчастна, много страдала. Потугин в этой истории вел себя прекрасно, как настоящий рыцарь! Он пожертвовал собою. Я только тогда его оценила! Но мы опять отбились в сторону. Я жду вашего рассказа, Григорий Михайлович.
– Да мой рассказ нисколько не может интересовать вас, Ирина Павловна.
– Это уж не ваше дело.
– Вспомните, Ирина Павловна, мы десять лет не видались, целых десять лет. Сколько воды утекло с тех пор.
– Не одной воды! не одной воды! – повторила она с особым, горьким выражением, – потому-то я и хочу вас слушать.
– И притом я, право, не могу придумать, с чего же мне начать?
– С начала. С самого того времени, как вы… как я переехала в Петербург. Вы тогда оставили Москву… Знаете ли, я с тех пор уже никогда не возвращалась в Москву!
– В самом деле?
– Прежде было невозможно; а потом, когда я вышла замуж…
– А вы давно замужем?
– Четвертый год.
– Детей у вас нет?
– Нет, – сухо ответила она.
Литвинов помолчал.
– А до вашего замужества вы постоянно жили у этого, как бишь его, графа Рейзенбаха?
Ирина пристально посмотрела на него, как бы желая отдать себе отчет, зачем он это спрашивает…
– Нет… – промолвила она наконец.
– Стало быть, ваши родители… Кстати, я и не спросил у вас об них. Что они…
– Они оба здоровы.
– И по-прежнему живут в Москве?
– По-прежнему в Москве.
– А ваши братья, сестры?
– Им хорошо; я их всех пристроила.
– А! – Литвинов исподлобья взглянул на Ирину. – По-настоящему, Ирина Павловна, не мне бы следовало рассказывать, а вам, если только…
Он вдруг спохватился и умолк.
Ирина поднесла руки к лицу и повертела обручальным кольцом на пальце.
– Что ж? Я не отказываюсь, – промолвила она наконец. – Когда-нибудь… пожалуй… Но сперва вы… потому, вот видите, я хоть и следила за вами, но об вас почти ничего не знаю; а обо мне… ну обо мне вы, наверно, слышали довольно. Не правда ли? Ведь вы слышали, скажите?
– Вы, Ирина Павловна, занимали слишком видное место в свете, чтобы не возбуждать толков… особенно в провинции, где я находился и где всякому слуху верят.
– А вы верили этим слухам? И какого роду были они?
– Признаться сказать, Ирина Павловна, эти слухи доходили до меня очень редко. Я вел жизнь весьма уединенную.
– Как так? Ведь вы были в Крыму, в ополчении?
– Вам и это известно?
– Как видите. Говорят вам, за вами следили.
Литвинову снова пришлось изумиться.
– Зачем же я стану вам рассказывать, что вы и без меня знаете? проговорил Литвинов вполголоса.
– А затем… затем, чтобы исполнить мою просьбу. Ведь я прошу вас, Григорий Михайлович.
Литвинов наклонил голову и начал… начал несколько сбивчиво, в общих чертах передавать Ирине свои незатейливые похождения. Он часто останавливался и вопросительно взглядывал на Ирину, дескать, не довольно ли? Но она настойчиво требовала продолжения рассказа и, откинув волосы за уши, облокотившись на ручку кресла, казалось, с усиленным вниманием ловила каждое слово. Глядя на нее со стороны и следя за выражением ее лица, иной бы, пожалуй, мог подумать, что она вовсе не слушала того, что Литвинов ей говорил, а только погружалась в созерцание… Но не Литвинова созерцала она, хотя он и смущался и краснел под ее упорным взглядом. Пред нею возникла целая жизнь, другая, не его, ее собственная жизнь.
Литвинов не кончил, а умолк под влиянием неприятного чувства постоянно возраставшей внутренней неловкости. Ирина на этот раз ничего не сказала ему, не попросила его продолжать и, прижав ладонь к глазам, точно усталая, медленно прислонилась к спинке кресла и осталась неподвижной. Литвинов подождал немного и, сообразив, что визит его продолжался уже более двух часов, протянул было руку к шляпе, как вдруг в соседней комнате раздался быстрый скрып тонких лаковых сапогов и, предшествуемый тем же отменным дворянски-гвардейским запахом, вошел Валериан Владимирович Ратмиров.
Литвинов встал со стула и обменялся поклоном с благовидным генералом. А Ирина отняла, не спеша, руку от лица и, холодно посмотрев на своего супруга, промолвила по-французски:
– А! вот вы уже вернулись! Но который же теперь час?
– Скоро четыре часа, ma chere amie, а ты еще не одета – нас княгиня ждать будет, – отвечал генерал и, изящно нагнув перетянутый стан в сторону Литвинова, с свойственною ему почти изнеженною игривостью в голосе прибавил: – Видно, любезный гость заставил тебя забыть время.
Читатель позволит нам сообщить ему на этом месте несколько сведений о генерале Ратмирове. Отец его был естественный… Что вы думаете?
Вы не ошибаетесь – но мы не то желали сказать… естественный сын знатного вельможи Александровских времен и хорошенькой актрисы – француженки. Вельможа вывел сына в люди, но состояния ему не оставил – и этот сын (отец нашего героя) тоже не успел обогатиться: он умер в чине полковника, в звании полицмейстера. За год до смерти он женился на красивой молодой вдове, которой пришлось прибегнуть под его покровительство. Сын его и вдовы, Валериан Владимирович, по протекции попав в Пажеский корпус, обратил на себя внимание начальства – не столько успехами в науках… сколько фронтовой выправкой, хорошими манерами и благонравием (хотя подвергался всему, чему неизбежно подвергались все бывшие воспитанники казенных военных заведений), – и вышел в гвардию.
Карьеру он сделал блестящую благодаря скромной веселости своего нрава, ловкости в танцах, мастерской езде верхом ординарцем на парадах – большей частью на чужих лошадях – и, наконец, какому-то особенному искусству фамильярно – почтительного обращения с высшими, грустноласкового, почти сиротливого прислуживанья, не без примеси общего, легкого, как пух, либерализма…Этот либерализм не помешал ему, однако, перепороть пятьдесят человек крестьян в взбунтовавшемся белорусском селении, куда его послали для усмирения. Наружностью он обладал привлекательной и необычайно моложавой: гладкий, румяный, гибкий и липкий, он пользовался удивительными успехами у женщин: знатные старушки просто с ума от него сходили. Осторожный по привычке, молчаливый из расчета, генерал Ратмиров, подобно трудолюбивой пчеле, извлекающей сок из самых даже плохих цветков, постоянно обращался в высшем свете – и без нравственности, безо всяких сведений, но с репутацией дельца, с чутьем на людей и пониманьем обстоятельств, а главное, с неуклонно твердым желанием добра самому себе видел наконец перед собою все пути открытыми…
Литвинов принужденно усмехнулся, а Ирина только плечами пожала.
– Ну что, – промолвила она тем же холодным тоном, – видели вы графа?
– Как же, видел. Он приказал тебе кланяться.
– А! Он все глуп по-прежнему, этот ваш покровитель?
Генерал Ратмиров ничего не отвечал, а только слегка посмеялся в нос, как бы снисходя к опрометчивости женского суждения. Благосклонные взрослые люди таким точно смехом отвечают на вздорные выходки детей.
– Да, – прибавила Ирина, – глупость вашего графа слишком поразительна, а уж я, кажется, на что успела насмотреться.
– Вы сами меня к нему послали, – заметил сквозь зубы генерал и, обратившись к Литвинову, спросил его по-русски: – Пользуется ли он баденскими водами?
– Я, слава богу, здоров, – отвечал Литвинов.
– Это лучше всего, – продолжал генерал, любезно осклабясь, – да и вообще в Баден не затем ездят, чтобы лечиться; но здешние воды весьма действительны, je veux dire efficaces; и кто страдает, как я, например, нервическим кашлем.
Ирина быстро встала.
– Мы еще увидимся с вами, Григорий Михайлович, и, я надеюсь, скоро, проговорила она по-французски, презрительно перебивая мужнину речь, – а теперь я должна идти одеваться. Эта старая княгиня несносна с своими вечными parties de plaisir, где ничего нет, кроме скуки.
– Вы сегодня очень строги ко всем, – пробормотал ее супруг и проскользнул в другую комнату.
Литвинов направился к двери… Ирина его остановила.
– Вы мне все рассказали, – промолвила она, – а главное утаили.
– Что такое?
– Вы, говорят, женитесь?
Литвинов покраснел до ушей… Он действительно с намерением не упомянул о Тане; но ему стало страх досадно, во-первых, что Ирина знает о его свадьбе, а во-вторых, что она как будто уличила его в желании скрыть от нее эту самую свадьбу. Он решительно не знал, что сказать, а Ирина не спускала с него глаз.
– Да, я женюсь, – проговорил он наконец и тотчас удалился.
Ратмиров вернулся в комнату.
– Ну что же ты не одеваешься? – спросил он.
– Ступайте одни; у меня голова болит.
– Но княгиня…
Ирина обмерила мужа взглядом с ног до головы, повернулась к нему спиной и ушла в свой кабинет.








