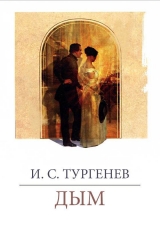
Текст книги "Дым"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
XXI
– Григорий, – говорила ему два часа спустя Ирина, сидя возле него на кушетке и положив ему обе руки на плечо, – что с тобой? Скажи мне теперь, скорее, пока мы одни.
– Со мною? – промолвил Литвинов. – Я счастлив, счастлив, вот что со мной.
Ирина потупилась, улыбнулась, вздохнула.
– Это не ответ на мой вопрос, мой милый.
Литвинов задумался.
– Ну так знай же… так как ты этого непременно требуешь (Ирина широко раскрыла глаза и слегка отшатнулась), я сегодня все сказал моей невесте.
– Как все? Ты меня назвал?
Литвинов даже руками всплеснул.
– Ирина, ради бога, как могла тебе такая мысль в голову прийти! чтобы я…
– Ну извини меня… извини меня. Что же ты сказал?
– Я сказал ей, что я не люблю ее более.
– Она спросила, почему?
– Я не скрыл от нее, что я полюбил другую и что мы должны расстаться.
– Ну… и что же она? Согласна?
– Ах, Ирина! что это за девушка! Она вся самоотвержение, вся благородство.
– Верю, верю… впрочем, ей другого ничего и не оставалось.
– И ни одного упрека, ни одного горького слова мне, человеку, который испортил всю ее жизнь, обманул ее, бросил безжалостно…
Ирина рассматривала свои ногти.
– Скажи мне, Григорий…она тебя любила?
– Да, Ирина, она любила меня.
Ирина помолчала, оправила платье.
– Признаюсь, – начала она, – я хорошенько не понимаю, зачем это тебе вздумалось с нею объясняться?
– Как зачем, Ирина! Неужели бы ты хотела, чтоб я лгал, притворялся перед нею, перед этою чистою душой? Или ты полагала…
– Я ничего не полагала, – перебила Ирина. – Я, каюсь, мало о ней думала… Я не умею думать о двух людях разом.
– То есть ты хочешь сказать…
– Ну и что ж? Она уезжает, эта чистая душа? – вторично перебила Ирина.
– Я ничего не знаю, – отвечал Литвинов. – Я еще должен увидаться с ней. Но она не останется.
– А! счастливый путь!
– Нет, она не останется. Впрочем, я теперь тоже не о ней думаю, я думаю о том, что ты мне сказала, что ты обещала мне.
Ирина исподлобья посмотрела на него.
– Неблагодарный! ты еще не доволен?
– Нет, Ирина, я не доволен. Ты меня осчастливила, но я не доволен, и ты меня понимаешь.
– То есть я…
– Да, ты понимаешь меня. Вспомни твои слова, вспомни, что ты мне писала. Я не могу делиться с другим, нет, нет, я не могу согласиться на жалкую роль тайного любовника, я не одну мою жизнь, я и другую жизнь бросил к твоим ногам, я от всего отказался, я все разбил в прах, без сожаления и без возврата, но зато я верю, я твердо убежден, что и ты сдержишь свое обещание и соединишь навсегда твою участь с моею…
– Ты хочешь, чтоб я бежала с тобою? Я готова… (Литвинов восторженно припал к ее рукам.) Я готова, я не отказываюсь от своего слова. Но ты сам обдумал ли те затруднения… приготовил ли средства?
– Я? Я еще ничего не успел ни обдумать, ни приготовить, но скажи только: да, позволь мне действовать, и месяца не пройдет…
– Месяца! Мы через две недели уезжаем в Италию.
– Мне и двух недель достаточно. О Ирина! ты как будто холодно принимаешь мое предложение, быть может, оно кажется тебе мечтательным, но я не мальчик, я не привык тешиться мечтами, я знаю, какой это страшный шаг, знаю, какую я беру на себя ответственность; но я не вижу другого исхода. Подумай наконец, мне уже для того должно навсегда разорвать все связи с прошедшим, чтобы не прослыть презренным лгуном в глазах той девушки, которую я в жертву тебе принес!
Ирина вдруг выпрямилась, и глаза ее засверкали.
– Ну уж извините, Григорий Михайлыч! Если я решусь, если я убегу, так убегу с человеком, который это сделает для меня, собственно для меня, а не для того, чтобы не уронить себя во мнении флегматической барышни, у которой в жилах вместо крови вода с молоком, du lait coupe! И еще скажу я вам: мне, признаюсь, в первый раз довелось услышать, что тот, к кому я благосклонна, достоин сожаления, играет жалкую роль! Я знаю роль более жалкую: роль человека, который сам не знает, что происходит в его душе!
Литвинов выпрямился в свою очередь.
– Ирина, – начал было он…
Но она вдруг прижала обе ладони ко лбу и, с судорожным порывом бросившись ему на грудь, обняла его с не-женскою силой.
– Прости меня, прости меня, – заговорила она трепетным голосом, – прости меня, Григорий. Ты видишь, как я испорчена, какая я гадкая, ревнивая, злая! Ты видишь, как я нуждаюсь в твоей помощи, в твоем снисхождении! Да, спаси меня, вырви меня из этой бездны, пока я не совсем еще погибла! Да, убежим, убежим от этих людей, от этого света в какой-нибудь далекий, прекрасный, свободный край! Быть может, твоя Ирина станет, наконец, достойнее тех жертв, которые ты ей приносишь! Не сердись на меня, прости меня, мой милый, – и знай, что я сделаю все, что ты прикажешь, пойду всюду, куда ты меня поведешь!
Сердце перевернулось в Литвинове. Ирина сильнее прежнего прижималась к нему всем своим молодым и гибким телом. Он нагнулся к ее душистым рассыпанным волосам и, в опьянении благодарности и восторга, едва дерзал ласкать их рукой, едва касался до них губами.
– Ирина, Ирина, – твердил он, – мой ангел…
Она внезапно приподняла голову, прислушалась…
– Это шаги моего мужа… он вошел в свою комнату, – прошептала она и, проворно отодвинувшись, пересела на кресло. Литвинов хотел было встать…Куда же ты? – продолжала она тем же шепотом, – останься, он уже и так тебя подозревает. Или ты боишься его? – Она не спускала глаз с двери. – Да, это он; он сейчас сюда придет. Рассказывай мне что-нибудь, говори со мною. – Литвинов не мог тотчас найтись и молчал. – Вы не пойдете завтра в театр? – произнесла она громко. – Дают "Lе Verre d'eau, устарелая пиеса, и Плесси ужасно кривляется…
Мы точно в лихорадке, – прибавила она, понизив голос, – этак нельзя; это надо хорошенько обдумать. Я должна предупредить тебя, что все мои деньги у него; mais j'ai mes bijoux. Уедем в Испанию, хочешь? – Она снова возвысила голос. – Отчего это все актрисы толстеют? Вот, хоть Маdeleine Brohan… Да говори же, не сиди так молча. У меня голова кружится. Но ты не должен сомневаться во мне… Я тебе дам знать, куда тебе завтра прийти. Только ты напрасно сказал той барышне… Ah, mais c'est charmant! – воскликнула она вдруг и, засмеявшись нервически, оборвала оборку платка.
– Можно войти? – спросил из другой комнаты Ратмиров.
– Можно… можно.
Дверь отворилась, и на пороге появился генерал. Он поморщился при виде Литвинова, однако поклонился ему, то есть качнул верхнею частью корпуса.
– Я не знал, что у тебя гость, – промолвил он, – je vous demande pardon de mon indiscretion. А вас Баден все еще забавляет, мсье… Литвинов?
Ратмиров всегда произносил фамилию Литвинова с запинкой, точно он всякий раз забывал, не тотчас припоминал ее… Этим да еще преувеличенно приподнятою шляпой при поклоне он думал его уязвить.
– Я здесь не скучаю, мсье le general.
– В самом деле? А мне Баден страшно приелся. Мы скоро отсюда уезжаем, не правда ли, Ирина Павловна? Assez de Bade comme ca. Впрочем, я на ваше счастье сегодня пятьсот франков выиграл.
Ирина кокетливо протянула руку.
– Где ж они? Пожалуйте. На булавки.
– За мной, за мной… А вы уже уходите, мсье… Литвинов.
– Да-с, ухожу, как изволите видеть.
Ратмиров опять качнул корпусом.
– До приятного свидания!
– Прощайте, Григорий Михайлыч, – промолвила Ирина. – А я сдержу свое обещание
– Какое? Можно полюбопытствовать? – спросил ее муж.
Ирина улыбнулась.
– Нет, это так… между нами. С'est a propos du voyage ou il vous plaira. Ты знаешь – сочинение Сталя?
– А! как же, как же, знаю. Премилые рисунки.
Ратмиров казался в ладах с женою: он говорил ей "ты".
XXII
«Уж лучше не думать, право, – твердил Литвинов, шагая по улице и чувствуя, что внутренняя возня снова поднимается в нем. – Дело решенное. Она сдержит свое обещание, и мне остается принять все нужные меры… Но она словно сомневается…» Он встряхнул головой. Ему самому в странном свете представлялись собственные намерения; чем-то натянутым и неправдоподобным отзывались они. Нельзя долго носиться с одними и теми же мыслями: они передвигаются постепенно, как стеклышки калейдоскопа… смотришь: уж образы совсем не те перед глазами. Ощущение глубокой усталости овладело Литвиновым…Отдохнуть бы хоть часик…Но Таня? Он встрепенулся и, уже не рассуждая, покорно побрел домой, и только в голову ему пришло, что его сегодня как мяч перебрасывает от одной к другой… Все равно: надо было покончить. Он вернулся в гостиницу и так же покорно, почти бесчувственно, без колебания и замедления, отправился к Татьяне.
Его встретила Капитолина Марковна. С первого взгляда на нее он уже знал, что ей все было известно: глаза бедной девицы опухли от слез, и окаймленное взбитыми белыми локонами покрасневшее лицо выражало испуг и тоску негодования, горя и безграничного изумления. Она устремилась было к Литвинову, но тут же остановилась и, закусив трепетавшие губы, глядела на него так, как будто и умолить его хотела, и убить, и увериться, что все это сон, безумие, невозможное дело, не правда ли?
– Вот вы… вы пришли, пришли, – заговорила она…
Дверь из соседней комнаты мгновенно распахнулась – и до прозрачности бледная, но спокойная, легкою походкой вошла Татьяна.
Она тихонько обняла тетку одною рукой и посадила ее возле себя.
– Сядьте и вы, Григорий Михайлыч, – сказала она Литвинову, который стоял, как потерянный, у двери. – Я очень рада, что еще раз вижусь с вами. Я сообщила тетушке ваше решение, наше общее решение, она вполне его разделяет и одобряет… Без взаимной любви не может быть счастья, одного взаимного уважения недостаточно (при слове "уважение" Литвинов невольно потупился) и лучше расстаться прежде, чем раскаиваться потом. Не правда ли, тетя?
– Да, конечно, – начала Капитолина Марковна, – конечно, Танюша, тот, кто не умеет оценить тебя… кто решился.
– Тетя, тетя, – перебила ее Татьяна, – помните, что вы мне обещали. Вы сами мне всегда говорили: правда, Татьяна, правда прежде всего – и свобода. Ну, а правда не всегда сладка бывает, и свобода тоже; а то какая была бы наша заслуга?
Она нежно поцеловала Капитолину Марковну в ее белые волосы и, обратившись к Литвинову, продолжала:
– Мы с тетей положили уехать из Бадена… Я думаю, для всех нас этак будет лучше.
– Когда вы думаете уехать? – глухо проговорил Литвинов. Он вспомнил, что те же самые слова ему недавно сказала Ирина.
Капитолина Марковна подалась было вперед, но Татьяна удержала ее, ласково коснувшись ее плеча.
– Вероятно, скоро, очень скоро.
– И позволите ли вы мне спросить, куда вы намерены ехать? – тем же голосом проговорил Литвинов
– Сперва в Дрезден, потом, вероятно, в Россию. Да на что же вам теперь это нужно знать,
– Григорий Михайлыч?.. – воскликнула Капитолина Марковна.
– Тетя, тетя, – вмешалась опять Татьяна.
Наступило небольшое молчание.
– Татьяна Петровна, – начал Литвинов, – вы понимаете, какое мучительно-тяжелое и скорбное чувство я должен испытывать в это мгновение…
Татьяна встала.
– Григорий Михайлыч, – промолвила она, – не будемте говорить об этом… Пожалуйста, прошу вас, если не для вас, так для меня. Я не со вчерашнего дня вас знаю и хорошо могу себе представить, что вы должны чувствовать теперь. Но к чему говорить, к чему растравливать…
(Она остановилась: видно было, что она хотела переждать поднявшееся в ней волнение, поглотить уже накипавшие слезы; ей это удалось.) К чему растравливать рану, которую нельзя излечить? Предоставимте это времени. А теперь у меня до вас просьба, Григорий Михайлыч; будьте так добры, я вам дам сейчас письмо: отнесите это письмо на почту сами, оно довольно важно, а нам с тетей теперь некогда… Я вам очень буду благодарна. Подождите минутку… я сейчас.
На пороге двери Татьяна с беспокойством оглянулась на Капитолину Марковну; но она так важно и чинно сидела, с таким строгим выражением в нахмуренных бровях и крепко сжатых губах, что Татьяна только головой ей кивнула и вышла.
Но едва лишь дверь за ней закрылась, как всякое выражение важности и строгости мгновенно исчезло с лица Капитолины Марковны: она встала, на цыпочках подбежала к Литвинову и, вся сгорбившись и стараясь заглянутъ ему в глаза, заговорила трепетным, слезливым шепотом.
– Господи боже мой, – заговорила она, – Григорий Михайлыч, что ж это такое: сон это, что ли? Вы отказываетесь от Тани, вы ее разлюбили, вы изменяете своему слову! Вы это делаете, Григорий Михайлыч, вы, на кого мы все надеялись, как на каменную стену! Вы? Вы? Вы?
Ты, Гриша?.. – Капитолина Марковна остановилась. – Да ведь вы ее убьете, Григорий Михайлыч, – продолжала она, не дождавшись ответа, а слезы так и покатились мелкими капельками по ее щекам. – Вы не смотрите на нее, что она теперь храбрится, вы ведь знаете, какой у ней нрав! Она никогда не жалуется; она себя не жалеет, так другие должны ее жалеть! Вот она теперь мне толкует: "Тетя, надо сохранить наше достоинство!", а какое тут достоинство, когда я смерть, смерть предвижу… – Татьяна стукнула стулом в соседней комнате. – Да, смерть предвижу, – подхватила еще тише старушка. – И что такое могло сделаться? Приворожили вас, что ли?
Давно ли вы писали ей самые нежные письма? Да и, наконец, разве честный человек так может поступать? Я, вы знаете, женщина без всяких предрассудков, esrit fort, я и Тане дала такое же воспитание, у ней тоже свободная душа…
– Тетя! – раздался из соседней комнаты голос Татьяны.
– Но честное слово – это долг, Григорий Михайлыч. Особенно для людей с вашими, с нашими правилами! Коли мы долга признавать не будем, что ж у нас останется? Этого нельзя нарушать – так, по собственной прихоти, не соображаясь с тем, что каково, мол, другому! Это бессовестно… да, это – преступление; какая же это свобода!
– Тетя, поди сюда, пожалуйста, – послышалось снова.
– Сейчас, душа моя, сейчас… – Капитолина Марковна схватила Литвинова за руку. – Я вижу, вы сердитесь, Григорий Михайлыч… ("Я?! я сержусь?!" хотелось ему воскликнуть, но язык его онемел.) Я не хочу сердить вас – о господи! до того ли мне! – я, напротив, просить вас хочу: одумайтесь, пока есть время, не губите ее, не губите собственного счастия, она еще поверит вам, Гриша, она поверит тебе, ничего еще не пропало; ведь она тебя любит так, как никто, никогда не полюбит тебя! Брось этот ненавистный Баден-Баден, уедем вместе, выйдь только из-под этого волшебства, а главное: пожалей, пожалей.
– Да тетя, – промолвила Татьяна с оттенком нетерпения в голосе.
Но Капитолина Марковна не слушала ее.
– Скажи только "да!" – твердила она Литвинову– а уж я все улажу… Ну хоть головой мне кивни! головкой-то хоть разочек, вот так!
Литвинов охотно, кажется, умер бы в эту минуту; но слова "да!" он не произнес; и головой он не кивнул.
С письмом в руке появилась Татьяна. Капитолина Марковна тотчас отскочила от Литвинова и, отвернув лицо в сторону, низко нагнулась над столом, как бы рассматривая лежавшие на нем счеты и бумаги.
Татьяна приблизилась к Литвинову.
– Вот, – сказала она, – то письмо, о котором я вам говорила… Вы сейчас пойдете на почту, не правда ли?
Литвинов поднял глаза… Перед ним действительно стоял его судья. Татьяна показалась ему выше, стройнее; просиявшее небывалою красотой лицо величаво окаменело, как у статуи; грудь не поднималась, и платье, одноцветное и тесное, как хитон, падало прямыми, длинными складками мраморных тканей к ее ногам, которые оно закрывало. Татьяна глядела прямо перед собой, не на одного только Литвинова, и взгляд ее, ровный и холодный, был также взглядом статуи. Он прочел в нем свой приговор; наклонился, взял письмо из неподвижно протянутой к нему руки и удалился молча.
Капитолина Марковна бросилась к Татьяне, но та отклонила ее объятия и опустила глаза, краска распространилась по ее лицу, и с словами: "Ну, теперь скорее!" – она вернулась в спальню; Капитолина Марковна последовала за ней, повесив голову.
На письме, врученном Литвинову Татьяной, стоял адрес одной ее дрезденской приятельницы, немки, которая отдавала внаем небольшие меблированные квартиры. Литвинов опустил письмо в ящик, и ему показалось, что вместе с этим маленьким клочком бумажки он все свое прошедшее, всю жизнь свою опустил в могилу. Он вышел за город и долго бродил по узким тропинкам между виноградниками; он не мог отбиться, как от жужжания назойливой летней мухи, от постоянного ощущения презрения к самому себе: уж очень незавидную роль разыграл он в этом последнем свидании… А когда он вернулся в гостиницу и спустя несколько времени осведомился о своих дамах, ему ответили, что они тотчас после его ухода велели отвезти себя на железную дорогу и отправились с почтовым поездом неизвестно куда. Вещи их были уложены и счеты уплачены с утра. Татьяна попросила Литвинова отнести письмо на почту, очевидно, с целью удалить его. Он попытался спросить швейцара, не оставили ли эти дамы на его имя записки; но швейцар отвечал отрицательно и даже изумился; видно было, что и ему этот внезапный отъезд с нанятой за неделю квартиры казался сомнительным и странным. Литвинов повернулся к нему спиной и заперся у себя в комнате.
Он не выходил из нее до следующего дня: большую часть ночи он просидел за столом, писал и рвал написанное… Заря уже занималась, когда он окончил свою работу, – то было письмо к Ирине.
XXIII
Вот что стояло в этом письме к Ирине:
"Моя невеста уехала вчера: мы с ней никогда больше не увидимся… я даже не знаю наверное, где она жить будет. Она унесла с собою все, что мне до сих пор казалось желанным и дорогим; все мои предположения, планы, намерения исчезли вместе с нею; самые труды мои пропали, продолжительная работа обратилась в ничто, все мои занятия не имеют никакого смысла и применения; все это умерло, мое я, мое прежнее я умерло и похоронено со вчерашнего дня. Я это ясно чувствую, вижу, знаю… и нисколько об этом не жалею. Не для того, чтобы жаловаться, заговорил я об этом с тобою… Мне ли жаловаться, когда ты меня любишь, Ирина!
Я только хотел сказать тебе, что из всего этого мертвого прошлого, изо всех этих – в дым и прах обратившихся – начинаний и надежд осталось одно живое, несокрушимое: моя любовь к тебе. Кроме этой любви, у меня ничего нет и не осталось; назвать ее моим единственным сокровищем было бы недостаточно; я весь в этой любви, эта любовь – весь я; в ней мое будущее, мое призвание, моя святыня, моя родина! Ты меня знаешь, Ирина, ты знаешь, что всякая фраза мне чужда и противна, и, как ни сильны слова, в которых я стараюсь выразить мое чувство, ты не заподозришь их искренности, ты не найдешь их преувеличенными.
Не мальчик в порыве минутного восторга лепечет пред тобою необдуманные клятвы, а человек, уже испытанный летами, просто и прямо, чуть не с ужасом, высказывает то, что он признал несомненною правдой. Да, любовь твоя все для меня заменила – все, все!
Суди же сама: могу ли я оставить это все в руках другого, могу ли я позволить ему располагать тобою? Ты, ты будешь принадлежать ему, все существо мое, кровь моего сердца будет принадлежать ему – а я сам… где я? что я? В стороне, зрителем… зрителем собственной жизни! Нет, это невозможно, невозможно! Участвовать, украдкой участвовать в том, без чего незачем, невозможно дышать… это ложь и смерть. Я знаю, какой великой жертвы я требую от тебя, не имея на то никакого права, да и что может дать право на жертву?
Но не из эгоизма поступаю я так: эгоисту было бы легче и спокойнее не поднимать вовсе этого вопроса. Да, требования мои тяжелы, и я не удивлюсь, если они тебя испугают. Тебе ненавистны люди, с которыми ты жить должна, ты тяготишься светом, но в силах ли ты бросить этот самый свет, растоптать венец, которым он тебя венчал, восстановить против себя общественное мнение, мнение тех ненавистных людей?
Вопроси себя, Ирина, не бери на себя ношу не по плечам. Я не хочу упрекать тебя, но помни: ты уже раз не устояла против обаяния. Я так мало могу тебе дать взамен того, что ты потеряешь! Слушай же мое последнее слово: если ты не чувствуешь себя в состоянии завтра же, сегодня же все оставить и уйти вслед за мною – видишь, как я смело говорю, как я себя не жалею, – если тебя страшит неизвестность будущего, и отчуждение, и одиночество, и порицание людское, если ты не надеешься на себя, одним словом – скажи мне это откровенно и безотлагательно, и я уйду; я уйду с растерзанною душою, но благословлю тебя за твою правду.
Если же ты, моя прекрасная, лучезарная царица, действительно полюбила такого маленького и темного человека, каков я, и действительно готова разделить его участь – ну, так дай мне руку и отправимся вместе в наш трудный путь! Только знай, мое решение несомненно: или все, или ничего! Это безумно… но я не могу иначе, не могу, Ирина! Я слишком сильно тебя люблю.
Твой Г. Л."
Письмо это не очень понравилось самому Литвинову; оно не совсем верно и точно выражало то, что он хотел сказать; неловкие выражения, то высокопарные, то книжные, попадались в нем, и, уж конечно, оно не было лучше многих других, им изорванных писем; но оно пришлось последним, главное все-таки было высказано – и, усталый, измученный, Литвинов не чувствовал себя способным извлечь что-нибудь другое из своей головы. К тому же он не обладал умением литературно изложить всю мысль и, как все люди, которым это не в привычку, заботился о слоге.
Первое его письмо было, вероятно, самым лучшим: оно горячее вылилось из сердца. Как бы то ни было, Литвинов отправил к Ирине свое послание.
Она отвечала ему коротенькою запиской.
"Приходи сегодня ко мне, – писала она ему: – он отлучился на целый день. Твое письмо меня чрезвычайно взволновало. Я все думаю, думаю… и голова кружится от дум. Мне очень тяжело, но ты меня любишь, и я счастлива. Приходи.
Твоя И."
Она сидела у себя в кабинете, когда Литвинов вошел к ней. Его ввела та же тринадцатилетняя девочка, которая накануне караулила его на лестнице. На столе перед Ириной стоял раскрытый полукруглый картон с кружевами; она рассеянно перебирала их одною рукой, в другой она держала письмо Литвинова. Она только что перестала плакать: ресницы ее смокли и веки припухли: на щеках виднелись следы неотертых слез. Литвинов остановился на пороге: она не заметила его входа.
– Ты плачешь? – проговорил он с изумлением.
Она встрепенулась, провела рукой по волосам и улыбнулась.
– Отчего ты плачешь? – повторил Литвинов. Она молча показала ему на письмо. – Так ты от этого… – промолвил он с расстановкой.
– Подойди сюда, сядь, – сказала она, – дай мне руку. Ну, да, я плакала… Чему же ты удивляешься? Разве это легко? – Она опять указала на письмо.
Литвинов сел.
– Я знаю, что это нелегко, Ирина, я то же самое говорю тебе в моем письме… Я понимаю твое положение. Но если ты веришь в значение твоей любви для меня, если слова мои тебя убедили, ты должна также понять, что я чувствую теперь при виде твоих слез. Я пришел сюда как подсудимый и жду: что мне объявят? Смерть или жизнь? Твой ответ все решит. Только не гляди на меня такими глазами… Они напоминают мне прежние, московские глаза.
Ирина вдруг покраснела и отвернулась, как будто сама чувствуя что-то неладное в своем взоре.
– Что ты это говоришь, Григорий? Как не стыдно тебе! Ты желаешь знать мой ответ… да разве ты можешь в нем сомневаться! Тебя смущают мои слезы… но ты их не понял. Твое письмо, друг мой, навело меня на размышления. Вот ты пишешь, что моя любовь для тебя все заменила, что даже все твои прежние занятия теперь должны остаться без применения; а я спрашиваю себя, может ли мужчина жить одною любовью? Не прискучит ли она ему наконец, не захочет ли он деятельности и не будет ли он пенять на то, что его от нее отвлекло? Вот какая мысль меня пугает, вот чего я боюсь, а не то, что ты предполагал.
Литвинов внимательно поглядел на Ирину, и Ирина внимательно поглядела на него, точно каждый из них желал глубже и дальше проникнуть в душу другого, глубже и дальше того, чего может достигнуть, что может выдать слово.
– Ты напрасно этого боишься, – начал Литвинов, – я, должно быть, дурно выразился. Скука? Бездействие? При тех новых силах, которые мне даст твоя любовь? О Ирина, поверь, в твоей любви для меня целый мир, и я сам еще не могу теперь предвидеть все, что может развиться из него!
Ирина задумалась.
– Куда же мы поедем? – шепнула она.
– Куда? Об этом мы еще поговорим. Но, стало быть… стало быть, ты согласна? согласна, Ирина?
Она посмотрела на него.
– И ты будешь счастлив?
– О Ирина!
– Ни о чем жалеть не будешь? Никогда?
Она нагнулась к картону с кружевами и снова принялась перебирать их.
– Не сердись на меня, мой милый, что я в подобные минуты занимаюсь этим вздором… Я принуждена ехать на бал к одной даме, мне прислали эти тряпки, и я должна выбрать сегодня. Ах! мне ужасно тяжело! – воскликнула она вдруг и приложилась лицом к краю картона. Слезы снова закапали из ее глаз… Она отвернулась: слезы могли попасть на кружева.
– Ирина, ты опять плачешь, – начал с беспокойством Литвинов.
– Ну да, опять, – подхватила Ирина. – Ах, Григорий, не мучь меня, не мучь себя!.. Будем свободные люди! Что за беда, что я плачу! Да и я сама, понимаю ли я, отчего льются эти слезы? Ты знаешь, ты слышал мое решение, ты уверен, что оно не изменится, что я согласна на… как ты это сказал?.. на все или ничего… чего же еще? Будем свободны! К чему эти взаимные цепи? Мы теперь одни с тобою, ты меня любишь; я люблю тебя; неужели нам только и дела, что выпытывать друг у друга наши мнения? Посмотри на меня, я не хотела рисоваться перед тобою, я ни единым словом не намекнула о том, что мне, может быть, не так-то легко было попрать супружеские обязанности… а я ведь себя не обманываю, я знаю, что я преступница и что он вправе меня убить. Ну и что же! Будем свободны, говорю я. День наш – век наш.
Она встала с кресла и посмотрела на Литвинова сверху вниз, чуть улыбаясь и щурясь и обнаженною до локтя рукою отводя от лица длинный локон, на котором блистали две-три капли слез. Богатая кружевная косынка соскользнула со стола и упала на пол, под ноги Ирины. Она презрительно наступила на нее.
– Или я тебе не нравлюсь сегодня? Подурнела я со вчерашнего дня? Скажи мне, часто видал ты более красивую руку? А эти волосы? Скажи, любишь ты меня?
Она обхватила его обеими руками, прижала его голову к своей груди, гребень ее зазвенел и покатился, и рассыпавшиеся волосы обдали его пахучею и мягкою волной.








