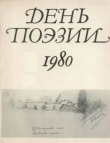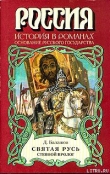Текст книги "Куликово поле"
Автор книги: Иван Шмелев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Рассказ следователя
I
Скоро семь лет, как выбрался я оттуда, и верю крепко, что страшное наше испытание кончится благодатно и – невдолге.
«Невдолге», конечно, относительно: случившееся с нами – исторического порядка, а историческое меряется особой мерой. В надеждах на благодатную развязку укрепляет меня личный духовный опыт, хотя это опыт маловера: дай ощупать. И Христос снизошел к Фоме. Да, я – «Фома», и не прикрываюсь. "Могий вместити…" – но большинство не может, и ему подается помощь. Я получил ее.
Живя там, я искал знамений и откровений, и когда жизнь наталкивала на них, ощупывал, производил как бы следствие. Я – судебный следователь по особо важным делам… был когда-то.
В таинственной области знамений и откровений предмет расследования, как и в привычно-земном, – человеческая душа, и следственные приемы те же, с поправкой на некое "неизвестное". А в уголовных делах – все известно?.. Не раз, в практике следователя, чувствовал я таинственное влияние темной силы, видел порабощенных ею и, что редко, духовное торжество преодоления.
Знамения там были, несомненно. Одно из них, изумительное по красоте духовной и историчности, произошло на моих глазах, и я сцеплением событий был вовлечен в него: на-вот, "вложи персты". Страдания народа невольно дополняли знаменные явления… – это психологически понятно, но зерно истины неоспоримо. Как же не дополнять, не хвататься за попираемую Правду?! Расстаться с верой в нее православный народ не может почти фи-зи-чески, чувствуя в ней незаменимую основу жизни, как свет и воздух. Он призывал ее, он взывал… – и ему подавались знаки.
На-род, говорю… православный, русский народ. Почему выделяю его из всех народов? Не я, – Исто-рия. От нее не только не отрекся Пушкин, напротив: заявил, что предпочитает ее всякой другой истории. "Умнейший в России человек", – сказал о нем Николай I.
А на днях читал я письмо другого умнейшего, глубокого русского мыслителя, национального зиждителя душ, – своего рода мой коллега, "исследователь по особо важным делам". Вы читали его книги, помните его "о борьбе со злом", удар по «непротивлению» Толстого. В этом письме он пишет: "…Нет народа с таким тяжким историческим бременем и с такою мощью духовною, как наш; не смеет никто судить временно павшего под крестом мученика; зато выстрадали себе дар – незримо возрождаться в зримом умирании, – да славится в нас Воскресение Христово!.."
Эти слова я связал бы с известными словами о народе – Достоевского, с выводом из истории – Ключевского. Помните, про исключительное свойство нашего народа быстро оправляться от государственных потрясений и крепнуть после военных поражений? Связал бы в "триптих русской духовной мощи".
Я расскажу вам не из истории, а из моих "документов следствия". Ими сам же себя и опрокинул, – мои сомнения.
Народу подавались знаки: обновление куполов, икон… Это и здесь случалось, на родине Декарта, и «разумного» объяснения сему ни безбожники, ни научного толка люди никак не могли придумать: это – вне опыта. В России живут сказания, и ценнейшее в них – неутолимая жажда Правды и нетленная красота души. Вот эта "неутолимая жажда Правды" и есть свидетельство исключительной духовной мощи. Где в целом мире найдете вы такую "жажду Правды"? В этом портфеле имеются "вещественные доказательства", могу предъявить. Как маловер, я применил к «явлению», о чем расскажу сейчас, прием судебного следствия.
Много лет был я следователем в провинции, ждал назначения в Москву… – так сказать, качественность моя была оценена… – знаю людские свойства, и психозы толпы мне хорошо известны. В моем случае толпы нет, круг показаний тесный, главные лица – нашего с вами толка, а из народа – только один участник, и его показания ничего сверхъестественного не заключают. Что особенно значительно в «явлении»… это – духовно-историческое звено из великой цепи родных событий, из далей – к ныне, свет из священных недр, коснувшийся нашей тьмы.
Первое действие – на Куликовом Поле.
II
Куликово Поле… – кто же о нем не слышал! Великий Князь Московский Димитрий Иванович разбил Мамая, смертельно шатнул Орду, потряс давившее иго тьмы. А многие ли знают, где это Куликово Поле? Где-то в верховьях Дона?.. Немногие уточнят: в Тульской губернии, кажется?..
Да: на стыке ее с Рязанской, от Москвы триста с небольшим верст, неподалеку от станции Астапово, где трагически умирал Толстой, в тургеневских местах, знаемых по "Запискам охотника".
А кто удосужился побывать, ощупать, где, по урочищам, между верховьями Дона и Непрядвой, совершилось великое событие? Из тысячи не наберется и десятка, не исключая и местных интеллигентов. Мужики еще кой-что скажут. Воистину, – "ленивы мы и нелюбопытны".
Я сам, прожив пять лет в Богоявленске, по той же Рязанско-Уральской линии, в ста семнадцати верстах от станции Куликово Поле, мотаясь по уездам, так и не удосужился побывать, воздухом давним подышать, к священной земле припасть, напитанной русской кровью, душу собрать в тиши, под кустиком полежать-подумать… Как я корю себя из этого прекрасного далека, что мало знал свою родину, не изъездил, не исходил!.. Не знаю ни Сибири, ни Урала, ни заволжских лесов, ни Светло-Яра… ни Ростова Великого не видал, "красного звона" не слыхал, единственного на всю Россию!..
Именитый ростовец, купец Титов, рассказывали мне, сберег непомнящим этот "аккорд небесный", подобрал с колокольными мастерами-звонарями для местного музея… – жив ли еще "аккорд"?..
Не побывал и на Бородинском Поле, в Печерах, Изборске, на Белоозере. Не знаю Киева, Пскова, Новгорода Великого… ни села Боголюбова, ни Дмитровского собора, облепленного зверями, райскими птицами-цветами, собора XI века во Владимире-на-Клязьме… Ни древнейших наших обителей не знаем, ни летописей не видали в глаза, даже родной истории не знаем путно, Иваны Непомнящие какие-то. Сами ведь иссушали свои корни, пока нас не качнули – и как качнули!.. Знали избитую дорожку – "по Волге", "на Минерашки", "в Крым". И, разумеется, "за границу". В чужие соборы шли, все галереи истоптали, а Икону свою открыли перед самым провалом в ад.
Проснешься ночью, станешь перебирать, всякие запахи вспомянешь… – и защемит-защемит. Да как же ты Север-то проглядел, погосты, деревянную красоту поющую – церквушки наши?!. А видел ли российские каналы – великие водные системы? Молился ли в часовенке болотной, откуда родится Волга?.. А что же в подвал-то не спустился, не поклонился священной тени умученного Патриарха Гермогена? А как же?.. Не спорьте и не оправдывайтесь… это кричит во мне! А если кричит, – правда. Такой же правдой лежит во мне и Куликово Поле.
Попал я туда случайно. Нет, не видел, а чуть коснулся: «явлением» мне предстало. Было это в 1926 году. Я тогда ютился с дочерью в Туле, под чужим именем: меня искали, как "кровопийцу народного". И вот, один мукомол-мужик, – «кулак», понятно, – из Старо-Юрьева, под Богоявленском, как-то нашел меня. Когда-то был мой подследственный, попавший в трагическую петлю. Долго рассказывать… – словом, я его спас от возможной каторги, обвинялся он в отравлении жены. Он убрался со старого гнезда, – тоже, понятно, "кровопийца", – и проживал при станции Волово, по дороге на Тулу. Как-то прознал, где я. Написал приятелю-туляку: "Доставь спасителю моему". И я получил записочку: "По случаю голодаете, пребудьте екстрено, оборудуем". Эта записочка была для меня блеснувшим во мраке светом и, как увидите, привела к первоисточнику "явления".
Приехал я в Волово. Крайней нужды не испытывал, и поехал, чтобы – думалось, так, – сбросить владевшее мною оцепенение безысходности… пожалуй, и из признательности к моему «должнику», тронувшего меня во всеобщей ожесточенности.
Приехал в замызганной поддевке, мещанином. Было в конце апреля, только березки опушились. Там-то и повстречал участника "действия первого". Он ютился с внучатами у того "кровопийцы"-мукомола, кума или свояка. Пришлось бросить службу в имении, отобранном под совхоз, где прожил всю жизнь, был очень слаб, все кашлял, после и помер вскоре. От него-то и слышал я о начале «явления». Не побывай я тогда в Волове, так бы и кануло «явление», для меня.
Думаю теперь: как бы указано было мне поехать, и не только, чтобы сделать меня участником «явления», исследователем его и оповестителем, но и самому перемениться. Как не задуматься?..
III
Случилось это в 25 году, по осени.
Василий Сухов, – все его называли Васей, хотя был он уже седой, благообразный и положительный, только в светлых его глазах светилось открыто-детское, – служил лесным объездчиком у купцов, купивших имение у родовитых дворян Ахлябышевых.
По соседству с этим имением лежало Княжье, осколок обширной когда-то вотчины, принадлежавший барину Средневу, родственнику Ахлябышевых и, как потом я узнал, потомку одного из дружинников Дмитрия Донского: дружинник этот бился на Куликовом Поле и сложил голову. Барин Среднев променял свое Княжье тем же купцам на усадьбу в Туле, с большим яблонным садом. Отметьте это, о Средневе: речь о нем впереди.
Лесное имение купцов расположено в Данковском уезде и прихватывало кусок Тульской губернии, вблизи Куликова Поля. А Княжье, по каким-то приметам стариков, – отголосок предания? – лежало "на самом Поле". Купцов выгнали, имение взяли под совхоз, а Василий Сухов остался тем же лесным объездчиком. При нем было двое внучат, после сыновей: одного сына на войне убили, другого комитет бедноты замотал за горячее слово. Надо было кормиться.
Поехал как-то Сухов в объезд лесов, а по нужде дал порядочный крюк, на станцию Птань, к дочери, которая была там за телеграфистом: крупы обещала припасти сиротам. Смотался, прозяб, – был исход октября, промозглая погода, дождь ледяной с крупой, захвативший еще в лесах. Сухов помнил, что было это в родительскую субботу, в Димитриевскую, в канун Димитрия Солунского. Потому помнил, что в тех местах эту Димитриевскую субботу особо почитают, как поминки, и дочь звала Сухова пирожка отведать, с кашей, – давно забыли. И внучкам пирожка вез. Как известно, Димитриевская суббота установлена в поминовение убиенных на Куликовом Поле, и вообще усопших, и потому называется еще родительская.
Продрог Сухов в полушубке своем истертом, гонит коня, – до ночи бы домой добраться. Конь у него был добрый: Сухов берег его, хотя по тем временам трудно было овсом разжиться. Гонит горячей рысью, и вот – Куликово Поле.
В точности не известно, где граница давнего Куликова Поля; но в народе хранятся какие-то приметы: старики указывают даже, где князь Владимир Серпуховский свежий отряд берег, дожидался нетерпеливо часа – ударить Мамая в тыл, когда тот погнал русскую рать к реке.
Помните, у Карамзина, – "мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня…"? Помните, как Преподобный Сергий, тогда игумен Обители Живоначальныя Троицы, благословил Великого Князя на ратный подвиг и втайне предрек ему: "ты одолеешь"? Дух его был на Куликовом Поле, и отражение битвы видимо ему было за четыреста с лишком верст, в Обители, – духовная телевизия.
По каким-то своим приметам Сухов определял, что было это "на самом Куликовом Поле".
Голые поля, размытые дороги полны воды, какие-то буераки, рытвины. Гонит, ни о чем, понятно, не думает, какие же тут «мамаи», крупу бы не раструсить, за пазуху засунул… – трах!.. – чуть из седла не вылетел: конь вдруг остановился, уперся и захрапел. Что такое?.. К вечеру было, небо совсем захмурилось, ледяной дождь сечет. Огладил Сухов коня, отпрукал… – нет: пятится и храпит.
Глянул через коня, видит: полная воды колдобина, прыгают пузыри по ней. "Чего бояться?.." – подумал Сухов: вся дорога в таких колдобинах, эта поболе только. Пригляделся… – что-то будто в воде мерцает… подкова, что ли?.. – бывает, "к счастью". Не хотелось с коня слезать: какое теперь счастье! Пробует завернуть коня, волю ему дает, – ни с места: уши насторожил, храпит. Прикрыл ему рукавом глаза, чтобы маленько обошелся, – ни-как. Не по себе стало Сухову, подумалось: может, змею чует… да откуда гадюке быть, с мученика Автонома ушли под хворост?..
Слез Сухов с коня, поводья не выпускает, нагнулся к воде, пошарил, где мерцало, и вытащил… медный крест! И стало повеселей на душе: святой крест – добрый знак. Перекрестился на крест, поводья выпустил, а конь и не шелохнется, "как ласковый". Смотрит Сухов на крест, видать, старинный, зеленью-чернотой скипелось, светлой царапиной мерцает, – кто-то, должно, подковой оцарапал. В этом месте постоянной дороги не было: пробивали в распутицу, кто где вздумал, – грунтовая под лесом шла.
Помолился Сухов на крест, обтер бережно рукавом, видит – литой, давнишний. А в этом он понимал немножко. Из прежних купцов-хозяев один подбирал разную старину-историю, а тут самая-то история, Куликово Поле, ходил с рабочими покопать на счастье, – какую-нибудь диковинку и найдет: бусину, кусок кольчуги серебряной… золотой раз перстень с камушком откопали, а раз круглую бляху нашли, татарскую, – месяц на ней смеется. С той поры, как битва была с татарами, больше пятисот лет сошло. Сухов подумал: и крест этот, может, от той поры: земля – целина, выбили вот проезжие в распутицу.
Стал крест разглядывать. Помене четверти, с ушком, – наперсный; накось – ясный рубец, и погнуто в этом месте: секануло, может, татарской саблей. Вспомнил купца-хозяина: порадовался бы такой находке… да нет его. И тут в мысли ему пришло: барину переслать бы, редкости тоже собирал, с барышней копал… она и образа пишет, – какая бы им радость. А это он про барина из Княжьего, который усадьбу в Туле у купцов выменял и звал к себе Сухова смотреть за садом.
Барин Сухову нравился, и в самую революцию собрался было Сухов уйти к нему, стало в деревне неспокойно, пошли порубки, а барин из Тулы выехал, бросил свою усадьбу и отъехал в Сергиев Посад: там потише. А теперь везде одинаково: Лавру прикончили, монахов разогнали, а мощи Преподобного… Го-споди!.. – в музей поставили, под стекло, глумиться.
Смотрел Сухов на темный крест, и стало ему горько, комом подступило к горлу. И тут, на пустынном поле, в холодном дожде и неуюте, в острой боли ему представилось, что все погибло, и ни за что.
"Обидой обожгло всего… – рассказывал он, – будто мне сердце прокололо, и стала во мне отчаянность: внуки малые, а то, кажется, взял бы да и…"
Опомнился – надо домой спешить. Дождь перестал. Смотрит – с заката прочищает, багрово там.
Про крест подумал: суну в крупу, не потеряется. Полез за пазуху… "И что-то мне всердце толкнуло… – рассказывал он, с радостным лицом, – что-то как затомилось сердце, затрепыхалось… дышать трудно…"
IV
«Гляжу – человек подходит, посошком меряет. Обрадовался душе живой, стою у коня и жду, будто тот человек мне надобен».
По виду, из духовных: в сермяжной ряске, лыковый кузовок у локтя, прикрыт дерюжкой, шлычок суконный, седая бородка, окладиком, ликом суховат, росту хорошего, не согбен, походка легкая, посошком меряет привычно, смотрит с приятностью. Возликовало сердце, "будто самого родного встретил". Снял шапку, поклонился и радостно поприветствовал: "Здравствуйте, батюшка!" Подойти под благословение воздержался: благодатного ли чину? До слова помнил тот разговор со старцем, – так называл его.
Старец ласково "возгласил, голосом приятным":
– Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир ти, чадо.
От слов церковных, давно неслышимых, от приятного голоса, от светлого взора старца… – повеяло на Сухова покоем.
Сухов плакал, когда рассказывал про встречу. В рассуждения не вдавался. Сказал только, что стало ему приятно-радостно, и – "так хорошо поговорили". Только смутился словно, когда сказал: "Такой лик, священный… как на иконе пишется, в себе сокрытый". Может быть, что и таил в себе, чувствовалось мне так: удивительно сдержанный, редкой скромности, тонкой задушевной обходительности, – такие встречаются в народе.
Беседа была недолгая, но примечательная. Старец сказал:
– Крест Христов обрел, радуйся. Чесо же смущаешися, чадо?
Сухов определял, что старец говорил "священными словами, церковными, как Писание писано", но ему было все понятно. И не показалось странным, почему старец знает, что он нашел крест: было это в дождливой мути, один на один с конем, старца и виду не было. И нисколько не удивило, что старец и мысли его провидит, – как бы переслать крест барину. Так и объяснял Сухов:
– Пожалел меня словно, что у меня мысли растерянны, не знаю, как бы сберечь мне крест… – сказал-то: "чесо же смущаешися, чадо?"
Сказал Сухов старцу:
– Да, батюшка… мысли во мне… как быть, не знаю.
И рассказал, будто на духу, как все было: что это, пожалуй, старинный крест, выбили с-под земли проезжие, а это место – самое Куликово Поле, тут в старинные времена битва была с татарами… может, и крест этот с убиенного православного воина; есть словно и отметина – саблей будто посечено по кресту… и вот, взяло раздумье: верному бы человеку переслать, сберег чтобы… а ему негде беречь, время лихое, неверное… и надругаться могут, и самого-то замотают, пристани верной нет: допрежде у господ жил, потом у купцов… – "а нонче, – у кого и живу – не знаю".
И когда говорил так старцу, тесно стало ему в груди, от жалости к себе, и ко всему доброму, что было… – "вся погибель наша открылась…" – и он заплакал.
Старец сказал – "ласково-вразумительно, будто хотел утешить":
– Не смущайся, чадо, и не скорби. Милость дает Господь, Светлое Благовестие. Крест Господень – знамение Спасения.
От этих священных слов стало в груди Сухова просторно – "всякую тягость сняло". И он увидел: светло кругом, сделалось поле красным, и лужи красные, будто кровь. Понял, что от заката это – багровый свет. Спросил старца: "Далече идете, батюшка?"
– Вотчину свою проведать.
Не посмел Сухов спросить – куда. Подумал: "Что я, доследчик, что ли… непристойно доспрашивать, скрытно теперь живут". Сказал только:
– Есть у меня один барин, хороший человек… ему бы вот переслать, он сберег бы, да далеко отъехал. И здешние они, самого Куликова Поля старое их имение было. В Сергиев осад отъехал, у Троицы, там, думалось, потише… да навряд. Старец сказал:
– Мой путь. Отнесу благовестие господину твоему. Обрадовался Сухов, и опять не удивило его, что старец идет туда, – "будто бы так и надо". Сказал старцу:
– Сам Господь вас, батюшка, послал… только как вы разыщете, где они на Посаде проживают?.. Скрытое ноне время, смутное. Звание их – Егорий Андреич Среднев, а дочку их Олей… Ольгой Егорьевной звать, и образа она пишет… только и знаю.
– Знают на Посаде. Есть там нашего рода.
Радостью осияло Сухова – "как светом-теплом согрело" – и он сказал:
– Уж и поклончик от меня, батюшка, им снесите… скажите: кланяется, мол, им Вася Сухов, который лесной объездчик… они меня давно знают. А ночевать-то, батюшка, где пристанете… ночь подходит? Позвал бы я вас к себе, да не у себя я теперь живу… время лихое ноне, обидеть могут… и церковь у нас заколотили.
Старец ласково посмотрел на Сухова, – "весело так, с приятностью", и сказал ласково, как родной:
– Спаси тя Христос, чадо. Есть у меня пристанище. Принял старец от Сухова крест, приложился с благоговением и положил в кузовок, на мягкое.
– Как хорошо-то, батюшка… Господь дал!.. – радостно сказал Сухов: не хотелось со старцем расставаться, поговорить хотелось: – Черные у меня думы были, а теперь веселый я поеду. А еще думалось… почтой послать – улицы не знаю… и доспрашивать еще станут, насмеются… – да где, скажут, взял… да не церковное ли утаил от них… – заканителят, нехристи.
Сказал старец:
– Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
И помолился на небо.
– Господь с тобой. Поезжай. Скоро увидимся.
И благословил Сухова. Приложился Сухов со слезами к благословившей его деснице. И долго смотрел с коня, пока не укрыли сумерки.
Когда Сухов рассказывал, как старец благословил его, – плакал. Тайный, видимо, смысл придавал он последнему слову старца – "увидимся", – знал, что недолго ему осталось жить? И правда: рассказывал мне в конце апреля, а в сентябре помер, писали мне. Со «встречи» не протекло и года. По тону его рассказа… – словами он этого не обнаружил – для меня было несомненно, что он верил в посланное ему явление. Скромность и сознание недостоинства своего не позволяли ему свидетельствовать об этом явно.
В этом "первом действии" нет ничего чудесного: намеки только и совпадения, что можно принять по-разному. Сухов не истолковывал, не пытался ощупывать, а принимал как сущее, "в себе скрытое", – так прикровенно определил он "священный лик". Вот – простота приятия верующей душой. Во "втором действии", в Сергиевом Посаде, «приятие» происходит по-другому: происходит мучительно, с протестом, как бы с насилием над собой, с ощупыванием, и, в итоге, как у Фомы, с надрывом и восторгом. Это психологически понятно: празднуется победа над злейшим врагом – неверием.
V
Рассказ Сухова о встрече на Куликовом Поле не оставил во мне чувства, что было ему явление, а просто – «случай», странный по совпадениям, с мистической окраской. Окраску эту приписывал я душевному состоянию рассказчика. Василий Сухов, простой православный человек, душевно чистый, неколебимо верил, что поруганная правда должна восторжествовать над злом… иначе для него не было никакого смысла и строя в жизни: все рушится?!. Нет, все в нем протестовало, инстинктивно. Он не мог не верить, что правда скажется. Он – подлинная суть народа: «Правда не может рушиться». И так естественно, что «случай» на Куликовом Поле мог ему показаться знамением свыше, знамением спасения, искрой святого света во тьме кромешной. В таком состоянии душевном мог он и приукрасить «явление», и вполне добросовестно. Мне он не говорил, что было ему явление, и сокровенного смысла не раскрывал, а принял благоговейно, детски-доверчиво.
Вернувшись в Тулу, я никому не рассказывал, что слышал от Сухова в Волове. Впрочем, дочери говорил, и она не отозвалась никак. Но месяца через три, попав в Сергиев Посад, я неожиданно столкнулся с другими участниками «случая», и мне открылось, что тут не «случай», а знамение свыше. И рассказ Сухова наполнился для меня глубоким смыслом.
Знамение свыше… – это воспринимается нелегко, так это необычно, особенно здесь, в Европе. Но там, в Сергиевом Посаде, в августовский вечер, в той самой комнате, где произошло явление, вдруг озарило мою душу впервые испытанное чувство священного, и я принял знамение с благоговением. Я видел святой восторг и святые слезы чистой и чуткой девушки… – какая может быть в человеке красота!.. – я как бы читал в открытой душе ее. И вот, захваченный необычайным, стараясь быть только беспристрастным, почти молясь, чтобы дано было мне найти правду, я повел свое следствие, и, неожиданно для себя, разрушил последнее сомненье цеплявшегося за «логику» "Фомы"-интеллигента.
Не передать, что испытывал я тогда: это вне наших чувств. Что могу ясно выразить, так это одно, совершенно точное: я привлечен к раскрытию необычайного… привлечен Высшей Волей. А что пережил тогда в миг неизмеримый… – выразить я бессилен. Как передать душевное состояние, когда коснулось сознания моего, что времени не стало… века сомкнулись… будущего не будет, а все – ныне, – и это меня не удивляет, это в меня вместилось?!. Я принял это как самую живую сущность. Жалок земной язык. Можно приблизительно находить слова для выражения этого, но опалившего душу озарения… – передать это невозможно.
VI
Жизнь в Туле, призрачная, под чужим именем «мещанина Подбойкина», под непрестанным страхом, что сейчас и разоблачат, и… – стала невмоготу.
Что за мной числилось? Вопрос праздный. Ровно ничего не числилось, кроме выполнения долга – раскрывать преступления. Но для агентов власти я был лишь «кровопийца». Могли мне вменить многое: приезд Плеве, по делу убийства губернатора… раскрытие виновников злостной железнодорожной катастрофы, когда погибло много народу, а намеченная добыча, важный правительственный чин, счастливо избег кары… Я делал свое дело.
Но вот какая странная вещь… Не могу понять, почему я, следователь-психолог, раскрывавший сложнейшее, в течение восьми лет укрывался в Туле, где меня легко могли опознать приезжие из Богоявленска!
Возможно, тут работала моя «психология»: здесь-то меня искать не станут, в районе моих «злодейств», и не откроют, если не укажут обыватели. Непонятное оцепенение, сознание безысходности, будто пробка в мозгу застряла.
Боялся смерти? Нет, худшего: страх за дочь, издевательства… и, что иным покажется непонятным, – полного беззакония страшился, вопиющего искажения судебной правды, чего не переносил почти физически. Это своего рода "порок профессиональный", мистическое нечто. Словом, оцепенение и «пробка».
Самое, кажется, простое – ехать в Москву, острая полоса прошла, в юристах была нужда. Устроили бы куда-нибудь друзья-коллеги, уцелевшие от иродова меча, мог бы найти нейтральное что-нибудь, предложил бы полезный курс – "психология и приемы следствия", надо же молодежь учить. Почему-то все эти планы отбрасывал, сидела «пробка». И вот, оказалось, что мое сиденье в Туле было «логично», только не нашей логикой.
Учил грамоте оружейников, помогал чертежникам завода, торговал на базаре картузами, клеил гармоньи. Дочь давала уроки музыки новой знати. Тула издавна музыкальный город: славен гармоньями на всю Россию, как и самоварами. Не этим ли объяснить, что началась прямо эпидемия – "на верти-пьяных"! Все желают "выигрывать на верти-пьяных разные польки и романцы". И выпало нам «счастье»: навязалась моей Надюше… «Клеопатра». И по паспорту – Клеопатра, а разумею в кавычках, потому-что сожительствовала она с «Антошкой». Так и говорили – "Антошка и Клеопатра". А «Антошка» этот был не кто иной, как важная птица Особ-Отдела, своего рода мой коллега… Бывший фельдшер. И вот, эта «Клеопатра», красавица-тулячка, мещаночка, очень похожая на кустодиевскую «Купчиху», такая же белотелая и волоокая… глупое и предобрейшее существо – походя пряники жевала и щелкала орешки – и навязалась: "ах, выучите меня на верти-пьяных!.."
Мучилась с ней Надюша больше года. Инструмент у девицы был – чудесный беккеровский рояль, концертный. А Надюша окончила консерваторию на виртуозку, готовилась к карьере пианистки. И вот – "на верти-пьяных". Забылась как-то, с Шопеном замечталась… и вдруг, ревом по голове: "Лихо наяриваете, ба-рышня!" «Антошка», во всей красе, с наганом. А «Клеопатра», в слезах восторга: "Выучите, ради Господа, и меня такому!" Все-таки польку одолела, могла стучать; и была в бешеном восторге. Посылала кульки с провизией, "папашке вашему табачку", то-се… С отвращением, со стыдом, но принимали, чтобы отдать другим… – не проходило в глотку. А нужды кругом!.. Урочные деньги Надюша не могла брать в руки, надевала перчатки. Лучше уж картузами, гармошками…
Тошно, гнусно, безвыходно… – и при моем-то «ясновидении». В глазах народа я был «гадателем», так и говорили: "Нашего следователя не обведешь, скрозь землю на три аршина видит!" И такое бессилие: засела «пробка». И в Волово-то смотался не от нужды, а как-нибудь сбросить это оцепенение, вышибить эту «пробку», а мукомол советовал: "Ныряйте, Сергей Николаич, в Москву – большая вода укроет". Но «пробка» сидела и сидела. Или – так нужно было? Чего-то не хватало?.. И вот это что-то и стукнуло. Теперь вижу, что так именно и нужно было.
Вскоре после поездки моей в Волово в начале мая, приходит моя Надюша, остановилась у косяка… и такими страшными, неподвижными глазами, глазами ужаса и конца, смотрит на меня и шепчет: "папа… конец…" Это – конец – прошло мне холодом по ногам. Да, конец: пришло то, о чем мы с ней знали молчаливо, "если оно случится". И оно случилось: "все известно". Но самое страшное не это, не мытарства, если бы не удалось нам уйти: самое страшное – позор.
В то утро мая «Клеопатра» разнежилась с чего-то и захотела обрадовать Надюшу: "А что вы думаете, мой-то все-о про вашего папаньку знает, как у трудящих засуживал… но вы не бойтесь, и папанька чтобы не боялся… мой для меня все сделает, так и сказал: "Я его на высокую должность возьму, как раз по нем, засуживать… в помощники при себе возьму, в заседатели, а то все негодящие, дела спят…" и жалованье положит, и еще будет натекать, будете жить как люди". Это уж после Надюша мне передала, а тогда только – "все известно". И тут – вышибло мою «пробку»… в Москву!.. Сейчас же в Москву!.. Это при "все известно"-то!.. При зверском контроле на вокзале!.. Как новичок-воришка… вся «логика», весь мой следовательский опыт испарились.
Сказал Надюше самое необходимое собрать, шепчу: "Есть выход… Москва – выход!.." Помню, смотрела с ужасом. А я кинулся на вокзал – поезд когда отходит. Бегу, не соображая, что обращу внимание… – одно в уме, взываю: "Господи, помоги…" И уже вижу какую-то возможность: в Москве Творожников, кто-то говорил, в гору у них пошел. А он был когда-то ко мне прикомандирован, кандидат на судебные должности, очень талантливый, ловкий, "без предрассудков", после товарищем прокурора был. Расстались мы друзьями. Только бы разыскать его.
Вбегаю на вокзал, задохся, спрашиваю про поезд, а мне кто-то шипит грозяще: "Ка-ак вы здесь?.. Вон!.. Комиссия отъезжает, Рабкрин!" Рабоче-крестьянская инспекция! Гром и огонь!.. Все может!.. Страх и трепет. Метнулся в боковой зал, а там… «губернатор» наш, тянется, и вышние из Особ-Отдела, с наганами… кошмар!.. И вдруг: "Сергей Николаич… вы как здесь?"
Он!.. Творожников, о ком только что в голову вскочило. Там такое бывало, многие подтвердят. Теперь что-то мне в этом видится. Но уточнять не буду, примите за "случайность".
Произошло все головокружительно. Творожников подошел ко мне, сухо спросил: "Устроены?" Я ему – только: "В Москву… необходимо". Молниеносно понял, вынул бланчок и тут же, на портфеле: "Явиться немедленно, в распоряжение…" – отмычка ко всем замкам. Шел я домой, как пьяный, дышал после стольких годов удушья. Словом – счастливый случай".
VII
В Москве я устроился нейтрально – по архивам: разыскивал и приводил в порядок судебно-исторические дела, в уездной секции. Побывал в Клину, Серпухове, Звенигороде… и в середине августа выехал в Загорск, переименовали так Сергиев Посад. О барине Средневе не думал, случай на Куликовом Поле выпал из памяти, а хотелось увидеть Лавру, толкнуло к «Троице».
Что, собственно, толкнуло?.. Работавшие по архивам часто говорили о «Троице»: там ютилось много известных бывших людей; В. Розанов, А. Александров. Л. Тихомиров, работали в относительной тиши художники, наведывался Нестеров, решал перелом жизненного пути С. Булгаков, в беседах с Павлом Флоренским… Нестеров написал с них любопытную картину: дал их "в низине", а по гребешку «троицкой» мягкой горки в елках изобразил символически "поднявшихся горе"… – русских богомольцев, молитвенно взирающих на куполки "Святого Града" – Троицы-Сергия…