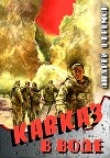Текст книги "Раненый город"
Автор книги: Иван Днестрянский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Мальчики, о войне и политике – шабаш! Давайте еще по сто – и о бабах, – торопится вслед за командиром поставить точку на конфликтной теме Тятя, шаря рукой внизу. Достает вторую бутылку. – Эдик, долей, у всех же на дне будто кот наплакал!
Али-Паша свирепо смотрит на Тятю, с просящей улыбкой держащего бутылку в руке. «Дойна». Тоже ничего себе коньяк. Но он молча встает, делает уверенно-равнодушное, командирское лицо и бросает к глазам руку с часами.
– Я к бате. На двенадцать вызывает. Замкомвзвода, ко мне. Остальные по распорядку.
4
Значит, продолжение пира оставлено на мое усмотрение. Выхожу из квартиры следом за ним. На лестнице он поворачивается:
– Вот что, Эдик. На этот раз перемирие может состояться. Я с утра у бати уже на раздаче цеу был. Речь идет о полном отводе войск к первому числу и затем о совместном наведении порядка с миротворцами. Они уже прибывают. С нашей стороны на совместное наведение прочат исключительно МВД. Завтра нам обещают смену, и я настоятельно рекомендую тебе мотать в Тирасполь.
– Нет уж!
– Послушай…
– Паша!!! Ты о чем?! К перемирию какая, к черту, смена? Не дадут ведь никого! Оставить тебя с босяками – и в Тирасполь?!
– Заткнись и слушай! Засветишься до первого числа или после, как там выйдет, – обратно на наведение порядка не попадешь как активный участник боевых действий. А ты здесь, я кумекаю, будешь нужен, и даже больше, чем сейчас. Это – во-первых. Во-вторых, пойми меня правильно, нервы у тебя стали ни к черту, дергаешься весь.
У меня екает внутри, и по спине разливается противное ощущение.
– Паша, ты что, считаешь, я струсил?
Али-Паша смотрит и покровительственно улыбается.
– Нет, Эдик, в мыслях не было. Тебя уже не напугать войной. Но все же ты недолго на ней. Знаешь только, что после одурения, в котором хлопают новобранцев, после того как иные бегут обратно при первой возможности, втягиваешься в нее, устаешь и от усталости привыкаешь. Как будто успокаиваешься, начинаешь чувствовать себя нормально… Но затем усталость и нервы берут свое, волнами, у каждого по-своему. У одного через месяц крышу рвет, у другого – через два, у третьего – через три. Люди не железные, потихоньку гнутся, особенно когда за спиной не положенные тылы, а воровство и вонючая политика. Это не трусость, о ней забудь. Смог держать себя в руках до сих пор, сможешь всегда! Но отдыхать нужно. Игнорировать усталость, переходить ее предел нельзя. Это уже не храбрость, а дурость! Все пройдет, если дать человеку отдохнуть. А страх… Вот когда совсем кончится война, будешь с полгодика спать спокойно в своей постели, тогда и придет, задним числом, настоящий страх. Я знаю…
Али-Паша невесело усмехается и продолжает:
– Думаешь, я не боюсь? Еще как иногда! Аж ноги ватными делаются. И тогда первая мысль – не подать виду. Верно? Поэтому нам самих себя не видно. Только со стороны смотришь и начинаешь догадываться, что человека вот-вот может рвануть. Я же видел, как ты торчишь в трансе, а потом срываешься, как на пожар! Добро бы от мулей бежал, а то на мулей, – пытается пошутить он. – Так и пулю получить недолго. Ты уж посмотри за собой, а? Не казни себя, сделал все что мог и даже больше. Чудо, что вам вообще удалось тогда отойти! И соглашайся. По душам с тобой говорю, как когда-то со мной мой батя, в Афгане.
– У тех, кто Отечественную ломал, такой возможности не было, почему же я должен пользоваться ею? – упрямо возражаю я.
– Да потому, что я в Афгане ею пользовался! Сейчас не Отечественная война, и такая возможность есть. Не использовать ее глупо. Чрезмерный риск и предрассудки, больше ничего. Подумай!
– Подумаю, – уклончиво отвечаю я.
– Думай! И не только об этом, но и о том, с чего я начал: что каждый должен быть не там, где ему захотелось, а там, где он больше нужен. А за меня на будущее не волнуйся. Справлюсь! Ну, я погнал. Иди, пей с ребятами бутылку, они заждались уже. Если не ошибаюсь, у них еще в загашнике есть. Только не переборщите!
Возвращаюсь на кухню. Так и есть. До того заждались, бедные, что у них уже и рюмки пустые. Только моя стопка, полная до краев, стоит сиротливо. Смешали «Викторию» с «Дойной» как божий дар с яичницей. Молчат. Гадают, с чем вернулся, не рубану ли им праздник.
– За что пили? – спрашиваю. Потом соображаю, что это – третья. Молча выпиваю ее до дна.
Тятя тут же щедро, по ободок, разливает снова. За счастье! Есть ли оно? Почему-то вспоминаю, что есть в Луганской области такой город – Счастье. Никогда там не был, но это название на карте меня всегда завораживало. В три приема уходит и эта бутылка. Быстро употребленный алкоголь ударяет в голову и вышибает дурные мысли. Цель достигнута. Теперь пора притормозить…
– Сколько там у тебя еще в подполье? – спрашиваю Тятю. – Только честно?
– Три.
– Все – «Дойна»? Богато!
– Нет, две – «Белый аист».
Прикидываю в уме: полтора литра коньяка на семь рыл – ситуация вроде контролируемая. Кроме того, в качестве последнего маневра можно пригласить Сержа и Жоржа. Те, кто будет этим недоволен, не рискнут возражать против угощения боевых друзей. А картошки и хлеба уже нет.
– Хлопцы, берите коньяк, орехи, мед – и айда в зал! – командую я.
Гремят табуреты. Дождавшись, пока все повернутся спиной и вытянутся гуськом по коридору, Тятя наклоняется ко мне.
– Слыхал, ты без камуфляжа остался? – дыша в ухо, тихо спрашивает он.
– Да, Тятя, конфуз вышел…
– Так оставь себе этот, что я дал. Племяшу подарок готовил, а он отказывается. Говорит, этого добра у них навалом…
Благодарю его и для усиления чувств хлопаю по плечу. Ну вот, решилась проблема. Не то пришлось бы рядиться в тряпье не по размеру, ходить как пугало и оправдываться…
В несколько минут рокировка завершена, и воинство располагается в зале на кушетках и мягких креслах.
Брошенная хозяевами трехкомнатная квартира, в которой мы обитаем, неплохо обставлена и, несмотря на визит молдавских волонтеров или других грабителей, которые унесли из нее бытовую технику, продолжает иметь зажиточный вид. Хорошая мебель, ковры. Объемистый книжный шкаф, а в нем хорошо подобранная библиотека, кое-что из которой с наступлением относительного затишья мне удалось полистать. И что ценно для нас – в стенных шкафах коридора и в мебельной стенке в зале полно чайных сервизов и разной другой посуды. Мы ее не моем, а швыряем после использования в те же шкафы, откуда берем. Воды-то не хватает. Но главное, что определило ценность квартиры для постоя, – это наличие в кладовой двух ящиков свиной тушенки, мешка лущеных орехов, литров двадцати искусственного меда да изрядного количества круп. Продукты, как и книги, мародеров не заинтересовали. С конца марта вокруг Бендер было неспокойно, и хозяева запасались, чем могли. Тушенка оказалась жирная, приелась быстро, но все равно для нас это было богатство, позволяющее относительно сыто существовать уже неделю.
В трех подъездах дома жильцов – ни души, и только в дальнем, четвертом, пара почти не ходячих стариков-пенсионеров и с ними симпатичный мальчонка трех лет – Антошка, судя по всему, круглый сирота. Бежать от войны им было не под силу и некуда. Они тоже у нас на довольствии. Обычное дело. Точно так же, как мы, соседний отряд помогает одинокой бабке с неходячим сыном-инвалидом… По мере удаления от линии соприкосновения сторон оставшихся в своих домах и квартирах жителей становится больше. В самом центре города люди на улицах – не редкость. В последнее время возобновилась торговля на рынке. Но это в одном-двух километрах от передовой. А в нашем квартале, который три недели подпрыгивал от грохота, пока румынва в двухстах метрах отсюда рвалась в центр и непрерывно колошматила по нам, нервы у самых твердых людей не выдержали, и остались только самые безнадежные. Вспомнив о них, спрашиваю Тятю:
– Ты продукты мальцу и старикам оставил?
– А как же! Будь покоен, Федя еще с утра отнес!
Вот, значит, откуда несли Кацапа черти, когда он мне соболезновать попер.
Шторы на окне в зале плотно задернуты, потому что оно выходит на сторону, опасную в плане обстрела, хотя и здесь стекла еще целы. В соседней комнате из окна на землю у нас оборудован настил, по которому можно быстро покинуть квартиру при шухере. Через это угловое окно, разбившееся при падении мины у торца дома, в квартиру сначала влезли Кацап с Гуменярой, а потом привели остальных, убедительно расписав ее удобства и фаршировку.
Нас не интересуют сохранившиеся предметы роскоши и быта. Нам просто надо где-то отдыхать и что-то есть. Это не первая наша квартира. Из двух других, выев все, что там было, мы ушли, заколотив за собой крест-накрест двери. Обычная практика в Бендерах. Отделение Сержа и Жоржа обитает в такой же, вскрытой и обворованной до нас квартире этажом выше. Ее богатство составляли подсолнечное масло и мука, уже закончившаяся по причине неограниченного выпекания лепешек и пирожков собственной конструкции. Хороши же они были с нашим медом!
Мы возлежим на мягких, еще даже не очень грязных кушетках и креслах, попиваем коньяк и ведем светские беседы. Общего разговора уже нет. Темы разные, но все они так или иначе вертятся вокруг войны, перемежаясь ностальгическими пассажами. Есть у нас любители поговорить и о женщинах – не особо душевно, но весьма сочно. Но доказать свои истории делом у донжуанов пока не выходит. Квартал пуст, и после того как батя с Горбатовым навели дисциплину, отлучиться из него непросто. Конечно, к нам приходят жены и девушки ополченцев, но это святое…
Дунаев мостится возле меня, вопросами пытать будет.
– Может, правда мир заключат?
– Может. Мули что-то последние дни квелые.
Остальные охотно подхватывают:
– Да, б… Даже спустили нам пару номеров, за которые раньше устали бы отхаркиваться.
– Лейтенант, тебе взводный что говорил? Правда ли, что последний раз два десятка румын ухлопали?
– Правда. И еще больше раненых. Еще сказал, что старлея, командира ОПОНа, тоже ранило.
Про себя в который раз думаю: по результатам неожиданно крупный бой вышел. А все потому, что фактически три связанных между собой столкновения, одно за другим, произошло. И все три мули проиграли. Первое – случайно, второе – по дурости, а третье, с беготней через пристрелянные нами улицы и парк, вообще с их стороны было самоубийством. По раскладу не было нам счастья, да ночная неразбериха помогла. И тут же возвращается боль за своих потерянных друзей.
– Опоновцы из шестерки там, что, тоже приложились?
– Нет, просто досталось на орехи. Полез доставать раненых из-под обстрела. Потом едва самого достали.
– Порядочным людям часто не везет!
– С их порядочностью всем одна дорога! Проводим их туда с песней!
Семзенис, размахивая рюмкой, начинает гнусным голосом петь:
«Пьятнадцать молдаван на сундук мьертвеца, йо-хо-хо и бутылка водки. Пей, и румыны им помогут тебья довести до конца, йо-хо-хо и бутылка водки».
Еще и акцент у этого песенника спьяну появился! В ушах свербит. Непроизвольно оглядываюсь в коридор, где на двери в уборную висит листок с грозной надписью «Не срать! Командир убьет!!!» и криво намалеванным под ней черепом со скрещенными костями. Прямо-таки «Веселый Роджер».
Ниже листка дверь тоже исписана. Ровными, почти каллиграфическими штрихами фломастера на ней наведено: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о засоренном клозете». И подпись: «Почти Шекспир». А еще ниже решительные вензеля грозят: «Все засранцы и писатели, портящие чужую собственность, будут расстреляны по моему приказу. П. М.» У самого пола последний, корявый «ответ Чемберлену»: «Сам писал – сам и стреляйся!!!» Чистая булгаковщина.
В коридоре возникает небритый и довольный Федька в черном головном платке-бандане. Когда он успел до ветру выскочить и эту свою гордость нацепить? Обрадовался, что Али-Паши нет, взводный эти неуставные штучки ненавидит. Совершенно пиратского вида морда… Кацап ступает на порог, и общее ржание оглашает кают-компанию нашей севшей на мель «Испаньолы».
– Хорошая песня о вреде запойного пьянства в боевых условиях! – хихикает Тятя.
– Не нравится мне эта песня, – отвечаю. – Не хочу, чтобы еще кого-то из нас довели до конца, ни после водки, ни после коньяка тем более! Известно также, что не все молдаване – мули и не все мули – молдаване. А ну, ты, скальд-недоделок, меняй слова с пораженческих и политически вредных на правильные и наступательные!
Витовт хохочет и, как дирижер, взмахивает руками:
– Извольте, я могу:
«Их бэтээр в кювьет летит, в могиле остановка, Иного нет у них путьи, в руках у нас винтовка!»
– Гораздо лучше! – одобряю я. – Жаль только, что на уши тебе МТЛБ [10]10
МТЛБ, или МТ-ЛБ – многоцелевой гусеничный транспортер-тягач, предназначен для буксировки прицепов массой до 6,5 тонны, перевозки людей и грузов. Эта вооруженная 7,62-мм пулеметом двенадцатитонная бронемашина имела множество модификаций и широко применялась в постсоветских войнах, восполняя нехватку БТР и БМП. В ходе этих войн подвергалась дальнейшим переделкам.
[Закрыть]наехал!
Миша, сидя на тумбе от имевшего там когда-то место быть телевизора, тихо тащится. То, что ему и надо! Он пришел не только проведать Тятю, но и отдохнуть. Ему одиноко среди ополченцев, обтесывать которых его поставили. Говорили же ему сразу: не уходи! Не послушал, хотел вернуться в свой родной Бендерский батальон. Сразу после нашего прорыва через Днестр ушел искать своих. Нашел. Но поредевший, больше суток дравшийся в окружении батальон не пополнили, обещанных бронетехники и боеприпасов не дали. И через два дня, решая непосильную задачу, Бендерский батальон потерпел поражение и при отходе был жестоко обстрелян своими.
На открытой пулям и ветрам дороге под Бендерской крепостью почти полностью полегла вторая рота, а те, кто в упор из-за массивных земляных валов расстрелял ее, потом выскочили из ворот, страшно матерились, рыдали и извинялись. Мише опять повезло: отделавшись легким ранением и сбежав из тираспольской больнички, он второй раз вернулся в Бендеры.
Над знаменитым комбатом Костенко давно сгущались тучи. Чувствовалось, что ему не простят самоуправства в ту смутную ночь на 23 июня, когда комбат выступил против исполнения убийственных приказов Управления обороны ПМР, и после гибели роты потребовал объяснений от самого президента. И Костенко Мишу обратно не взял. Видно, мудрый батька-комбат, чувствуя для себя большую угрозу, хотел спасти от опалы своих гвардейцев и офицеров, берег людей. Многие в те дни получали от него отказы. Тогда Миша прибился организовывать ополченцев. Там его заметили и выдвинули. Теперь он тоже командир, и вернуться ему мешают командирские обязанности.
А наш взвод почти как студотряд. Чуть не половина с высшим или неоконченным высшим образованием. Оттого и разговоры часто заумные. Прямо как в кинофильмах про Белое движение и душевные муки офицерства. Если сравнить – на самом деле чем-то похоже. Националисты объявили себя революционерами – значит, мы, защищающие старый мир, – контрики. Вполне схиляем за деникинскую Добровольческую армию с ее страданиями за Святую Русь. Кого послушать и что послушать – у нас есть всегда!
Тятя довольно жмурится. Дунаев улыбается и гыкает, опасаясь смеяться громче всех. Затем, улучив момент, он спрашивает меня:
– Товарищ лейтенант, а вы на «Дружбе» тоже в деле были?
Нехотя отвечаю:
– Был.
– Сколько там румын убили?
– Не знаю, не много, несколько… – Видя его разочарование, поспешно добавляю: – Ну, десяток, может быть. И сами чуть богу души не отдали.
– Так почему же столько говорят об этом бое?
– О каком? О последнем? У «Дружбы» ведь несколько боев было. Из рук в руки переходил кинотеатр. Позиция там у них была сильная и хорошо прикрытая. Сидели у нас как кость в горле и наступать оттуда пытались. Еле выперли их оттуда, и то не силой, а хитростью. Вот об этом результате и говорят… Ты, малек, вижу, не догоняешь. Пойми, война – это не тир, где сколько хотел – столько мишеней и настрелял. Война – это работа многих людей. Тяжелая работа. Бой часто идет минуты, а готовится часы, а то и дни. Только пока позицию найдешь и займешь, чтобы ихний беобахтер [11]11
Беобахтер – наблюдатель (нем.)
[Закрыть]не засек, запаришься! И победу не всегда меряют числом румынских покойников. Пусть тебя эта вольница вокруг в заблуждение не вводит. Скоро сам начнешь чувствовать, когда можно пофраерить, а когда надо выполнять приказ – беспрекословно! И усеки себе: бой за кинотеатр «Дружба» – только наполовину выигранный бой.
– Почему?
– Да потому, что выбили их оттуда, а сами кинотеатр не смогли занять.
– Так почему не заняли? Он же небольшой и близко, кинотеатр-то? – горячится Дунаев.
– Человек десять наскрести, посадить туда можно было. Но чем давить огонь противника, который начался бы по выдвинутому вперед кинотеатру? Нечем! Пушка одна на весь южный сектор обороны. Минометов – два. Агээсов – тоже два, при необходимости крыть продольным огнем штук шесть опасных улиц. Владимиров – один. И тот больше молчит, чтобы ответную любезность из зениток не вызывать. По боеприпасам – режим. Одними пульками и ручными гранатками, да еще при постоянных окриках «Не стрелять! На провокации не отвечать!», много не навоюешь… Что нам с того, что у горисполкома да в Парканах куча приднестровской техники стоит? Она нас поддерживать не собиралась и не собирается. Наш батя отдавать Кицаку приказы служебным ростом не вышел… Да если бы попытался, – ему бы голову в два счета сняли. Слыхал, небось, как поступили с бендерским комбатом? При таких делах, без дальнейшего движения вперед, занять «Дружбу» – значит постоянно терять в ней людей. А это плохое кино…
– Ты мотай на ус, малек, мотай, – добродушно советует Дунаеву Тятя. – Это по бабам тебе нужен другой советчик, а на этот счет он у нас после командира и Сержа самый грамотный!
– Точно, это тебе не болтовня в Тирасполе, а порнография как она есть! – с ухмылкой заявляет Кацап. Он делает постную рожу, сводит к переносице глаза и торжественно-загробным голосом начинает вещать: «Смерть румынским захватчикам, слава доблестным защитникам Приднестровья! Ура, товарищи! За Родину! За нашу советскую власть! Прыгайте друг к другу на закорки – и вперед, в конский бой! Отбейте прикладами башни у румынских бэтээров и бээмпэшек! Плюньте им в стволы, чтоб их разорвало! И не смейте стрелять! У нас опять переговоры! Ура, ура!»
– Сволочи, мать-перемать, – гудит из своего угла Гуменюк.
– Да еще в толк возьми, – психую я, – займем мы сейчас «Дружбу», так молдавские переговорщики на первой же встрече с нашим добрым руководством расплачутся, как банда Мартынова, которому прямая дорога в тюрьму и на кладбище вслед за Костенко, нарушила ранее достигнутые договоренности и подло захватила исконно румынский кинотеатр «Приетение» [12]12
«Приетение» – «Дружба» (молд.)
[Закрыть]. И тогда мы не только получим от румынской артиллерии в хвост и в гриву, еще примчатся Каранов и Атаманюк [13]13
К. Каранов – заместитель председателя Бендерского горисполкома, на которого была возложена координация действий бендерских подразделений по обороне и защите города. В. Атаманюк – заместитель начальника управления обороны ПМР, ярый недоброжелатель Ю. Костенко, выдвинувший против командира Бендерского батальона ряд ложных обвинений.
[Закрыть]нас арестовывать. Мы даже своих покойников из кинотеатра не успеем вытащить. И когда туда вновь зайдут наци, они будут ссать на их плохо закопанные могилы, как это было у магазина «Осенние листья»…
– Я не думал, что так плохо…
– А ты и сейчас не думаешь! У тебя и так уже неделя была, чтоб таких вопросов не задавать. Нормальное человеческое качество – думать только тогда, когда с задницы начинают лететь первые клочья! – неожиданно холодно отбриваю я.
Раньше не пришлось поговорить с ним, все было некогда. А вчера и позавчера приводили себя в порядок, отсыпались. И вот появилась возможность узнать, чем дышит. Энтузиазма много, но вопросы и представления наивные. Пропустил мимо ушей половину того, что ему успели рассказать. Для его же блага надо держать дистанцию, пусть думает. Дунаев затихает.
5
Минут пять просто сижу и смотрю на ребят. Миша, Семзенис и Гуменюк в дальнем конце комнаты, Тятя и Федя рядом со мной. Обе компании занялись обсуждением сугубо мирных вопросов. Пикники, водка, рыбалка… Понятно, разряжаются, но не могу сейчас говорить с ними об этом. Негатив не отпускает. Ощущение чего-то неправильного, какого-то разлада внутри от ссоры по поводу перемирия все не проходит. Мотнув головой в сторону зашторенного окна, самому себе в сердцах говорю:
– Если бы три года назад, во время первых беспорядков, кто-то по-настоящему думал, до такого бы не дошло!
Дунаев воспринимает это как продолжение разговора.
– А что, правда, в Кишиневе молдаване здорово бесновались?
Кошу на него взглядом и повторяю только что прозвучавшее в словесной перепалке с Витовтом:
– Правда. Но не молдаване, а мули. «Муль» – это сокращение от «молдавский националист», а не от «молдаванин». По крайней мере так мы это слово употребляем. Аналогию с глупыми анекдотами не проводи. Не приветствую. Среди молдаван хорошие люди тоже есть. В том числе и те, кто уже отдал жизнь за ПМР. Обычный народ. Работящий, гостеприимный, но в массе почему-то недружный – как и мы, русские, с украинцами.
– Но-но! Кто там катит бочку на мою нацию?! На звездочки не посмотрю… – вновь расходится на другой стороне комнаты Гуменяра.
– Пошел ты! Знаешь ведь, о чем я. Я-то видел, как все начиналось. Идут по улице Ленина десятка полтора уродов и уродок. Поперек, жидкой цепочкой идут. Орут: «Чемодан, вокзал, Россия!» А ради них городские власти, вместо того чтобы дать им по шапке за мелкое хулиганство, любезно останавливают уличное движение! И горожане топают по делам, глаза друг от друга прячут, хотя вполне могли бы дать этой шпане оторваться без посторонней помощи. Но пока у славян в каждой второй семье кого-нибудь не убьют, они так и будут углами шнырять и соплями шмыгать. Подумаешь, наци разбегались! Может, убьют кого, но не сегодня, а завтра, и, может быть, не меня… Вот вся наша народная логика! И всего за несколько месяцев уличные беспорядки и хулиганские выходки стали нормой. В феврале восемьдесят девятого начались, а к девятому мая националисты уже совсем обнаглели и сорвали парад. Вышла на площадь перед техникой какая-то рыпаная молдаванка – пардон, националистка – и кладет на асфальт перед танком грудного ребеночка. Мол, русские танки не пройдут! И не прошли, факт! Отменили парад.
Разговоры в комнате, как по команде, обрываются. Ребята смотрят на нас. Не рассчитывал на публичный эффект. Просто здесь собрались те, кто узнал кое-чему подлинную цену. Кто ни разу не видел танк в бою, тот не знает чувств, которые испытываешь, когда лязгающая, мигающая дрожащим пламенем пулемета, изрыгающая пушечный огонь и грохот громада идет на тебя смертью. Как постороннему понять, чем оказались шокированы видавшие виды, битые мужики? Три года назад я, как и любой нормальный человек, осуждал ту неумную женщину за безобразный поступок, но всю его животную тупость познал только здесь, в опустошенных и разбитых бендерских кварталах.
Тятя задает общий, висящий в воздухе вопрос, не вопрос даже, а просьбу подтвердить, не ослышались ли они:
– Так она, паскуда, положила ребенка на асфальт перед танком?
– Вот же б…дь, такое скотство ж придумать надо! – поражается Кацап.
Со стороны Миши, Гуменюка и Семзениса также прилетает по звучному определению.
– И отменить парад, – продолжаю я, – это тоже придумать было надо! Наплевать этим на Победу, за которую столько людей, тех же молдаван, жизни положили?! Уже не толпе прохожих, а всему народу в лицо плюнули, и он это стерпел! Дальше – больше. На День милиции закидали камнями и подожгли здание МВД республики. Сам министр, Воронин, этот пекарь бывший [14]14
И. Воронин до назначения на пост министра внутренних дел был министром хлебопекарной промышленности МССР.
[Закрыть], получил кирпичом в пятак и хрюкал потом с экрана обиженно, мол, как же так, он ведь с националистами обо всем заранее договорился! Свое тайное предательство от обиды на всю республику разболтал! Из-за него покалечили многих ребят из ОМОНа, которому он так и не дал добро на разгон боевиков. Вместо этого ОМОНу приказали построиться за щитами на ступеньках здания. Для боевиков же выдернуть человека из строя или закидать строй булыжниками – дело техники. И повыдергивали, и закидали!
– Среди них, поди, и те были, которые сейчас против нас в ГОПе, на Ленинском и в Варнице сидят, – усмехается Миша.
– Из боевиков или из того ОМОНа?
– Из тех и из других тоже.
– Вполне может быть! И в троллейбусы, проходящие по центральной улице, тоже камни и стальные прутья бросали. Как потом людей на других остановках снимали и отправляли в больницы – это никого не интересовало. Господин министр пообижался – и быстренько по собственному желанию в отставку: сбежал в Москву, захоронился среди тамошних коммунистов.
Потом от безнаказанности начались убийства. Первым убили пацана, Диму Матюшина, который вместе с девчонками шел вечером с концерта Дитера Болена, мимо памятника Штефану чел Маре [15]15
Штефан чел Маре (Стефан Великий) – правивший в ХV в. господарь Молдовы. Одержал ряд побед над турками, валахами и поляками.
[Закрыть], под которым народофронтовская погань всегда собиралась. Девчонки убежали, а он остался, чтобы дать им возможность убежать. После этого женщины из рабочих комитетов ходили к Верховному Совету: требовать от властей Молдовы защиты для своих детей. Прямо там, на ступеньках у входа, боевики били их, а депутаты-националисты выходили посмотреть, улыбались! И так же, средь бела дня, жгли редакцию газеты «Молодежь Молдавии». А в это время тысячи горожан шли мимо, делая вид, будто ничего не замечают… Приходили домой и кидались звонить по объявлениям об обмене квартир, выслушивать, как молдаване из какого-нибудь Грязнопупска милостиво согласны поменять сарай на его окраине на квартиру в центре Кишинева с большой доплатой… Среди этих перепуганных задохнулось рабочее движение на республиканских заводах, а проиграли республиканский центр – националисты получили возможность открыто собирать отряды волонтеров, брать для них транспорт и рванули на Гагаузию [16]16
Гагаузия, или Гагаузская Республика (Гагауз-Ери) – государственное образование, начавшее формироваться в заселенных гагаузами и болгарами Комратском и Чадыр-Лунгском районах Молдавии. Столкновения молдавской полиции с гагаузскими боевиками произошли в 1990 году под Комратом и в 1991 году в Вулканештах. В 1992 году гагаузские добровольцы воевали на стороне Приднестровья.
[Закрыть]в пьяный поход с драками, убийствами и разбиванием памятников павшим советским воинам по всем дорогам! А затем и к Приднестровью прицепились. Остальное вы не хуже меня знаете…
– Сам же говоришь, власти попустительствовали, при чем тут люди? – то ли спрашивает, то ли утверждает Тятя.
– Нет, Тятя, тут наши с тобой логики расходятся. Легко ты на власти все списал! По-моему, люди, сидевшие по углам и проспавшие свою страну, оказались не намного лучше тех, кто валил ее сознательно! И себе в том числе этот счет предъявляю! Ничего хорошего в Кишиневе не сделал… Раньше надо было дергаться! Русский народ – тоже мне, великий! Разучились дружить, любить, сосед хоронится от соседа… И ведь учили же всех без исключения, во всех учебниках истории писали: коллективно, за себя, за страну, за народ, за рабочее дело бороться надо! Как вышло, что учили всех одному, а большинство научилось обратному?
С досады наливаю себе пятьдесят грамм и пью залпом. Остальные продолжают слушать. Одному Гуменяре скучно. Разговор, наверное, приблизился к границам его умственных способностей. Увидев мое движение, он тут же подсовывает свою рюмку. Отмахиваюсь от него, и тогда он моментально справляется сам. Медленно, чтобы не пролить, тянет к губам свою переполненную чарку.
– Погоди, ты ж сам раньше кричал, что против коммунистов! – вдруг выпаливает Федя.
– А ты что, воображаешь, что о дружбе, коллективизме, рабочем движении не коммунист говорить не может? Что они без коммунизма не бывают?
Кацап пучит свои глазки и молчит. Хватает соображения понять, что ляпнул дурь.
– Да, я против него, потому что идея не оправдала себя. Но не считаю, что по этой причине надо отказаться от всего, чего достигли при социализме!
– Эдик, а как же голод, репрессии?
– Я их не оправдываю. Но вот, к слову, что ты, Тятя, сам имеешь в виду, говоря про репрессии? Полный отказ от прошлого, будто ничего хорошего вовсе не было? И что тогда нам останется для подражания? Одни милые буржуазные националисты, что перед нами в ГОПе сидят?! Может, пойдем им платочками помашем?! Слезу выдавим, как мы ошибались, убив их немножко, таких хороших и невинных мальчиков? Вражий довод в свою логику затаскиваешь! Наци на репрессии тоже ссылаются: тяжко мол, пострадали! Так тяжко, что пачками засели в парткомах, профессуре, союзах писателей! Влезли в правительство и продолжают в свое оправдание о том же ныть. Ложь все это, не их было горе, а чужое. Те, кто действительно беды нахлебался досыта, – теплых мест не занимали, подлостей не делали, и криками о былых обидах свое нынешнее поведение им оправдывать не нужно. Наши же сограждане, вместо того чтобы подумать над этим, развесили уши перед проходимцами и трясутся… Чего боятся – сами не понимают. За первые же годы демократии людей перебито не меньше, чем при тоталитаризме, старики с голоду вновь помирать стали, но нищета и война – фигня, а главное, чтобы репрессий не было…
– Тихо, тихо, чего взъерепенился? – Тятя, улыбаясь, отмахивается от меня рукой. – Платочком помахать! Сказал тоже! Да мы с Федей, чтоб вернуть те двадцать лет, что были до Горби, и водку по четыре рубля, все мулье отсюда до самой границы врукопашную погоним! Правда, Федя?!
Вместо меня встает Семзенис и наливает рюмки.
– Значит, – говорит он, – ты, должно быть, социалист. С коммунистами не согласный, но это тебе не мешает ненавидеть демократов. Так? Но скажи мне тогда, где же находится у тебя грань неприятия одного и отрицания другого? По какому принципу позицию строишь? Если нет такого принципа, это ведь будет уже не социализм, а центризм – метание между крайностями.
– Верно, Витовт! В крайностях правды всегда было мало. За что любить коммунистов? За то, что в погоне за идеей искорежили страну? Или за то, что не стали искать своих ошибок, отделались оправданиями о культе личности и продолжили совершать несуразности, все больше живя только для себя? И когда такая жизнь понравилась, первыми, во главе с Горби, стали повторять западную пропаганду, которую тамошние умники десятилетиями готовили в расчете на распад СССР? Развалили страну и бросили свою былую идею, как крысы тонущий корабль… В сто раз хуже крыс, потому что те просто спасают свою жизнь, а этих автогеном от штурвала не отваришь, ведут драку за лакомые обломки… А за что мне любить антикоммунистов? За то, что до сих пор пускают сопли по Николаше, который завел страну в проигранные войны и анархию? Или за то, что по своей непримиримости к красным они кинулись топтать родную землю вместе с интервентами и фашистами?
Вне этих крайностей принцип вижу только один: надо крепко стоять не на идеях, а на своей земле. Хватит переделывать ее, как вздумается! Потому что первична она, а не мысли о том, какое чудо на ней сотворить. Когда эти мысли отрываются от предмета и находят опору в желании указать всем верный путь или в обычной жадности – любой ценой обогатиться или вернуть некогда потерянное, – ничего хорошего не может получиться по определению. Чтобы этого не было, надо постоянно сверять свои мысли и побуждения с реальным положением дел на земле, не поступаться ни единым кусочком ее добра и красоты… Тогда такой абсурд, как погромы и убийства с благой целью, станет невозможен… Социализм меня в этом плане еще не разочаровал. Он лучше того капитализма, который нам обратно протаскивают. Но первой фазой коммунизма он быть не мог и никогда не будет!