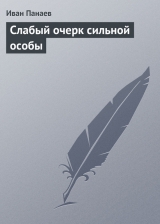
Текст книги "Слабый очерк сильной особы"
Автор книги: Иван Панаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Иван Иванович Панаев
Слабый очерк сильной особы
* * *
Его превосходительство занимает значительное и видное место, так что другие генералы, когда речь заходит об нем, говорят обыкновенно со вздохом и покачивая головой: «Эк везет-то человеку! Эк везет! даже противно! В сорочке родился!» И действительно, место, занимаемое его превосходительством, во всех отношениях завидное место – и по окладам, и по почету, и потому еще, что оно такого рода, что невозможно почти обойтись без его превосходительства. Оттого с ним обращаются приветливо, ему улыбаются и подают два пальца такие сановники, при одном виде которых у всех петербургских чиновных людей, до четвертого класса включительно, захлебывается дыхание и замирает под сердцем. Я сам был однажды свидетелем в театре, как во время антракта его превосходительству протянули приветно два пальца и с каким почтительным восхищением он коснулся этих пальцев, нагнув голову ниже желудка; я сам видел, как после этого магического прикосновения его превосходительство выпрямил свой стан, торжественно загнул голову назад и с победоносной улыбкой продолжал свое шествие середи толпы, которая с любопытством осматривала его и провожала его глазами, шушукая: «Кто это такой?.. Вы видели, как сам NN. протянул ему руку!»
Я имею честь знать его превосходительство очень давно. В детстве он поднимал меня на руки и трепал по щеке… когда еще не мечтал быть тем, чем он теперь, когда при входе особ четвертого класса, он робко отступал, низко кланяясь им, и только отвечал на их вопросы, не смея заговаривать с ними. Вследствие такого давнего знакомства его превосходительство удостоивал меня своим особенным вниманием, а иногда позволял себе в разговоре со мною употреблять одобрительные и весьма лестные для меня шутки, чего не удостоивалисъ другие господа, имевшие равный со мною чин, – чин очень слабый. Мало этого, его превосходительство не один раз изволил приглашать меня на обеды к себе и даже сажал меня возле себя с левой стороны. Если я долго не бывал у его превосходительства, он, при встрече со мною на улице, останавливался и говорил: «Что это, батюшка, вы совсем пропали, вас не видно, вы забыли меня… Стыдно, стыдно!» – и при этом иногда благосклонно грозил мне своим указательным пальцем. Сначала его превосходительство имел небольшую казенную квартиру и вел образ жизни очень умеренный. Раз в неделю у него обыкновенно обедали гости, именно по воскресеньям. Эти гости состояли из старых избранных друзей его превосходительства, но про них… увы! нельзя было сказать того, что с гордостию сказал про своих друзей Ф. Н. Глинка:
Все тайные советники,
Но явные друзья!
Нет, у его превосходительства, хотя он уже десять лет пользовался этим титлом, этим венцом всех наших помышлений и надежд (известно, что все мы – русские дворяне родимся для того только, чтобы сойти в могилу с генеральским титлом…), у его превосходительства в ту эпоху между друзьями еще не было ни одного тайного советника… Я имел удовольствие знать всех друзей его превосходительства той давно минувшей эпохи: надворного советника Ивана Ильича Нефедьева, с Станиславом на шее, который постоянно ходил на цыпочках, как будто пол под ним был хрустальный, говорил, выдвигая губы вперед и сжимая их, как будто собирался играть на флейте, к каждому слову прибавляя с и ваше превосходительство, отчего разговор его походил несколько на птичий свист, и смотрел на всех генералов так приятно и с таким умилением, как дети смотрят на конфекты. Статского советника Василья Васильича Прокофьева, с Анной на шее, отличавшегося светскостию приемов, ловкостию движений, увлекательной диалектикой, артистическими наклонностями (он прекрасно декламировал стихи и пел куплеты) и глубокомысленностию. Я как теперь помню (такие минуты никогда не забываются!), как Василий Васильич, после сладко свистящих речей Ивана Ильича, однажды отвел меня в сторону и произнес с понижением и возвышением голоса:
– Я истинно не понимаю нашего доброго Ивана Ильича. Как не стыдно ему какую – нибудь ничтожную частичку с принимать знаком учтивости. Учтивость нашего образованного девятнадцатого века заключается не в этой ничтожной частичке, а в интонации голоса!..
Я не мог не согласиться с этим. Василий Васильич улыбнулся, пожал мне руку и произнес несколько нараспев, с ударением на мы:
– Я знаю, что мы понимаем друг друга!
Кроме Ивана Ильича и Василья Васильича, на воскресных обедах его превосходительства всегда присутствовал друг его детства, Сергий Федорыч Брусков; также статский советник мужчина ражий, плечистый, в рыжеватом парике, с мутно – светлыми глазами, имевшими несколько дикое и пронзающее выражение, говоривший резко, твердо и упиравший в особенности на букву о. Сергия Федорыча очень уважали, но не любили и побаивались несколько, потому что он, по его собственному выражению, резал правду-матку всем в глаза и всех озадачивал своею смелостию, доходившею до грубости. Однажды за обедом его превосходительства какой-то чиновник, приехавший из провинции и подчиненный его превосходительству, распространился о высоких качествах души его, обращаясь к нему самому. Сергий Федорыч смотрел на чиновника пронзительно во все время его речи, и когда чиновник кончил свой панегирик его превосходительству, а его превосходительство, умилившись, протянул ему руку, Сергий Федорыч: положил без всякой церемонии свою огромную пятерню на плечо его превосходительства и сказал:
– Льстецы, братец ты мой, разделяются на обыкновенных льстецов и сугубых. Вот этот господин, я не имею чести знать его (он ткнул пальцем на приезжего чиновника), принадлежит к сугубым льстецам.
И потом прибавил, обращаясь к чиновнику:
– Не удивляйтесь, милостивый государь, моему замечанию. Оно, может, жестко показалось вам, но я мягко стлать не умею. Я как Правдолюб в старинных комедиях. Уж у меня такая тенденция… Он, конечно, хороший человек (при этом Сергий Федорыч ткнул пальцем на его превосходительство), но вы, милостивый государь, отзываетесь об нем, как о существе совершенном или о духе бесплотном, а и за ним так же, как и за другими смертными, грешки водятся… Ведь правду я говорю, мать?..
Он повернул голову к ее превосходительству, супруге его превосходительства.
Ее превосходительство была дама роста небольшого, съежившаяся и сморщившаяся, несколько походившая на плод, не успевший налиться и засохший на ветке; но зато она отличалась высокими нравственными достоинствами: благоразумием, умеренностию, аккуратностию, благочестием и так далее. Она строго исполняла все семейные обязанности, строго присматривала за домашней прислугой, за своей воспитанницей и отчасти, может быть, за его превосходительством, потому что его превосходительство очень часто, что называется, лебезил около нее, заискивал в ней, как бы чувствуя что-нибудь за собою. Он называл ее нежными уменьшительными именами, как, например, Машурочка, дружочек и т. п., отчего строгое, неподвижное и сморщенное лицо ее превосходительства не смягчалось нимало. Она никогда не улыбалась, потому что, по ее мнению, улыбка могла нанести ущерб ее нравственному достоинству, и делалась еще строже и серьезнее, когда в веселом расположении духа его превосходительство расшутится, бывало, с гостями и расхохочется иногда, довольный собственным юмором. Никаких дам я никогда не видал в доме его превосходительства, потому что ее превосходительство собственно к себе почти никого не принимала, кроме одной пожилой вдовы коллежского ассесора, с ридикюлем, на котором по черному фону была вышита какая-то пестрая птица, вроде райской. Эта почтенная вдова с райской птицей была ее поверенной и наперсницей и, по чувству благодарности к генеральше, подсматривала за генералом, за что последний не очень ее жаловал, хотя наружно был очень любезен с нею. Ее превосходительство являлась обыкновенно к самому обеду в сопровождении почтенной вдовы с райской птицей, которая садилась за обедом возле нее. Во время постов им подавали особо постные кушанья, которые чрезвычайно шли к их постным физиономиям. При входе ее превосходительства его превосходительство бросался к ней навстречу, называл ее маточкой, целовал ее руку и представлял ей гостей. Когда очередь доходила до меня, – его превосходительство всякий раз произносил одну и ту же шутку:
– Ну, а этот молодой человек, который так редко удостоивает нас своим посещением, знаком тебе, дружок?..
Но генеральша не обращала снимания на юмор генерала, очень серьезно отвечала на мой почтительный поклон и спрашивала:
– Как здоровье вашей матушки?
Я обыкновенно благодарил и отвечал:
– Слава богу!
Тогда генеральша замечала:
– Очень рада, что имею удовольствие вас видеть. И в заключение прибавляла обязательно:
– Потрудитесь засвидетельствовать почтение вашей матушке. Не забудьте, прошу вас.
Этим обыкновенно оканчивался наш разговор. За обедом ее превосходительство почти всегда молчала, а если и разговаривала, то шепотом, с почтенной вдовой, которую райская птица не оставляла даже и за обедом.
Это было в первую эпоху генеральства его превосходительства, когда еще никто не завидовал ему, – да и завидовать, признаться, было нечему. Оклады он получал небольшие, очень нуждался и прибегал иногда к займам; сановники и не подозревали тогда о его существовании; еще мягкая нога его, которая теперь так изящно скользит и шаркает в раззолоченных салонах разных стилей на мозаичных паркетах, – тихо, несмело и осторожно ступала тогда только по паркету приемной одного вельможеского дома, не осмеливаясь переступить за дверь этой приемной; еще выше Прокофьева, Нефедьева и Брускова он не имел тогда друзей.
Но… но уже человек наблюдательный, дальновидный и проницательный мог предугадать, что его превосходительство ожидает высшая доля, что перед ним должна открыться блестящая перспектива. Его открытое чело, орлиный нос, приветливый взгляд, быстро переходивший в строгий начальнический, то лестный и услаждавший душу маленького чиновника, то повергавший его в прах, – все предвещало, что он должен подняться, и значительно подняться. Так и вышло. Конечно, его превосходительство возвышению своему не был обязан исключительно своему открытому челу и орлиному носу; без особенной протекции и без счастливых обстоятельств он мог бы и с своим орлиным носом остаться на невидном и незначительном месте. Но как бы то ни было и чему бы он ни был обязан своему возвышению, теперь его превосходительство уже не лицо, а особа, и особа, которой протягивают особы из особ по два пальца. Этот орлиный нос, – счастливая игра природы, который был бы вовсе некстати, даже имел бы что-то комическое, если бы его превосходительство занимал невидное место, – теперь удивительно идет к нему и придает что-то необыкновенно гордое и значительное его физиономии, а это открытое чело, которое просто называлось бы лысиной, если б он не занимал видного места, теперь придает ему что-то олимпийское и заставляет предполагать о его возвышенном уме. Глядя на этот огромный, лоснящийся лоб, странно было бы сомневаться в его уме, в его широких взглядах, в его высоких административных способностях, что бы ни говорили против этого вольнодумцы и беспокойные люди, которые во всем и во всех отыскивают одни недостатки…
У его превосходительства теперь анфилады комнат, превосходно меблированных на казенный счет; в его передней кишат ловкие курьеры и официанты, а в приемной, перед кабинетом, стоят, притаив дыхание, смиренные чиновники и робкие просители.
Как человек с великодушным сердцем, его превосходительство не изменился к своим старым друзьям, к Прокофьеву и к Нефедьеву, которые все еще состоят в прежних чинах – и приглашает их снисходительно обедать по-прежнему, по воскресеньям; даже и я, не имеющий чина титулярного советника, удостоивался этой чести, – только все мы в великолепных его салонах отчего-то утратили прежнюю развязность и ощущали какую-то неловкость, как будто на нас были надеты дурно сшитые узкие платья, которые жали под мышкой. С одним другом детства, Брусковым, его превосходительство прекратил все сношения, и вот по какому поводу, если верить рассказам людей, собирающих городские сплетни.
Когда друг детства его превосходительства в первый раз явился на новую квартиру его, сей последний встретил его, говорят, с величайшим радушием и повел ему показывать свой анфилады в деталях. Друг детства останавливался в каждой комнате, осматривал ее от потолка до полу и восклицал:
– Дивно хорошо! Сколько капиталу, а главное, сколько вкусу потрачено! Вкус-то это, ведь я чай, обойщика?..
– Отчего ж обойщика? – возразил его превосходительство, – я всем, братец, распоряжался сам, – сам выбирал материи, бронзы…
– Полно, ваше превосходительство, морочить, полно! – перебил его друг детства, – откуда нам с тобой такого вельможеского вкуса было набраться. Ведь родословная-то наша не от Рюрика идет, – надо правду говорить. Предки-то наши не бог знает кто такие были, и воспитаны мы с тобой были на медные гроши, в детстве-то почти что босоногие бегали, да и в юношеском-то возрасте крепко нуждались. Помнишь, как ты у меня шинелишку занимал: у тебя ведь и порядочной шинелишки-то, чем от холоду защититься, не было… Так уж где нам самим этакие палацы меблировать!
Что отвечал на это его превосходительство, я не знаю; только с этих пор неумолимый друг детства не появлялся в доме его превосходительства.
Ее превосходительство нисколько не изменилась среди новой блестящей обстановки. Она по-прежнему появлялась к обеду в сопровождении почтенной вдовы с райской птицей, которой, по великодушию своему, назначила пенсию в 10 руб. в месяц, и по-прежнему, когда я обедывал у его превосходительства, спрашивала меня о здоровье матушки, только уже не просила о засвидетельствовании ей почтения; а его превосходительство хоть и продолжал мне оказывать свое лестное внимание, но сделался несколько серьезнее в обращении со мною и не позволял себе прежних шуток. После обеда генеральша отправлялась с райской птицей на свою половину, а генерал удостоивал приглашать нас в свой кабинет, на четверть часа перед сном. Покуривая сигару, он благосклонно выслушивал наши рассказы и иногда изволил улыбаться, когда выслушивал что-нибудь смешное. Нефедьев со своим Станиславом обыкновенно сидел на кончике стула, несмотря на то, что после обеда такая поза не совсем удобна, и, заговаривая, поднимал страшный свист, только и слышалось: «Ваше пр-ство, вы изволили-с, ваше пр – ство» – и проч. Прокофьев, как человек более светский, был несравненно развязнее и свое глубочайшее уважение и совершенную преданность обнаруживал, по своему обыкновению, посредством интонации голоса.
В поклонах его превосходительства произошла также значительная разница. Он при встрече со мной на мой почтительный поклон только слегка покачивал головой, с беглой, едва заметной улыбкой, и уже никогда не останавливал меня на улице, как бывало прежде. Я и не смел претендовать на большее внимание со стороны его, очень хорошо понимая, что человеку, так высоко поднявшемуся, трудно замечать таких маленьких человечков, как мы. Я был уже доволен тем, что его превосходительство замечает мои поклоны, тем более, что мне было небезызвестно, хоть он никогда не говорил мне этого, что, по его понятиям, человек неслужащий почти синоним человека вредного, ибо его превосходительство воспитан был в тех понятиях, что, кроме коронной службы, всё пустяки и что человек неслужащий непременно должен быть пустой и праздный человек. О таковых он отзывался с благородным негодованием, справедливо замечая, что праздность есть мать всех пороков, что она порождает вольнодумство и прочее. Заметное охлаждение ко мне его превосходительства в последнее время происходило, может быть, отчасти оттого, что мое свободное обращение в его присутствии, мое неуменье садиться на кончик стула, говорить с некоторым замиранием в голосе, слегка приподнимаясь на стуле и тому подобное, его превосходительство принимал за симптомы вольнодумства.
Его превосходительство принадлежал к старому поколению, которое в этом отношении несравненно взыскательнее и строже нового поколения значительных особ. Последние также мастерски сумеют показать неизмеримую разницу, существующую между ними и нами; но при них вы можете смело не только сесть на стул, – даже, если вам захочется, положить ногу на ногу; в их присутствии вы даже можете свободно судить обо всем, несмотря на свой ничтожный чин, говорить о злоупотреблениях, о мерах к их исправлению и проч., – они даже и в таком случае не назовут вас вольнодумцем. Вообще вольнодумец – слово обветшалое, совершенно выходящее из употребления. Оно заменилось ныне другим словом – «человек свободномыслящий». В.глазах старого поколения значительных особ быть вольнодумцем значило почти то же, что быть уголовным преступником; в глазах нового поколения значительных особ слова «человек свободномыслящий» не имеют такого ужасающего значения; напротив, люди, свободно мыслящие, пользуются даже уважением известных значительных особ как люди умные. Новое поколение значительных особ и на неслужащего человека смотрит уже без сожаления или без презрения, понимая, что можно быть человеком дельным и полезным отечеству и не занимая никакого коронного места.
До таких истин нельзя, конечно, доходить легко и скоро, и как мне это ни больно, но я не виню его превосходительство за то значительное охлаждение, которое он вследствие вышеизъясненных причин стал обнаруживать ко мне в последнее время. Двадцатилетнего юношу в чине десятого класса, с каштановыми волосами, с пушком на усах и с розовыми щеками, его превосходительство мог ободрять своим благосклонным покровительством; но когда этот юноша превратился в мужа, когда седина посеребрила его виски, когда на лбу его показались резкие морщины, а на верхней губе длинные усы, которые в штатском его превосходительство принимал почему-то за один из несомненных признаков вольнодумства (если штатский, носивший усы, не служил прежде в военной службе)… на такого усатого сорокапятилетнего господина, не подвинувшегося ни на полчина и оставшегося в том же роковом десятом классе, его превосходительство, натурально, не мог уже смотреть прежними глазами… К тому же, с своей стороны, усатый сорокапятилетний господин с некоторою уже самостоятельностию и проникнутый чувством человеческого достоинства, несмотря на все глубокое уважение к сану его превосходительства, не мог вести себя относительно его так, как он вел себя прежде мальчишкой, когда у него был пушок на губе и розовые щеки… В наших отношениях (если могут существовать какие-либо отношения между людьми третьего и десятого классов) должно было возникнуть недоразумение, а за недоразумением неизбежно последовало охлаждение. Несмотря на это, я, однако, изредка все еще являлся к его превосходительству, а в светлое Христово воскресенье и в Новый год оставлял в его передней свои карточки.
Я и не подозревал, что эти карточки окончательно вооружат против меня его превосходительство, потому что, как уже мне растолковали впоследствии, несмотря на мои преклонные лета, в слабом чине я не мог оставлять ему карточки (карточки только оставляют равные равным), а должен был расписываться на листе, который лежал в торжественные дни в передней его превосходительства. Эти карточки и еще то, что я никогда не поздравлял ни его превосходительство, ни ее превосходительство с днем их ангела и рождения, утвердили окончательно, кажется, его превосходительство в неисправимости моего вольнодумства…
– Жаль, жаль мне молодого человека, – говорил он про меня одному моему знакомому с карьерой, – душевно жаль… Я не ожидал этого от него… Он с этакими какими-то идеями… не служит, отпустил усы, у него какие-то развязные манеры… он вовсе некстати, говоря со мной, размахивает руками… Жаль, очень жаль молодого человека!
Молодой человек! Я грустно вздохнул, выслушав это. Увы! кроме его превосходительства, меня уже никто не называет молодым человеком.
В первый раз, когда его превосходительство увидел меня с усами, он взглянул на меня с благосклонной, но иронической улыбкой и, покачав головой, изволил заметить: «К чему это? это уж напрасно». Но потом, видя мое упорство, ничего никогда более не говорил мне об усах и только смотрел на меня с снисходительным сожалением, постепенно переходившим в некоторую суровость.
Таковы были мои отношения к его превосходительству до той минуты, когда случай заставил меня явиться к нему в виде просителя…
Круг деятельности его превосходительства все расширялся, и он, кроме прежних своих назначений, получил еще новое назначение. В числе новых его подчиненных находился один пятидесятивосьмилетний чиновник-труженик, кормивший многочисленное семейство и старуху мать. Чиновник этот сорок лет служил на одном месте и занимал лет пятнадцать должность столоначальника. Я знал давно и его и его семейство. Он не отличался ни образованием, ни глубиною взглядов, но был трудолюбив, честен, строго исполнял свою обязанность и, по единогласному отзыву всех своих сослуживцев, был весьма полезным чиновником… Прежнее начальство дорожило им. Он получал почти ежегодные вспомоществования из так называемых остаточных сумм, но несмотря на это и на пособия своих дочерей, которые занимались шитьем по заказам, очень нуждался, особенно в последнее время, при увеличившейся дороговизне петербургской жизни. Его звали Кондратием Иванычем Кондратьевым. Кондратий Иваныч никогда не жаловался на свое положение, не ханжил, не заискивал. Честолюбие его не простиралось выше занимаемого им места, и он был в полной уверенности, что умрет на этом месте.
Но его превосходительство, приняв на себя новые обязанности, вознамерился все изменить и переделать в своем новом управлении, не столько по желанию действительных улучшений, сколько потому, чтобы показать миру, что предшественник его был не так деятелен, как он, и не имел таких широких воззрений и соображений, какие имеет он. Ломка началась страшная. Несколько десятков чиновнических существований вздрогнули за себя и за свои семейства. Его превосходительство беспрестанно изволил говорить: «Я не потерплю этого»… «У меня это не должно быть»… А что такое разумел он под этим, никто не знал… С высоты своей он обратил свое начальническое внимание даже на Кондратия Ивановича, призвал его к себе и лично изволил объявить ему, что по его столу большие упущения. Кондратий Иваныч очень изумился этому, потому что он по совести не знал за собою по службе никаких упущений и с почтительною робостию осмелился заметить это его превосходительству, поставив на вид, что он служит сорок лет в одном ведомстве, пятнадцать лет занимает должность столоначальника и был всегда аттестован с хорошей стороны начальством… Но его превосходительство изволил вскрикнуть: «Мне нет никакого дела до того, как было прежде, но я, сударь, не потерплю никаких упущений, примите ваши меры…» И задал бедному Кондратию Иванычу в три месяца окончить такую работу, которую едва можно было исполнить в полгода. Кондратий Иваныч не спал ночи – и окончил заданную работу к сроку, сдал ее начальнику отделения и ожидал с трепетом решения его превосходительства, скрыв от своего семейства свои служебные неприятности. Начальник отделения через месяц объявил Кондратию Иванычу, что все сделано им не так, как ожидал его превосходительство и что его превосходительство очень недоволен им. У Кондратия Иваныча помутилось в глазах, когда он выслушал свой приговор: он побледнел как смерть…
– Что же это значит? – спросил он у начальника отделения, заикаясь. – Я все исполнил так, как мне было приказано.
– Мне очень больно огорчить вас, – отвечал начальник отделения, – но, кажется, любезный Кондратий Иваныч, его превосходительство прочит кого-то другого на ваше место. Вы должны принять меры.
– Какие же меры? – произнес Кондратий Иваныч, совершенно потерянный. – У меня шесть человек детей, жена, мать… Какие меры?
Кондратий Иваныч в первый раз в течение своей сорокалетней службы произнес перед начальством имя жены и детей.
– Ну, уж как вы там знаете, – пробормотал начальник отделения, – поверьте, я вхожу в ваше положение… Мне вас очень жалко… но…
– Господи! да что же это? – вскрикнул Кондратий Иваныч, схватив себя за голову, и выбежал вон из департамента.
В это утро солнце против обыкновения ярко освещало Петербург. Невский проспект имел вид совершенно праздничный; в цельных стеклах магазинов светились и играли бронзы, хрустали, драгоценные камни; роскошные экипажи быстро летали по торцовой мостовой; тротуары были полны гуляющими; устрицы только что привезли – и привоз был отличный: устричные раковины валялись у дверей Милютиных лавок для соблазна прохожих; в окнах этих лавок в стеклянных шарах плавали золотые рыбки; грудами были наложены только что привезенные из-за границы чудовищной величины груши и прохладительные освежающие гранаты, на полках расставлены были раздражающие вкус страсбургские пироги; за дверьми болтались на гвоздиках вестфальские окорока; на каждом шагу встречались пушистые бобры с удивительною проседью, темные, мягкие соболи, драгоценные шелковые ткани на кринолинах, кружева, блонды, цветы, перья… и вся эта роскошь, освещенная солнцем, действовала на глаз еще раздражительнее, чем когда-нибудь.
Но Кондратий Иваныч не видал ничего этого, в глазах бедного чиновника была ночь, непроницаемый, безвыходный мрак, перспектива скорби и голода… Нестерпимая тяжесть гнула его к земле: на плечах его было восемь существ, требовавших одежды, пищи и теплого угла, а пенсион при отставке едва достанет только на одну пищу такого многочисленного семейства… Кондратий Иваныч переходил через улицу, шатаясь, как пьяный; ноги его подламывались; блестящий экипаж Шарлоты Федоровны обрызгал его грязью, а огнедышащие рысаки ее чуть не задавили его. Он еле добрался до дому и слег в постель. Жена его узнала обо всем случившемся с мужем на другой день и прибежала ко мне. На этой бедной женщине лица не было. Она, заливаясь слезами, передала мне постигшее их несчастие и, зная о моем знакомстве с его превосходительством, умоляла меня съездить к нему и заступиться за ее мужа, упросить его превосходительство, чтоб он не лишил его места.
– Но что же я могу сделать для вас? – возразил я. – Я, точно, знаком с его превосходительством, но неужели вы думаете, что мое ходатайство, как бы оно ни было горячо, может на него подействовать? В глазах его превосходительства я человек ничтожный, незаметный.
Но бедная женщина не слушала моих возражений. Она твердила одно, задыхаясь от слез:
– Съездите, батюшка, попросите, заставьте за себя вечно бога молить! Ведь его превосходительство человек… он отец семейства… расскажите ему о нашем положении, неужели он не войдет в наше положение, не сжалится над нами…
Я был уверен, что не помогу ее горю, но дал ей слово ехать к его превосходительству и употребить все от меня зависящие средства, чтобы возбудить участие его превосходительства к ее мужу. Я тотчас поехал к его превосходительству и не застал ни его, ни ее превосходительства; в другой раз они меня не приняли. Я решился, не откладывая в дальний ящик, отправиться к нему в то утро, когда он принимает просителей. В первый раз с трепетом я входил в переднюю его превосходительства и в первый раз стоял между его просителями в приемной, вздрагивая каждый раз, когда отворялась заветная дверь в его кабинет.
Дверь эта отворялась и затворялась несколько раз. В нее входили и из нее выходили озабоченные господа с бумагами и портфелями в руках, не без любопытства поглядывая на нас; не раз раздавался звонок из кабинета, и мы думали: «Вот, вот наступает минута…» – но этот звонок призывал какого-нибудь подчиненного; подчиненный вбегал, скрывался за дверью, и снова водворялась тишина… У меня делалось волнение от нетерпения, даже биение сердца; я вставал, прохаживался по комнате, подходил к окну, глядел в окно, садился на стул, снова вставал и прохаживался, но его превосходительство не появлялся.
– Видно, вы еще новичок, батюшка? – сказал мне со вздохом и с улыбкой один из просителей, сморщенный старичок, заметив мое нетерпение, – а мы уж привыкли к этому, обтерпелись… Его превосходительство изволит назначать прием в десять часов, а раньше двенадцати никогда не выходит. Что ж делать? занят, видно… дел много.
Наконец из кабинета послышался шум отодвигавшегося массивного кресла. На таком кресле никто не мог сидеть, кроме его превосходительства. При этом шуме курьер и чиновник, находившиеся в приемной, пришли в движение. Затем снова раздался звонок, курьер вошел в кабинет и тотчас же вышел, отворяя дверь и взглянув значительно на просителей. Все просители вскочили с своих мест, обдергиваясь. На пороге дверей показался его превосходительство с своим возвышенным челом и орлиным носом.
Я первый раз видел его превосходительство в такую официальную, торжественную минуту. Он был прекрасен. Горделивая осанка, приподнятая голова и несколько надвинутые на глаза брови выражали глубокомыслие и чувство собственного достоинства и внушали в просителях невольное ощущение страха, а несколько нервические, нетерпеливые движения его показывали, что его превосходительство занят важными делами и что ему долго выслушивать просителей нет времени… Изредка он повторял, не глядя, впрочем, на просителя:
– Покороче, покороче, – в чем дело?..
К просительницам он был вообще внимательнее и, выслушивая просьбу одной молодой дамы в прекрасной лиловой шляпке, даже очень приятно улыбнулся.
Когда очередь дошла до меня, его превосходительство, бросив на меня взгляд, в первую минуту обнаружил как будто изумление, потом произнес:
– А, это вы?.. И вы имеете какую-нибудь просьбу?.. Уж не на службу ли определиться хотите?
И при этом его превосходительство изволил улыбнуться иронически.
Я просил его превосходительство о дозволении мне сообщить ему мою просьбу наедине и прибавил, что я не более как на десять минут обеспокою его.
Его превосходительство немного нахмурился, однако, по мгновенном размышлении, произнес:
– Очень хорошо-с. Пойдемте ко мне в кабинет.
Я, сколько мог, кратко, но в то же время горячо и убедительно изложил дело, представил ему бедственную картину положения Кондратия Иваныча и в заключение обратился к его великодушному сердцу, к которому ни один страждущий не прибегал тщетно. Это я, впрочем, прибавил только для смягчения его превосходительства и для красоты слога.
В продолжение моей речи его превосходительство несколько раз неприятно подергивало. Когда я кончил, он сказал:







