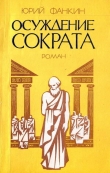Текст книги "Софисты"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
XXXVIII. БОЛЬШАЯ ОШИБКА ИСТОРИКА
Алкивиад понимал, что оставаться у себя в имении ему больше нельзя: спартанцы и их союзники по случаю свободы лютовали по всей стране и, конечно, его они не пощадят. Да и Афинам рано еще сдаваться: завтра судьба может все повернуть в другую сторону… Сиракузы ввязались было в дела Эллады и тут, на Эгейском море, но им в затылок ударил Карфаген: Ганнибал, чтобы отомстить за смерть и поражение своего деда Гамилькара под Гимерой, двинул на солнечный остров чудовищные силы – к нему присоединились и некоторые сицилийцы – взял Селинос, взял Гимеру, все жители которой были подвергнуты мукам и смерти на месте смерти Гамилькара, взял цветущий Акрагас и навел смятение на всю Сицилию. И сиракузцы должны были бросить тут, на Эгейском море, все и спешить назад, где их уже ждал вместо демократии стратегос автократор Дионисий… Что будет завтра, никто не знает…
Глубокой ночью вместе с Тимандрой он переправился через море в Вифинию, чтобы направиться ко двору Артаксеркса II… Слух о его бегстве быстро разнесся по всей Элладе и Лизандр помчался к Киру Младшему: смутьяна надо перенять и истребить, иначе покоя никогда не будет. Кир так уже твердо в этом убежден не был: он продолжал традиционную политику Персии и совсем не хотел сильные Афины заменить сильною Спартой. Но, с другой стороны, затянувшаяся война стоила Персии столько уже золота. Он колебался, а чтобы колебания эти не были так мучительны, он искал утешения у Аспазии, своей любимой красавицы, которую за ее прекрасный цвет лица прозвали Мильто. Она, как и все женщины, была под обаянием Алкивиада, хотя видела его из-за решетчатого окна только раз.
– Конечно, ты прав… – сказала она своему повелителю. – Лизандру, понятно, хочется уничтожить своего блестящего соперника, но тебе лучше держать Алкивиада про запас живым. Мало ли что может быть…
Кир – молодой, гибкий, широкоплечий, с газельими горячими глазами, – подозрительно посмотрел на нее: он был ревнив чрезвычайно. В ее прекрасном лице что-то неуловимо дрогнуло и едва приметно замерцали ресницы. И вернувшись от Аспазии к исполнению своих государственных обязанностей, Кир послал отряд воинов взять Алкивиада живым, а нельзя живым, так мертвым.
Алкивиад пробирался уже Фригией и был недалеко от старого Пергама. На ночь со своей встревоженной Тимандрой – она думала, что он играет слишком опасную игру с персами, – он остановился в одной фригийской деревушке, в которой как раз остановился на ночлег и искавший его отряд. Узнав, что маленький караван принадлежит Алкивиаду, персы хищно затаились и, когда настала звездная ночь, черные тени, тревожно перешептываясь, подошли к спящему домику, в котором отдыхал Алкивиад. Их было несколько – он был один и безоружен, но между ними и им стояла его слава воина: взять его живьем они не решались.
– Надо поджечь дом, а выскочит – убить… – сказал в темноте грубый голос, в котором определенно звучала нерешительность.
Ему отвечало взволнованное молчание. Было слышно, как бились сердца. И опять нерешительно уронил в темноту грубый голос:
– Не до утра же тут стоять!.. Я пойду, подожгу, а вы не зевайте… И помните: Алкивиад это Алкивиад. Мечом он владеть умеет…
– Говорили, что лучше бы живьем его взять… – неуверенно возразил другой.
– Пусть они сами возьмут его живьем… – зло пробормотал третий. – Они думают, что своя голова только им дорога, а наша нам ничего не стоит… Иди, а мы поглядим…
Одна тень осторожно скрылась в темноте, и скоро ночь вздрогнула: где-то за углом вспыхнул золотистый огонек. И погас, и вспыхнул снова смелее, и вокруг заплясали и заметались тени. Залились проснувшиеся собаки. Раздались тревожные ночные голоса. Чей-то испуганный крик полоснул вдруг по ночной тишине и вдруг все вокруг залилось ярким светом, в звездное небо поднялся клубами дым, и в спящем домике раздался испуганный женский крик. Еще мгновение, дверь с маху распахнулась, и на пороге выросла красивая, сильная фигура Алкивиада в одной тунике. Порыв персов к нему сразу оборвался в страхе, но поднялись луки, скользнули в багровый свет пожара неслышные стрелы и, впившись в прекрасное, сильное тело Алкивиада, хищно, точно наслаждаясь, затрепетали. С тихим стоном Алкивиад зашатался и вдруг ткнулся лицом в землю. К нему с жалобным криком, вся в слезах, бросилась полуодетая Тимандра. Но он уже не услыхал ее зова: перед ним пестро-золотым, горячим полотнищем вспыхнула вдруг вся его жаркая жизнь. Он увидел и своего старого дядьку Зопира, который сто раз на дню приходил в отчаяние от его проказ, и веселую толпу мальчишек, которая под его предводительством изводила в гимназии софронистов, надзирателей, и Перикла-Олимпийца с его прекрасной Аспазией, и восторженно ревущую агору, которая приветствовала его, и бега колесниц в Олимпии, и милые тени прекрасных женщин, украсивших его жизнь жемчугами своей любви, и пьяную ночь, когда он с приятелями валяли по Афинам гермы на зло тупорылым лавочникам, и прекрасная Тимеа, и его блистательный триумф в Пирее, когда он во главе несметного флота, с музыкой, песнями, под пурпурными парусами входил в восторженно ревущую гавань, и курносый чудак Сократ, и смелый морской орел Антикл-Бикт, и гибель афинского флота под Эгоспотамосом, и светлая тень тоненькой Психеи-Гиппареты и многое другое, навеки, казалось, погребенное под пеплом сгоревших годов, вспыхнуло вдруг яркими красками на золотом фоне его памяти в то время, как он, хрипя, старался коченеющими руками вытащить из груди персидские стрелы… Но руки его, обессилев, опустились, глаза тускнели, и он уже не слышал рыдающей над ним Тимандры, не чувствовал жара приближающегося пожара и тревожных криков сбегавшихся со всех сторон фригийцев.
– Как?!. Алкивиада?!. – ужасались селяки. – Но…
Но грозно стояли неподвижные тени персов, озаренные багрово-золотистыми отблесками пожара и – селяки замолчали.
И, косясь волчьим взглядом на лежавшую без чувств, полуобнаженную Тимандру, персы, переругиваясь хриплыми голосами, тут же отрубили прекрасную голову Алкивиада и бросили ее в грубый, грязный мешок. И – ушли… Не у одного из них шевелилась мысль вернуться потихоньку и овладеть прекрасной ионянкой, но так как мысль эта мелькала у всех, то привести ее в исполнение не решился никто…
«И никто не плакал над ним, кроме прекрасной Тимандры, верной подруги его последних лет…» – заключает историк свое повествование о смерти Алкивиада. Но он очень ошибся, как это часто, увы, бывает с историками: плакало об Алкивиаде немало женских глаз. Он играл этими женщинами, как игрушками, бросал их, но в сердцах их оставалось о нем грустно-прекрасное воспоминание, которое они берегли, как маленький незримый алтарек. Очень плакала прекрасная Тимеа, на глазах которой рос маленький сынишка, так удивительно напоминавший и характером, и наружностью Алкивиада. Плакала бы, конечно, жгучими слезами и беленькая Гиппарета, если бы она не тлела уже в холодной могиле, под пышным памятником, на котором стояло гордое: жена Алкивиада. И с теплой симпатией говорили о нем, вспоминали его многие – даже его враги…
Дорион, гонимый тоской, прибыл в Афины и сидел с постаревшим Сократом в тени платанов, среди озабоченно снующей толпы борющегося со смертью города, когда Федон с Платоном, ученики Сократа, задыхаясь, прибежали, чтобы сообщить им весть о гибели Алкивиада. Пучеглазое, курносое лицо старика задергалось сперва в усилиях сдержать слезы, а потом все осветилось грустью. Дорион тоже потупился. Оба они привыкли смотреть в себя и там находить все, что нужно, или хотя бы и не находить, но искать.
– Ну, вот… – дрогнул голосом Сократ. – Его считали моим учеником, хотя он каждым словом своим, каждым жестом опровергал все, что я… наговорил тут в эти годы, и в то же время… я не могу не скорбеть об этом блистательном метеоре, пронесшимся в ночи над Аттикой. Таков непоследовательный человек. Да, он сделал людям много вреда. Да, не было ничего такого, чего он ни принес бы в жертву себе, своей жажде власти, славы. И все же, если бы Алкивиада не было, жизнь нашего времени многое потеряла бы в своей…
Голос его опять дрогнул, он оборвал, обвел глазами взволнованные лица своих учеников и замолчал. Над ними сиял Акрополь. Вокруг новой, тревожной, неуверенной в завтрашнем дне жизнью шумел город…
– Что же ты думаешь делать дальше? – спросил Сократ Дориона.
– Не знаю… – пожал тот плечами. – Вероятно, вернусь в Милос. Дрозис оставила мне свой дом, и мы сговорились с Атеистом поселиться вместе в нем. Не все ли равно, где жить?..
Но его же сердце сказало: нет «не все равно. Там стоит в саду Афродита-Дрозис, там неподалеку среди строгих кипарисов тихо спит и сама Дрозис… Это все, что осталось…»
Феник, немного похудевший от перенесенных политических потрясений, был тихо доволен вестью о гибели буйного и совершенно безнравственного племянника, а потом и его друга, Алкивиада, столь же буйного и безнравственного. Второй, уходя, очистил для многих путь к возвышению, а в гибели Антикла Феник видел волю бессмертных богов. Он имел дерзость поднять руку на своего дядюшку, который воспитал его, который не жалел для него ничего, даже розог. Ему очень искренно представлялось теперь, что он всей душой пекся о своем племяннике и что тот отблагодарил его самой черной изменой. В душе жирного Феника жил весьма развязный софист с агоры, который легко мог писать, подобно старьевщику Антифону, всякие речи и за, и против людей, но всегда за Феника. Оттого-то и нес богатей Феник так высоко свою круглую голову с упрямым лбом фессалийского быка, с трехэтажным затылком и трехэтажным подбородком, по улицам Афин…
XXXIX. КОРЕНЬ ЗЛА
Афины смутно и беспорядочно баламутились, как рой, поднятый из сытого и теплого улья глупым мальчишкой, который, дурачась, бросил в него камнем. Из взвихренных толп народных то и дело поднимались всякие заботники, – самая странная и опасная порода людей – которые хотели наладить жизнь народа, ибо они, по их мнению, лучше других знали, как это делается. Одни – очень немногие – из этих опасных людей были бескорыстные чудаки, которые почти всегда за свои заботы получали в награду плаху, но огромное большинство были самые отъявленные прохвосты, которые прежде всего хотели вознестись, захватить власть, золото и пресловутую «славу», то есть крики черни на агоре.
Теперь за устройство Афин взялись олигархи с Тераменосом во главе. Среди возвратившихся изгнанников первую скрипку играл настырный Критий, родственник Платона и давний приятель Алкивиада, который вместе с ним в пьяном виде опрокидывал тогда в ночи гермы по Афинам. Одно время он был близок и к Сократу, у которого он научился не столько думать, сколько прославленной эристике, то есть искусству спорить и вообще болтать о чем угодно и сколько угодно. Он писал элегии, трагедии, речи и статьи о государственном устройстве. В своем «Сизифе», пьесе, он выступил и против богов, уверяя, что религиозные верования это только выдумки ловкачей, живших в старину. Пьеса его была запрещена и потому ходила тайно по рукам во множестве списков. Его Афины то выгоняли вон, то призывали опять. В изгнании он принял участие в устройстве восстания рабов в Фессалии. Это расходилось с его олигархической карьерой в Афинах, но вполне согласовалось с его натурой и аппетитами. Теперь он возвратился домой, полный ненависти к «сволочи», которая разрушила, по его мнению, могущество Афин и изгнала его, и выступил с проповедью: демос должен быть задушен без всякой пощады. И так как он обладал чрезвычайной развязностью и вполне надежной глоткой, то скоро он стал во главе всего дела… если это было дело.
Но демократы не сдавались: всякому кушать хочется и по возможности «хлеб измаслом». Когда стены в Пирей были срыты, все верховоды демократии были арестованы и в Пирее был назначен над ними суд. Лизандер по этому случаю прибыл с Самоса в Пирей со своими триерами и заявил: так как афиняне не успели снести стен в установленный срок, он считает мирный договор нарушенным. Афины могут избежать ответственности за это только изменением формы правления. Учредили поэтому правление тридцати. Афиняне пробовали всякие цифры: и четыреста, и пять тысяч, и десять и тридцать – ничего не получалось, но каждая последняя цифра обещала во всяком случае на первые дни хотя что-то новенькое. Так случилось и на этот раз: тридцать начали перекладывать кирпичики в государственном здании – или, точнее, в государственных развалинах – с одного места на другое, а попутно производить ту «чистку», которая долгие века спустя была с таким удовольствием перенята и другими народами или, точнее, их правителями для своих целей. Эти тридцать прогнали политиков-профессионалов – что было бы весьма похвально, если бы они сами не были такими профессионалами по устройству чужих дел, – и учителей всякой болтовни. Сократу тоже была воспрещена всякая публичная проповедь, несмотря даже на то, что среди правителей были два его приятеля: Критиас и Хармидес, оба родственники Платона, который обоих очень любил. Вопреки сопротивлению миротворца Тераменоса, они выпросили у Лизандера дать Афинам спартанский гарнизон в семьсот человек. Начальник гарнизона устроился в Акрополе. Это был глазок Лизандера не только над Афинами, но и над самыми олигархами. Бдительность Афины Промахос была, очевидно, признана недостаточной.
Началась борьба между Критиасом и Тераменосом. Тераменос стал искать помощи повсюду. Критиас с помощью спартанского гарнизона разоружил сторонников Тераменоса. Тираны – так уже звали теперь этих тридцати правителей – конфисковали имущество направо и налево и предавали смерти всех им неугодных. В несколько месяцев число их жертв поднялось до полутора тысяч и среди них оказался и сын неудачливого полководца Никия. Сократ недоумевал вслух: «Не странно ли, когда у пастуха стадо уменьшается, его считают негодным, но правители, у которых почему-то убывает население, продолжают считать себя вполне годными для дела.» Тираны призвали его и сделали ему строгое внушение: «Держи, старче, язык за зубами, а то стадо, пожалуй, уменьшится еще на одну голову…»
Тераменос продолжал протестовать. Критиас именем тридцати приговорил его к смерти. Вождь умеренных и благоразумных умер с шуткой на устах, подняв чашу смерти «за здоровье милого Критиаса». Началось массовое бегство афинян всех возрастов и состояний во все стороны. Тираны приговорили к изгнанию Тразибула. Спарта издала повеление, чтобы города под страхом большой ответственности – вот она, свобода-то!.. – выдавали афинских беженцев, но не все пожелали подчиниться этому: не подчинился не только самовольный Аргос, но даже и Фивы, ненавидевшие Афины. Именно в Фивах Тразибул и нашел приют. И – помощь: Фивам стало казаться, что Спарта слишком уж поднимает нос, и они, во имя свободы, не прочь были немножко сократить Спарту, поддержав Афины.
Лео, богатый демократ, от преследований олигархов бежал на Саламин. Сократу – его подлавливали – и еще четверым афинянам было приказано привести его в Афины. Старик молча выслушал повеление и – отправился домой. Ксантиппа ворчала: нельзя же так сходить с ума на старости лет – надо слушаться начальства! Но разговоры с Дорионом – он вернулся уже на Милос – как-то укрепили Сократа в том, что он чувствовал и до Дориона, в том, что за пестрой суетой мира есть Нечто, безмолвно говорящее душе человека. Это был не его старый демонион, удерживавший его от неправильных поступков, это был другой голос, повелевавший без слов и без строгости делание … Тираны не решались ударить по дерзкому старичишке, но недоумевая разводили руками: то проповедовал старый болтун повиновение законам, а то не угодно ли?! И они придумывали, как бы лучше ущемить его…
В декабре, когда по равнинам и среди гор Аттики свирепствовал Аквилон и даже дикие животные попрятались от холода, Фразибул ввел тайно в Аттику семьдесят человек и захватил Филы, недоступную позицию на склоне горы Парнес, неподалеку от Декелеи. Тираны подняли на ноги три тысячи граждан, которых они сделали своей охраной. Те осадили Филы, но глубокие снега и метели не позволяли им ничего сделать. К Фразибулу тем временем подошло до семисот человек подкреплений. Для продовольствия его отряда нужно было грабить окрестности. Тираны выставили между Филами и соседней Ахарнеей спартанский гарнизон Афин и свою кавалерию. Фразибул после мучительного ночного марша неожиданно напал на них и обратил всех в бегство. Тираны попробовали подкупить Фразибула, но дело не клюнуло. Их охватила такая паника, что они забыли даже Сократа.
Они выбрали себе для резиденции Элевзис – на тот случай, если в Афинах им станет слишком уж жарко. Чтобы запутать свою охрану – три тысячи – они приказали ей вырезать все мужское население Элевзиса. Из Афин они выселили в Пирей до пяти тысяч граждан, не принадлежавших к привилегированному сословию. Мероприятие это было чрезвычайно удачно: оно разом усилило армию Фразибула, которая в числе уже тысячи двинулась на Пирей и при полном сочувствии населения заняла Муникию. Критиас двинул против них своих гоплитов, но они были встречены густым градом камней и черепицы, Фразибул без труда разбил их, а Критиас и Хармидес, родственники Платона и бывшие приятели Сократа, в свалке были убиты. Так после восьми месяцев всякой кровавой канители было покончено и с цифрой 30, которая дала так же мало, – а если угодно, то так же много – как и всякие другие цифры.
Три тысячи разрешили тиранам удалиться в Элевзис и избрали на их место новую цифру, 10: может быть, они все были пифагорейцами и верили, что в начале всего было число. Зная, что за ними стоит Спарта, десять крепко взяли власть в свои руки. Три тысячи продолжали оставаться гвардией и у них, для охраны их прав и преимуществ. Началась потасовка между Афинами и Пиреем, которая тянулась долгие месяцы. Спарта не вмешивалась, придерживаясь явно персидской политики: пусть потешатся. Пирей получал беспрерывные подкрепления и из Афин, и со стороны, и брал верх. И десять из Афин, и тридцать из Элевзиса обратились к Спарте. Лизандр дал им сто талантов и стал собирать силу против афинских демократов. Он занял Элевзис, а его брат Лисис осадил с сорока триерами Пирей. Но вдруг в Спарте поднялось движение против Лизандера: его начали подозревать в «замыслах». Новая смена эфоров оказалась ему враждебной. Царь Павзаний взял все дело в свои руки. Это рассердило Коринф и Фивы: они хотели подчинить Аттику совсем не Спарте, а Беотии. Они не последовали за Павзанием и злорадно ждали, чтобы ему насыпали хорошенько.
Начались уговоры Пирея, потом начались стычки, а потом последовало и настоящее сражение, которое закончилось, понятно, разговорами о мире. Пирей добился возвращения беженцев из Афин и восстановления в Афинах старого порядка: архонты, совет пятисот, – эта цифра оказывалась почему-то наиболее привлекательной – агора, гелиэ (суд присяжных) и пр., что раньше… ничего не дало. И затем, как заключительный аккорд, всеобщее прощение в прежних взаимных оскорблениях, – оно не распространялось только на тридцать и на их одиннадцать палачей – которое было подтверждено торжественной клятвой правительственных лиц. Павзаний с армией ушел. Началась склока в Афинах. Для управления и пересмотра законов в связи с ново-старым положением был избран комитет уже не из тридцати и не из десяти, а – грех пополам – из двадцати членов. И началась в свете иллюминации новая перекладка кирпичиков дурацкой пирамиды. Что из этого ничего не выйдет, понимал уже не один Дорион, понимали и другие, но в то время как Дорион пришел к смелому выводу, что надо не перестраивать дурацкую пирамиду, а разрушить ее, другие еще пытались найти лекарства для излечения общественных недугов. И многие показывали при этом довольно большую смелость. Так, Фалеас из Халкедона говорил о необходимости уравнять состояния, о национализации всей промышленности, которую должно вести государство руками рабов, что так блестяще века спустя выполнила потом Москва. Гипподамос предлагал разделить граждан на три класса: промышленных рабочих, крестьян и солдат. Платон тоже очень задумывался над проклятыми вопросами иллюминации и замышлял дела планетарные: он – наивность его была, воистину, беспредельна – замышлял передать управление государством ни много ни мало, как… философам, хотя не указывал, кто же будет определять, философ человек или не философ. Ведь и Антифон говорил, что он философ. Платон же думал и о национализации семейной жизни. Платон же уверял, что искусство внушает вкус к добродетели[33]33
То, что такие наивности говорил Платон, извинительно: то был век молодой и наивный, но когда теперь в книге о Платоне читаешь рассуждения герра профессора на эту тему, что «музыка уравновешивает душевные движения и вызывает в душе особого рода гармонические ощущения, медленно и почти нечувствительно проникающие в ум и формирующие его», то, конечно, разводишь только руками: консерватории наши – это негласные публичные дома, Холливуд своим смрадом отравил весь земной шар.
[Закрыть]. Разрушительная работа времени чувствовалась даже в трагедиях Софокла, а у Еврипида театр стал настоящей ареной для интеллектуальных поединков. Но – воз государственный завяз на месте, и никак не мог никто его сдвинуть. И вдруг у Афин точно пелена с глаз упала: оказалось, что всему виною – Сократ!..