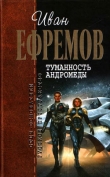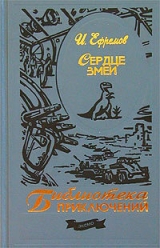
Текст книги "Сердце змеи(изд.1964) "
Автор книги: Иван Ефремов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Он заплатил за нее величайшей для человека ценой, и она его. Пусть уедет невредимым. Верните ему оружие и верблюда.
Чужеземец гордо поклонился хану, и вскоре его белый верблюд скрылся за далеким отрогом Кетменя…
* * *
Иноходец раскачивался под Усольцевым, копыта скользили по камням. Облака быстро бежали по небу, гонимые могучим напором ветра. Закрытые от солнца, горы выглядели суровыми и хмурыми.
Усольцев спешился и нежно погладил иноходца, поцеловал его в мягкую верхнюю губу. Затем оттолкнул голову лошади, хлопнул по крупу. Рыжий конь отошел в сторону и, изогнув шею, смотрел на хозяина.
– Иди пасись, – строго сказал ему Усольцев, чувствуя, как горло сдавливает волнение.
Геолог снял лишнюю одежду, привязал к руке молоток. Он был нужен для забивания зубил на твердом обрыве Белого Рога и потом – если удастся…
Усольцев сбросил ботинки. Острые камни скоро изрежут ему ноги, но он знал: если он влезет, то только босиком. Геолог повесил на грудь мешок с зубилами и двинулся к красному столбу пегматитовой жилы.
Окружающий мир и время перестали существовать. Все физические и духовные силы Усольцева слились в том гибельном для слабых последнем усилии, достигнуть которого не часто дано человеку. Прошло несколько часов. Усольцев, сотрясаемый дрожью напряжения, остановился, прижавшись к отвесной каменной груди утеса. Он находился уже много выше места, откуда повернул направо при первой попытке. От главной жилы отходила тоненькая ветвь мелкозернистого пегматита, пересекавшая склон наискось, поднимаясь вверх и налево. Ее твердый верхний край едва заметно выступал из сланцев, образуя карниз сантиметра в два – три шириной. По этой жилке можно было бы приблизиться к срезу западной грани горы там, где она переламывалась и переходила в обращенный к степи главный северный обрыв Белого Рога. Выше склон становился как будто не столь крут, и была надежда подняться по нему на значительную высоту.
Усольцев предполагал забить в трещинах сланцев выше тонкой жилки несколько зубил и с их помощью удержаться на карнизе.
И вот, прилепившись к стене на высоте ста пятидесяти метров, геолог понял, что не может отнять от скалы на ничтожную долю секунды хотя бы одну руку. Положение оказалось безнадежным: чтобы обойти выступавшее ребро и шагнуть на карниз, нужно было ухватиться за что-то, а вбить зубило он не мог.

Распростертый на скале, геолог с тревогой рассматривал нависший над ним обрыв. В глубине души поднималось отчаяние. И в тот же миг ярко блеснула мысль: “А как же сказочный воин? Ветер… Да, воин поднялся в такой же бурный день…” Усольцев внезапно шагнул в сторону, перебросив тело через выступ ребра, вцепился пальцами в гладкую стену и… качнулся назад. С болью, будто разрываясь, напряглись мышцы живота, чтобы задержать падение. В ту же секунду порыв вырвавшегося из-за ребра ветра мягко толкнул Усольцева в спину. Схваченное смертью тело, получив неожиданную поддержку, выпрямилось и прижалось к стене. Усольцев был на карнизе. Здесь, за ребром, ветер был очень силен. Его мягкая мощь поддерживала геолога. Усольцев почувствовал, что он может двигаться по карнизу жилы, несмотря даже на подъем ее вверх. Он поднялся еще на пятьдесят метров выше, удивляясь тому, что все еще не упал. Ветер бушевал сильнее, давя на грудь горы, и вдруг Усольцев понял, что он может выпрямиться и просто идти по ставшему менее крутым склону. Медленно переставляя окровавленные ступни, Усольцев ощупывал ими кручу и сдвигал в сторону осыпавшуюся вниз разрыхленную корку. Медленно-медленно поднимался он все выше. Ветер ревел и свистел, щебень, скатываясь, шуршал, и Усольцева охватило странное веселье. Он словно парил на высоте, почти не опираясь на скалу, и уверенность в достижении цели придавала ему всё новые силы. Наконец Усольцев уперся в гладкую отвесную стену высокого цоколя. На этом цоколе, все еще на большой высоте, стремился в облака острый конец Рога. Усольцев отметил, что белая масса Рога вблизи казалась испещренной крупными черными пятнами. Но это впечатление сейчас же стерлось радостью при мысли о том, что все его двенадцать зубил сохранились неизрасходованными. Стена примерно на высоту десяти метров была настолько плотна и крута, что никакие силы не помогли бы ему преодолеть это препятствие. Опытный глаз геолога легко находил слабые места каменной брони – трещины кливажа [11]11
Кливаж – система трещин разной величины, пронизывающих породу.
[Закрыть], места соприкосновения различных слоев. Усольцев забивал сюда зубила поглубже. Он взял с собой только самые тонкие и легкие зубила, а достаточно было одному из них сломаться, и…
Поднявшись по зубилам, геолог был вынужден перейти на южную сторону каменной башни. Головы слоев [12]12
Головы слоев – края наклонных слоев, срезанных обрывом или какой-либо поверхностью.
[Закрыть]образовывали небольшие уступы – возможность дальнейшего подъема. Здесь ветер, бывший до того верным союзником, стал опасным врагом. Только прикрытие скалы спасло Усольцева от падения под ударами ветра. Несколько раз геолог срывался с осыпавшихся выступов и долго висел на руках, обливаясь холодным потом и судорожно нащупывая пальцами ног опору. Все большее число смертоносных метров подъема уходило вниз. Наконец Усольцев в последних отчаянных усилиях, дважды соскальзывая и дважды мысленно прощаясь с жизнью, сумел опять переброситься на западную сторону вершины и, вновь подхваченный ветром, уцепился за края площадки у основания Рога. Не думая о победе, без мыслей, словно оглушенный, он подтянулся на руках и повалился на наклонную внутрь ровную поверхность величиной с небольшой стол. Он долго лежал, изнуренный многими часами смертельной борьбы, слыша только однообразный резкий вой ветра, разрезаемого острым лезвием Рога. Потом в сознание вошли низко летящие над вершиной облака. Усольцев поднялся на колени, повернувшись лицом к загадочной белой породе. Она была теперь перед ним, упиралась в его плечо, вздымалась еще на несколько метров вверх. Ее можно было ощупать рукой, отбить сколько угодно образцов.
Достаточно было одного взгляда, чтобы распознать в белой породе грейзен – измененный высокотемпературными процессами гранит, переполненный оловянным камнем – касситеритом. В чисто белой массе беспорядочно мешались серебряные листочки мусковита [13]13
Мусковит – белая слюда.
[Закрыть], жирно блестящие топазы, похожие на черных пауков “солнца” турмалинов и – главная цель его предприятия – большие, массивные бурые кристаллы касситерита. Этот грейзен обладал особенностью, ранее незнакомой Усольцеву: от самого гранита почти ничего не осталось, его место занял молочно-белый кварц, очень плотный и крепкий.
“Похоже на полностью измененную пластовую интрузию [14]14
Пластовая интрузия – вторжение расплавленной лавы между слоями осадочных пород. После остывания сама изверженная порода залегает в виде пласта.
[Закрыть], – подумал Усольцев. – Если это так, то месторождение, скрытое под степью, внизу, может быть огромным”.
Геолог взглянул вниз. Гора спадала круто и внезапно; основание ее тонуло в клубящейся пелене поднятой ветром пыли. Усольцев стоял как бы на неимоверно высоком столбе, ощущая беспредельное одиночество. Ему казалось, что между ним и миром там, внизу, оборвалась всякая связь. И действительно, между ним и жизнью лежала еще не пройденная смертная грань; спуск был опаснее подъема. И еще он подумал о том, что если ему суждено будет вернуться в жизнь, он вернется другим – не прежним. Сверхъестественное напряжение, вложенное им в достижение цели, как-то изменило его душу.
С усилием отбросив эти мысли, Усольцев принялся выполнять долг исследователя. Много труда стоило ему обнаружить тонкие, как ниточки, трещины в стекловидной слитности кварца. Вслед за этим под настойчивыми ударами молотка вниз с грохотом полетели крупные куски белой породы. Усольцев внимательно следил за их падением: они подскакивали на гранях горы и, свистя, летели в долину. Геолог отметил места их падения на плане, набросанном в записной книжке, затем аккуратно записал элементы залегания пород вершины, начертил контур предполагаемого месторождения и прибавил несколько слов о направлении поисков.
Он открыл первую страничку и поперек нее крупно и четко написал: “Внимание! Здесь данные об открытом мною месторождении Белого Рога”, положил книжку в карман и застегнул пуговицу. На секунду мелькнула картина: как поворачивают его размозженный труп, ищут в карманах документы… Усольцев невольно зажмурился, размотал взятую с собой веревку. Она была коротка, но все же ее должно было хватить на спуск по отвесному основанию Рога до вбитых им зубил.
“Где же закрепить веревку? Вот за этот выступ? Выгоднее бы пониже, на самой площадке…”
В поисках трещины геолог начал разрывать молотком тонкий слой щебня. Ветер выл все сильнее, подхваченные им осколки щебня ударяли по лицу и рукам Усольцева. Молоток вдруг звякнул о металл, и этот тихий звук потряс геолога. Усольцев вытащил из-под щебня длинный тяжелый меч, золотая рукоять которого ярко заблестела. Истлевшие лохмотья развевались вокруг ножен. Усольцев оцепенел. Образ воина – победителя Белого Рога из народной легенды – встал перед ним как живой. Тень прошлого, ощущение подлинного бессмертия достижений человека вначале ошеломили Усольцева. Немного спустя геолог почувствовал, как новые силы вливаются в его усталое тело. Будто здесь, на этой не доступной никому высоте, к нему обратился друг со словами ободрения. Усольцев накинул веревочную петлю на небольшой выступ белой породы. Осторожно поднял драгоценный меч, крепко привязал его за спину и, улыбаясь, положил на площадку свой геологический молоток…
У основания отвесного фундамента Белого Рога геолог остановился, выбирая путь. Прямо на Усольцева, гонимое ветром, двигалось облако. В полете огромной белой массы, свободно висевшей в воздухе, было что-то неизъяснимо вольное, смелое. Страстная вера в свои силы овладела Усольцевым. Он подставил грудь ветру, широко раскинул руки и принялся быстро спускаться по склону, стоя, держа равновесие только с помощью ветра, в легкой радости полета. И ветер не обманул человека: с ревом и свистом он поддерживал его, а тот, переступая босыми ногами, пятная склон кровью, спускался все ниже. С бредовой невероятной легкостью Усольцев достиг узкого карниза, миновал и его. Тут ветер угас, задержанный выступом соседней вершины, и снова началась отчаянная борьба. Усольцев скользил по склону, раздирая тело, кроша ногти, переворачивался, задерживался, снова сползал. Сознание окружающего исчезло совсем, осталось только ощущение необходимости цепляться изо всех сил за каждый выступ каменной стены, судорожно искать под собой ускользающие точки опоры, с жуткой обреченностью прижиматься к камню, борясь с отрывающей от горы, беспощадно тянущей вниз силой. Никогда позже Усольцев не мог вспомнить конец своего спуска с Белого Рога. В памяти сохранился только самый последний момент. Больше не осталось ни сил, ни воли. Усольцев коснулся ногами острого выступа камня, качнулся назад, отпустил изодранные руки и полетел вниз…
* * *
…Он открыл глаза и увидел над собой золотое утреннее небо. В небе, совсем низко, так, что виднелись растопыренные перья крыльев, кружил большой гриф.
Усольцев долго смотрел на птицу, прежде чем сообразил, что гриф спустился на этот раз прямо к нему. Нет! Он не только не погиб – он победил Белый Рог, и гриф не властен над ним.
Усольцев попытался сесть. Что-то мешало ему. Геолог нащупал привязанный за спиной меч, освободился от него и сел. И сразу ему вспомнились переживания вчерашнего дня. У него закружилась голова. С ужасом увидел Усольцев свои обезображенные, почерневшие от крови ноги и руки, изодранную и перепачканную кровью одежду. Сделав несколько движений, он убедился, что кости целы. Тогда, не обращая внимания на рвущую боль в ступнях, геолог встал. Он услышал приветливое ржание своего копя и снова погрузился во мрак.
…Холодная вода лилась на лоб, попадала в рот. Усольцев глотал без конца, утоляя ненасытную жажду. Открыв глаза, он снова увидел над собой голубой небосвод, на этот раз уже дышавший дневным жаром, и испуганное лицо старого уйгура. Геолог поднялся на колени. Уйгур отступил от него с почтительным страхом.
– Чего ты боишься, Арслан? Я живой.
– Где ты был, начальник? – спросил Арслан.
– Там! – Усольцев поднял руку к небу. Над долиной торчал черный с теневой стороны выступ Ак-Мюнгуза. – Вот, смотри! – Он протянул уйгуру меч с золотой рукояткой.
Половина ножен отвалилась при спуске, из-под растрескавшейся бурой корки блестела драгоценная голубая сталь – сталь легендарных персидских оружейников, секрет изготовления которой ныне утрачен.
Старик опустился на колени, не притрагиваясь к мечу.
– Что же ты? Бери, смотри, – повторил геолог.
– Нет, – затряс головой уйгур, – никакой человек не смеет брать такой шемшир, только батуры, как ты…
* * *
Два больших шарообразных карагача, веером расходясь из одного корня, стояли на краю поселка. За ними поднимался затянутый голубой дымкой вал Кетменского хребта. Иноходец Усольцева миновал последний поросший полынью холм. Узенькая степная тропа влилась в мягкую пыль наезженной дороги. Дорога поворачивала налево и у края зеленых садов соединялась с другой, направлявшейся на юг мимо промоин и обрывов красных глин. Над ней вздымалось облачко желтой пыли – крытая циновкой подвода катилась из Подгорного. Кто-то ехавший по краю дороги верхом вдруг повернул коня и понесся обратно, наперерез Усольцеву. Геолог натянул поводья. К нему подъехала Вера Борисовна.
– Я вас узнала издалека. – Она внимательно присматривалась к нему. – Куда вы едете?
– Я еду в управление. Нужно немедленно организовать тяжелую разведку Белого Рога.
Усольцев впервые смотрел на нее спокойно и смело.
– Я поняла, что совсем не знаю вас… – негромко сказала Вера Борисовна, сдерживая пляшущую лошадь. – Я видела вашего Арслана… – Она помолчала. – Когда встретимся осенью в управлении, я буду очень просить вас подробно рассказать о Белом Роге… и золотом мече… Ну, мои уже далеко. – Она поглядела вслед подводе. – До свидания… батур!
Молодая женщина пришпорила коня и умчалась. Геолог проводил ее взглядом, тронул иноходца и въехал в поселок.


БУХТА РАДУЖНЫХ СТРУЙ
Покинув библиотеку, профессор Кондрашев поднялся на следующий этаж и направился в свою лабораторию. Длинный коридор со множеством белых дверей по обеим сторонам был полуосвещен и тих. Лишь несколько сотрудников задержались, оканчивая срочную работу.
Профессор прошел к столу, втиснутому между двумя химическими стойками, и устало опустился в кресло. Газовые горелки едва слышно шипели, колба и стаканы сияли химической чистотой, наводящей трепет на непосвященных. Безупречность помещения, приспособленного к размышлениям и опытам, успокаивала, и горьковатый осадок в душе профессора исчез. Он еще раз мысленно перебрал основные положения своей последней опубликованной книги, стараясь беспристрастно оценить сделанные ему критические замечания.
В этой книге профессор Кондрашев отстаивал необходимость широкого изучения скрытых свойств различных растений, в особенности древних форм растений, являющихся пережитками, реликтами еще более древних эпох существования Земли. Подобные растения, живущие сейчас в тропических и субтропических странах, могут оказаться носителями очень важных и ценных свойств, выработавшихся в приспособлении к иным условиям существования десятки миллионов лет назад. В качестве примера профессор приводил растения, обладающие очень ценной древесиной и являющиеся пережитками древнетретичной эпохи (шестьдесят миллионов лет назад): у нас, в Закавказье, – самшит и “железняк”, в южных странах – тик, гринхирт, черное африканское дерево, японское гингко с его еще не изученными целебными свойствами, существовавшее более ста миллионов лет назад.
Эта работа профессора Кондрашева подвергалась резкой критике со стороны авторитетных ученых, и сейчас в угрюмом молчании профессор признался себе, что его критики во многом правы. Положения работы основывались больше на горячем убеждении, а фактического материала, требуемого железными законами научного мышления, увы, было маловато.
В то же время профессор Кондрашев был уверен в правильности своих положений. Да, больше убедительных фактов… Вот если бы иметь в руках доказательства действительного существования “дерева жизни” средних веков! В шестнадцатом и даже в семнадцатом веках еще было известно это дерево, обладавшее чудесными, необъяснимыми свойствами. Чаши или бокалы, сделанные из него, превращали налитую в них воду в чудесный голубой или огненно-золотистый напиток, излечивающий многие болезни. Происхождение этого дерева и вид растения оставались неясными. Тайной дерева владели иезуиты, дарившие волшебные деревянные чаши королям, добиваясь от них пожертвований и привилегий.
Дерево это в старинных сочинениях Монардеса, изданных в Севилье в 1754 году, а также у Атаназиуса Кирхериуса называется по-латыни “лигнум вите” или “лигнум нефритикум”, что по-русски значит “дерево жизни” или “почечное дерево”.
По одним сведениям, оно происходило из Мексики, по другим – с Филиппинских островов. Действительно, у ацтеков было известно чудесное целебное дерево, под названием “коатль” (“змеиная вода”). Профессор вспомнил опубликованные опыты с чашей из почечного дерева, проделанные знаменитым Бойлем, описавшим явления голубого свечения налитой в чашу воды и тогда же отметившим, что это не краска, а какое-то еще необъяснимое физическое явление.
– Можно, Константин Аркадьевич? – раздался знакомый женский голос, и в двери мелькнули светлые кудряшки и вздернутый носик Жени Пановой.
Способный научный работник и в то же время хорошенькая женщина, Панова имела успех не только у молодежи, но и у более почтенных по возрасту сотрудников института. Профессор Кондрашев, сам не зная, по каким обстоятельствам, пользовался ее особой симпатией.
– Послушайте, дорогой Константин Аркадьевич, не огорчайтесь… Я знаю, чем вы опечалены… Но, мне кажется, вы слишком обгоняете тот уровень науки, который определяется наличным фактическим материалом.
– Я знаю сам, что нетерпелив! – буркнул Кондрашев, слегка задетый замечанием и недовольный вмешательством. – Вы-то можете ждать, по мне уже маловато времени осталось. А чудес, внезапных открытий в мире не бывает. Только один медленный труд познавания, подчас тоскливый…
Желая переменить разговор, Панова вытащила из сумочки два билета.
– Константин Аркадьевич, поедемте в филармонию. Там сегодня Чайковский – моя любимая “Березка”. Вы ее тоже любите. А Сергей Семенович нас подвезет, он сейчас едет. Я и побежала за вами… – Она дружески улыбнулась.
В девять часов они были в филармонии. Скрипки пели о русской беспредельной природе, о покое медленных и широких рек, обрамленных темными лесами, под низко стелющимися хмурыми облаками, о трепетании свежей, как радостное обещание, зелени стройных берез… И Кондрашев, смирившись в своем нетерпении, думал о неотвратимой безудержности знания, которое все шире и дальше распространяется по бескрайним равнинам неизвестного, захватывая все большие массы людей…
– Я всегда убегаю слушать музыку, если на душе нелегко, – шепнула Панова.
Профессор улыбнулся и уже с удовольствием посмотрел на нее. В антракте, когда они шли по коридору, из встречного потока людей выделился загорелый человек в морской форме. Кондрашев заметил необычный загар его энергичного лица и весело блестевшие глаза. Моряк – вернее, морской летчик, судя по крыльям, нашитым на его рукаве, – увидев Панову, мгновенно очутился перед ними, восклицая:
– Женя, Женя!
Девушка вспыхнула и рванулась к нему, но тут же сдержалась, подала ему обе руки:
– Борис! Откуда ты взялся?
Профессор почувствовал себя лишним и направился в курительную. Он успел докурить папиросу, прежде чем Панова с летчиком разыскали его.
– Познакомьтесь. Это Борис Андреевич, мой большой, большой друг. И знаете, Константин Аркадьевич, он летал очень далеко, только что вернулся и видел нечто необычайное. Как бы чудо, которое вы сегодня отрицали, действительно не случилось… Но это замечательно – разыскать меня здесь!.. Всего три часа, как приехал… – торопясь и несколько бессвязно говорила девушка.
Профессор с удовольствием пожал руку моряку, приятный вид которого… да, он безусловно производил приятное впечатление.
Они обменялись обычными при первом знакомстве незначительными словами, но девушка нетерпеливо перебила:
– Борис, вы не понимаете… если есть у нас хоть один человек, который может объяснить ваше необыкновенное открытие, то это только Константин Аркадьевич!
Все трое оказались у профессора на квартире, и здесь летчик подробно и обстоятельно рассказал о своем путешествии. Уже начало рассказа заставило профессора радостно насторожиться.
Всего два с половиной месяца назад молодой, но уже занимающий крупный командный пост морской летчик Борис Андреевич Сергиевский получил очень важное задание. Позднее, когда станет возможным предать огласке то, что мы сейчас должны хранить в тайне, подобные предприятия войдут в историю как примеры беззаветного мужества исполнителей и мудрой дальновидности руководства.
Борис Андреевич был назначен в дальний беспосадочный полет для доставки ценного груза, от скорости прибытия которого зависело многое в сложных судьбах войны с фашистами.
Мутный день соответствовал унылой картине окружающего. Низенькие дома поселка терялись среди больших темных елей. Повсюду, торчали свежеспиленные пни. Беспросветные облака застилали все кругом и, осаждаясь, расплывались у самых верхушек леса редкими бесформенными клочьями. Остро пахло лесной прелью, под ногами хлюпала размокшая болотистая почва и с неприятной бесшумной податливостью оседал толстый слой мха. Шаги приобретали четкость лишь на грязно-серой ленте бетонной дорожки, испещренной там и сям радужными кольцами масляных пятен.
Сергиевский с радостью окинул взглядом свою машину, уже вырулившую на старт. Самолет был высотный, пассажирского типа, по бокам его толстого фюзеляжа виднелись небольшие окна. Спереди фюзеляж заканчивался сплошным металлическим конусом, в верхней части перерезанным застекленной полосой. Длинные приподнятые крылья несли каждое по два мотора, защищенных широкими кольцами полированного дюраля. Их трехлопастные винты медленно вращались. Позади резко выделялся очень высокий руль. В своем обнаженном серебряном сверкании самолет был вызывающе красив, подобный дерзкому альбатросу.
Командование аэродрома явилось на проводы. Сергиевский оглянулся на торжественные и серьезные лица провожающих и с улыбкой посмотрел на часы. Все было готово. Последние, такие жадные затяжки – и папироса полетела в лужу. Сергиевский решительно подошел к самолету.
Тревожное напряжение долгой и тщательной подготовки отошло, настало время действовать. Облегченно вздохнув, летчик бросил взгляд на хмурое небо. Там, за тучами, на огромной высоте, на которой он поведет своего альбатроса, сияет яркое летнее солнце…
Несколько четких команд, и герметические двери захлопнулись, мягко зашипел проверяемый радистом кран уравнителя воздушного давления, затем все потонуло в оглушительном реве тысячесильных моторов.
Двадцатитонный серебряный альбатрос легко оторвался от земли, повинуясь едва заметному движению руки пилота, и почти мгновенно исчез в непроницаемой, облачной мгле. Гирогоризонт в матовой серой панели автопилота показал крутой наклон; стрелки альтиметров неуклонно ползли вверх. Застилавший окна туман вдруг начал розоветь, перешел в палевую дымку, и наконец голубой яркий свет хлынул через наклонные стекла. Пробитая толща облаков осталась под самолетом. Верхушки хаотических нагромождений облаков по белизне не уступали горному снегу, глубокие впадины и провалы тускло серели. На высоте семи тысяч метров Сергиевский лег на курс, перевел моторы на крейсерские обороты и включил автопилот.
Второй летчик, Емельянов, занимавший правое сиденье, снял наушники и, хмуря высокий залысый лоб, пытался ослабить слишком тугую пружину. Сидевший позади Емельянова штурман неторопливо шелестел справочником.
Сергиевский откинулся в мягком кресле, изредка взглядывая на приборы. Перед самолетом лежали тысячи миль пути над океаном, прежде чем снова ляжет под его крыльями чужая, но гостеприимная земля. Часы над просветом центрального стекла показывали восемь. Еще полчаса, и начнется опасный район. Там, в синеве безмятежного неба, рыскают немецкие воздушные хищники. Хотя высотный альбатрос и был оборудован четырьмя пулеметами, все же встреча с проворными “мессерами” представляла грозную опасность…
Сергиевский думал не о себе, а о драгоценном грузе, лежавшем за его спиной в кабине. Между тем товарищи Сергиевского спокойно занимались своими обязанностями, не разговаривая и даже не обмениваясь жестами. Все словно молчаливо условились, что до того, как опасный район останется позади, рассуждать, собственно, не о чем. Наиболее озабоченный вид был у механика, сосредоточенно следившего за бесчисленными стрелками своих приборов.
Серебряный альбатрос несся с огромной скоростью. Успокоительно и ровно гудели моторы. Толстый слой облаков по-прежнему висел между землей и самолетом. Изредка в нем темнели глубокие провалы с рваными краями. В них мелькала далекая и безразличная к людям в самолете земля, с высоты полета казавшаяся плоским темным полем без всяких подробностей.
Так прошел час, кончался второй. Самолет находился уже глубоко внутри опасного района, размеры которого были, увы, слишком велики. Стрелки до боли в глазах вглядывались в чистую синь неба и белизну облаков. В двадцать минут одиннадцатого Сергиевский резко выпрямился в кресле, твердо сжав штурвал:
– Внимание! Три неприятельских самолета!
Далеко впереди, перед кудрявившимся белым облачным скатом, возникли три маленькие черные черточки. Властная воля к борьбе соединила в одно целое маленькую группу людей, наглухо замкнутых в просторной кабине. Емельянов, смотревший в бинокль, вдруг громко и презрительно сказал:
– Эти нам не страшны, Борис!
Снова тысячи сил и тысячи оборотов сотрясли самолет. Метнулась направо стрелка указателя скорости подъема, спидометр качнулся налево. Самолеты врага приблизились, расходясь в стороны. Сергиевский наконец прекратил подъем, и машина устремилась вперед с прежней скоростью, оставив внизу мрачных преследователей, напрасно пытавшихся достичь ее потолка.
Белая равнина облаков, сгладившаяся и оставшаяся далеко внизу, разорвалась на гигантские пухлые куски. Под ними тусклым оловянным листом лежало море, а налево такой же, только более темного оттенка, полосой с причудливыми вырезами виднелась земля.
Все дальше и дальше уходил самолет, пересекая опасную зону. Курс был изменен. Взяв к югу, Сергиевский увеличил скорость. Еще немного – и самолет углубится в океан, оставил за собой район действий противника. Беспредельная гладь океана как бы остановила летящий самолет своим подавляющим однообразием. Волны с семикилометровой высоты не были заметны, матовая блестящая поверхность воды казалась выпуклой. Впереди виднелся облачный фронт, суливший перемену в спокойной обстановке полета. Однако перемена наступила раньше.
Число пройденных километров перевалило за три тысячи, когда в воздухе снова возникли угрожающие черные точки, а далеко-далеко внизу показались крошечные силуэты военных судов. Два вражеских самолета, задрав носы, начали набирать высоту, а третий держался поодаль впереди, у изогнутого края плотного длинного облака. Время словно прекратило свой размеренный бег.
Все последовавшее произошло как бы в одну секунду невероятного напряжения. Тупые хлопки пулеметных очередей, хлеставших самолет поперек фюзеляжа, едва донеслись сквозь шум моторов. Сергиевский наклонил машину и резко бросил ее влево. Одновременно заревели пулеметы обеих турелей. Еще поворот – на миг в окне мелькнул “мессершмитт”, углом падающий вниз; затем альбатрос понесся с нарастающим ревом вниз в пологом пике, быстро сближаясь с третьим вражеским самолетом. Снова взревели пулеметы – мимо лица Сергиевского пролетело что-то горячее, брызнули во все стороны осколки, и альбатрос нырнул в густую белесую мглу.
Сергиевский почувствовал почти твердую струю холодного воздуха, бившую в лицо, и понял, что в носу кабины пробоина. Самолет продолжал мчаться в непроницаемом облаке; моторы по-прежнему тянули свою победную песнь. Вот, вызывая тревогу, блеснул яркий солнечный свет, но навстречу снова надвигалась облачная стена. Еще и еще вспыхивало и исчезало сияние солнца, пока самолет окончательно не зарылся в глубь многокилометровой толщи облаков, шедших с запада высоко над океаном. Ровный полет сменился ныряющим потряхиванием: воздух был неспокоен и словно старался сбросить многотонную тяжесть корабля.
Сжавшееся от напряжения тело Сергиевского ослабевало. Он выровнял самолет, бросил взгляд на гирокомпас и застыл от изумления: вся верхняя часть стойки с приборами представляла собой нагромождение истерзанного металла. Сергиевский обернулся. Поток бронебойных и разрывных пуль, разбив переднюю часть кабины, пронесся, видимо, дальше – между пилотами – и ударил в основание стойки турели, где была смонтирована радиоустановка. Радист лежал на разбитом аппарате, прижав руку к щеке. Механик, не обращая внимания на выступившую на плече кровь, с сосредоточенным видом тушил слабо горевшие обломки, а второй пилот Емельянов хмуро ощупывал руку сквозь разодранный рукав комбинезона. Уже стучало в ушах и не хватало дыхания – давление в пробитой кабине упало, сравнявшись с разреженным высотным воздухом, и без кислородных аппаратов долго удержаться на этой высоте было нельзя.
Пока товарищи забивали широкую пробоину в носу самолета и перевязывали раненых, Сергиевский, убедившись, что толщина облаков достигает такой высоты, на которой самолет с пробитой кабиной держаться не может, начал снижаться.
Положение самолета было тяжелым вследствие гибели основных ведущих приборов и повреждения радиоустановки. Без солнца лететь над лишенным ориентиров океаном было почти все равно, что лететь слепым полетом. Пока налаживали уцелевший магнитный компас, Сергиевский мечтал о птичьем чувстве направления. Каким особым чутьем руководятся птицы при своих долгих полетах в дождь и туман над морем? Выработается ли это чувство у человека, тоже ставшего птицей?
Магнитный компас, несмотря на очевидно изменившуюся после такого сотрясения и смещения девиацию, все же давал, хотя бы в пределах четверти горизонта, ту линию направления, без которой самое совершенное искусство слепого полета становится опасной и неверной игрой…
Вокруг темнело. Начинался шторм. Вот по окнам заструилась вода; потоки ее хлестали по самолету, легкая пена тумана уступила место мутной, серой водяной пелене. Емельянов со штурманом, отчаявшись привести в порядок радиоустановку, принялись извлекать и налаживать аварийную. Механик, балансируя на правом кресле, пытался исправить не работавшие, но уцелевшие приборы.