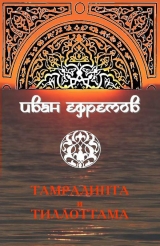
Текст книги "Тамралипта и Тиллоттама"
Автор книги: Иван Ефремов
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Очнувшись, Тамралипта никак не мог осознать окружающее, ощутить себя живым. Сначала ему показалось, что он потерял все пять чувств, но вскоре убедился, что осязание, во всяком случае, сохранилось. Хриплые отрывистые звуки собственной речи убедили его в том, что он слышит, запах сырой глины показал, что есть и обоняние. Но зрение ничем не могло доказать своего существования – настолько глубок был мрак в подземной темнице. Художник принялся обследовать камеру. Потребовалось немало времени, чтобы определить форму камеры – лежащее яйцо с тщательно выглаженными стенами. В центре углубления был сток – узкий колодец, пробитый на неизвестную глубину. По-видимому, с другой, верхней стороны яйца, существовала вентиляционная труба, потому что воздух в камере был достаточно свеж и лишен запаха. Где-то во мраке он натолкнулся на новую циновку и долго ползал по полу, пока не нашел место, где было можно лежать, не скатываясь к центру. По запаху глины Тамралипта отыскал отверстие для пищи и на первый раз пролил почти всю воду и половину жидкой каши из цзамбы, пока втаскивал внутрь через изогнутый проход чашку и низкий медный чайник. Прежде чем поставить посуду обратно на полку, художник проделал несколько упражнений, пока не научился проносить сосуды без наклона. Никогда еще он не обходился столь малым количеством предметов и пищи – циновка была его единственной вещью, а маленький кувшин воды и чашка жидкой каши составляли весь суточный рацион. Вспышки животного страха повторялись не раз, но Тамралипта научился справляться с ними, и они становились все короче и короче. Другим мучением художника сделались звуковые галлюцинации. То он просыпался и вскакивал в надежде и тревоге, услышав в полузабытьи чьи-то голоса. То окликали из мрака самые разные люди его прошлого, то чудились отдаленные призывы о помощи, казалось, проникавшие в толщу каменных стен, и он прислушивался к ним в дикой тревоге, что монастырь горит, и он будет погребен под пеплом пожарища. В конце концов его измучила музыка, звучавшая тихими песнями или перебором струн вины из отдаленного конца темницы. Постепенно музыка становилась все громче – целый оркестр играл где-то вверху под сводом подземелья, не давая узнику ни минуты покоя. Музыка прекращалась, когда художник кричал что-нибудь, говорил или принимался петь. Но странен был звук собственного голоса, и он становился все более странным по мере того, как шло время в этой абсолютной тишине и мраке.
Тамралипта перестал говорить с самим собой, а потом как-то незаметно и прекратились слуховые галлюцинации. Художник стал понимать смысл жестокого заключения – человек постепенно избавлялся от всех ощущений, наполнявших его ум. Очищался от всего, что мешало отойти от суетной жизни, чтобы чистая, как лучшее зеркало, душа могла отразить всю безмерную глубину космоса. Но душа Тамралипты не могла избавиться от образов памяти, возникавших во внутреннем зрении и становившихся все ярче по мере того, как уходили призраки страхов, телесных ощущений и звуков. Вместе с яркими зрительными видениями все тревоги и надежды продолжали жить в душе художника – вот почему были нужны годы заключения во тьме, ведь душа очищалась от этих столь могучих чувств… Самое большое место в видениях Тамралипты занимали образы Парамрати, а среди них – Тиллоттама.
Тиллоттама мечтательная, озаренная рассветом перед статуей якшини, серьезная в танце во время храмовых обрядов, с гордостью и страданием выпрямившаяся у колонны на грани наступающей ночи…
Мрачные колонны уходят в темную высоту, между ними – сумеречный свет, а в середине косой столб падающих из аркады лучей. Заунывна и печальна песня индийских скрипок – саранги и саринды начинают отрывистыми вскриками, в которые вплетаются звенящие струны ситара и вины…
Тамралипта не смотрит на других танцовщиц – он весь ушел в созерцание Тиллоттамы. А она отвечает лишь нэтрой, глазами, в которых печаль, радость и любовь… да, любовь!
Глаза ее, темные и глубокие, смотрят искоса, говорят: для тебя, милый, для тебя, моя радость.
Вот оркестр притих, только саринда и вина медленно чередуют нежные звуки. Прекрасная девадази ступает осторожно, пугливо, подняв руки, ладонями вперед, вровень с висками. Каждый шаг – на кончиках пальцев, легкая, звенящая серебряными колокольчиками поступь. Глаза прикрыты длинными ресницами. Тиллоттама изгибается, покачивая плечами из стороны в сторону…
Звучит другая мелодия – быстро звенят, заглушая друг друга, ситар и вина, музыканты сильно рвут струны, скользят пальцами по грифам. В этой мчащейся мелодии высокие ноты саринд как крики восторга, как стоны печали, и в ответ им резко звенят колокольчики ножных браслетов танцовщицы. Руки гибкие, точные в каждом движении, отталкивают, отстраняют и, вскидываясь вверху, зовут и молят. Груди, плотно охваченные полированными, обрамленными серебром деревянными чашами, гордо поднимаются и робко прячутся под полосой голубой вуали в такт глубокому взволнованному дыханию… Вот настойчиво, повелительно зазвенели маленькие медные литавры, рассыпаясь дробной, нетерпеливой дрожью. Исподволь глухо и сурово звучат непреклонные барабаны. Тиллоттама замирает, выпрямив согнутые ноги, отступает назад, выгибаясь так, что черные косы ее ложатся на пол. Страстная дрожь пробегает по телу, по мышцам обнаженного живота, смуглых сильных рук. Нахмурив брови, девушка убыстряет темп танца, задевая браслетами друг за друга, отчего колокольчики звенят непрерывно и громко. То одна, то другая нога принимает на себя легкое тело, выпрямляясь в коленях. С изгибами тонкой талии линии широких бедер Тиллоттамы крутыми волнами вздымаются и опадают то с одной, то с другой стороны, выражая всю силу желания юной плоти. Руки медленно и уступчиво опускаются вниз, трепещут, вздрагивают. Вторя им, склоняется голова девушки с опущенными веками и раскрытыми, как лепестки, губами, а барабаны настойчиво требуют: «еще, еще», учащая темп, и пронзительно всхлипывают саранги. Но вот барабаны умолкли, едва слышна дрожащая медь литавр, хором поднимается к небу грустный напев ситар и саринд. И страстная, исполненная желания девушка вдруг превращается в тоскующую по крыльям плененную птицу, не могущую улететь. Ее воздетые руки гнутся, как лебединые шеи, поднятая на стройной шее голова и все тело звучат с такой острой тоской по несбывшемуся, далекому и непостижимому, что по рядам зрителей, секунду назад жадно поблескивающих похотливыми глазами, в общем мгновенном порыве проносится вздох неосознанного сожаления…
Две Тиллоттамы сменяли одна другую перед художником – юная женщина, полная чувственной силы, призывающая на себя желание, в котором, как в луче солнца, еще ярче, еще прелестнее цветет ее тело.
И другая – грустная девушка в озарении своих грез, в тоске предчувствующая еще непознанный мир красок и света, звезд и моря – всего, что заставляет устремляться к знанию, как к прохладной воде ручья в пыльный и знойный день.
Тамралипта никогда не знал, какое религиозное значение имели танцы девадази, да это и не интересовало его.
– Танцует и плачет правда жизни, – сказала ему Тиллоттама, и, действительно, неподдельная правда, глубокое чувство всех оттенков жизни звучали в каждом отточенном движении ее танца. А может быть, потому, что она сама уже все испытала? В каких движениях ее дивного тела звенели браслеты тогда ночью в храме?.. Тамралипта сжал зубы в привычной горькой печали. Он гнал от себя подобные мысли, но богатое воображение художника ревниво рисовало зрелище страсти Тиллоттамы и ее владыки, властно царствовавшего в храме любви, созданном грезами Тиллоттамы. Художник вновь и вновь переживал нечаянно увиденную им сцену, жестоко мучаясь и начиная ненавидеть эту женщину, причинившую ему столько страданий. Тиллоттама во власти чувственности грезилась ему чаще, чем Тиллоттама пробуждающаяся.
По этой Тиллоттаме Тамралипта тосковал со светлой печалью. Образы ее, один милее другого, возникали в его памяти. И вдруг внезапно подкрадывались и остро жалили ревнивые мысли о прошлом – увы, и настоящем своей любимой, и он был готов проклясть тот рассветный час, когда встретился с девадази.
Измученный противоречивыми мыслями, Тамралипта неумело молился каким-то богам своей юности. Нагой и беспомощный, он становился на колени во мраке своей темницы и без конца повторял обращенные к скрытому толщей камня невидимому небу мольбы и вопросы.
Что нужно ему? Он любит прекрасную девушку – она не просто прекрасна, но является воплощением идеи художника. Редкое на земле счастье выпало ему – встретить ее! Но вмешалось что-то ужасное, с чем он ничего не может поделать. Ни он, ни Тиллоттама, ни всемогущие боги – никто не властен над прошлым. А девушка, наверное, полюбила его. Ее жизнь – он знает – несчастна, а он мог бы улучшить ее судьбу.
Не все ли равно ему, что ушло и уйдет в прошлое, когда великое счастье рядом, ждет его? Почему, как только всей силой любви он тянется к ней, ужасный демон ревности отравляет его кровь, причиняет такую боль, что он готов бежать от нее куда глаза глядят и забыть, забыть?.. Ведь он понимает все, гуру открыл ему глаза на древнее дно души. Неужели не найдет он сил справиться с этим?
Тамралипта не знал, сколько прошло времени в абсолютно однообразном мраке и тишине. Он не знал, когда приносят пищу, днем, вечером или ночью, и не смог проследить, через какие промежутки времени. Казалось что он останется здесь на всю жизнь и никогда больше не увидит красок светлого мира, не услышит голосов и песен жизни, не почувствует радость борьбы и творчества. Здесь нет ничего, только сладостные и мучительные видения его любви, только зрительные картины прошлого существования, казалось, навсегда утраченного.
В один из приступов ревнивых мыслей Тамралипта упорно думал о том, как, может быть, в этот миг, когда он сидит погребенный в темнице, Тиллоттама отдается жрецу. И внезапно пришло озарение. Художник впервые подумал о Тиллоттаме не через себя, не через свою страсть и ревность, а впервые поставил себя на место девадази. Эти новые мысли угасли в пожаре приступа ревности, но не исчезли, а вернулись, укрепились, разрослись…
Пусть не удалась его любовь, отравленная ревностью, пусть он оказался рабом низких желаний древней души, непреклонно жаждущей быть исключительным и абсолютным владыкой ее прошлого, настоящего и будущего. Разве прелестная девадази виновна в том, что он не может примириться с ее прошлым. Это его вина и его беда, но ведь он любит… Для любимой можно сделать многое, и сколько радости, чистой и светлой, может быть в том, чтобы помогать ей в жизни, радовать ее, повести лучшей дорогой? Видеть покой и счастье в любимых глазах!..
Он изначально смотрел на нее только через свою страсть и потому не смог справиться с собой и черной силой ревности. Пусть так! Он не может быть ее возлюбленным, и она никогда не будет его… Но любить ее как свою радость художника никакие силы неба и ада и демоны темной души помешать ему не в силах!
Печаль утраты, тоска о невозможном сжала сердце, но сильнее была радость. Безысходность, терзавшая его долгие месяцы, исчезла.
Пусть сознание того, что Тиллоттама не может быть и никогда не будет принадлежать ему, болезненно, но эта боль иная, чем ужасные страдания ревности. Зато он может многое сделать для любимой…
Он, глупый и неразумный мальчишка, бежал, а не остался, чтобы увести Тиллоттаму в широкий мир, создать образ Парамрати из ее красоты, устроить ей другую жизнь!
Разве не об этом молили глаза девадази при расставании, разве не надеждой загоралось ее лицо при каждой встрече, разве не этого желало и просило ее тело во время танца?
Презренный глупец, раб жалких страстей! Что мог хорошего найти в нем добрый и мудрый гуру, возиться с ним, учить его. Он недостоин ничего, и права карма, наказавшая его ужасной темницей!
Так рассуждал Тамралипта, окрыленный переменой своей души. Ревнивые мысли, тревожные видения продолжали посещать его, но теперь уже не имели полной власти над ним – другая сила появилась в нем так внезапно и так просто! Но в душе художника росла тревога за любимую девушку. Он вспомнил многое из того, что темные стены ревнивых дум заслоняли от духовного взора. Вспомнил, с какой отчаянной надеждой обернулась к нему гордая девушка в час разлуки, вспомнил злобное и безжалостное лицо жреца…
Почему он думал только о себе, о своих переживаниях? А что происходит с Тиллоттамой, оставленной им так внезапно? Ведь он мог разбудить в девушке любовь. Тогда ее стремления, желание другой жизни, так часто проглядывавшееся в ней, только обострились. Показав ей, что любит ее, он тем самым подал ей надежду на свою помощь. Неизбежный конфликт между ней, одинокой, хрупкой и беззащитной, и жестким укладом храмовой жизни, властью главного жреца, быть может, усиливается там без него!
Тамралипта все сильнее тревожился за девушку. Инстинктивное сознание, что Тиллоттаме угрожает опасность, нарастало. Художник снова начал метаться по темнице, вопить в отверстие для передачи пищи. Вновь в нем с ужасной силой вспыхнуло стремление освободиться. Тамралипта пытался безуспешно раскачать плиту. Обламывая ногти, он царапал засохшую глину, кричал и рыдал от бессилия и тревоги за Тиллоттаму. Простершись на гладком каменном полу, он старался в тысячный раз сосредоточить волю в усилии передать гуру свое безумное желание покинуть темницу. Он чувствовал что сойдет с ума, сделается темным и бессловесным зверем, если еще пробудет в этом мраке, беспомощный, ушедший в порыв к Тиллоттаме. Наконец, художник впал в странное забытье – окружающий мрак исчез, – он лежал в серых сумерках и слышал странный шум, похожий на шум прибоя. Вдруг перед ним возникла обнаженная Тиллоттама – девушка стояла на коленях. Ее огромные глаза, устремленные вдаль, не видели художника, но губы шептали ясно и звучно: «Тамралипта, помоги!» Художник с криком рванулся к девушке, видение исчезло, но странный сумрак и шум продолжали окружать его. И тогда, собрав все силы ума и воли в небывалом напряжении, Тамралипта позвал гуру. «На помощь, учитель, на помощь!» Этот внутренний крик души был настолько силен, что тело вдруг содрогнулось, и внутри него словно все оборвалось. Тамралипта очнулся, понял, что по-прежнему лежит во мраке и тишине своей гробницы и, ощущая близкую смерть, потерял сознание.
* * *
Знойные и сонные дни шли чередой, а грозный Крамриш еще не отомстил непокорной девадази.
Несколько дней Тиллоттама провела в полном одиночестве. Потом от главного жреца явилась старая женщина, бывшая девадази, а ныне прислужница в доме Крамриша. Она отомкнула цепь, растерла целебной мазью воспаленную кожу на пояснице девушки, вымыла, одела в принесенную сари, возобновила стершийся красный знак между бровями Тиллоттамы. Сторожа принесли мягкое ложе, поставили столик с лакомствами. Настороженная девушка ждала, что будет дальше.
Но все ушли, заперев дверь, и более ничего не случилось. Никто не пришел и на следующий день. Так, в напряженном ожидании, что перемена к лучшему неспроста, прошла почти неделя, пока, наконец, не появился Крамриш. Пряча недобрый огонь сумрачных глаз, жрец снова убеждал Тиллоттаму вернуться к танцам в храме, говорил, как не хватает ее, нати-жемчужины, среди натрак-танцовщиц, как ждут ее выздоровления многочисленные зрители, которым было объявлено, что девадази заболела. Заметив, что глаза Тиллоттамы затуманились воспоминаниями о танцах, жрец вкрадчиво и нежно стал гладить ее горячими, вздрагивающими от желания руками. Голос Крамриша звучал спокойно, почти монотонно, успокаивая девушку, не видевшую, как раздуваются его ноздри и оскаливаются крупные зубы. Крамриш понял, что настал благоприятный момент. Его рука, незаметно охватившая стан девушки, внезапно стала железной. С победным рычанием Крамриш рванул край сари, но девушка поджала к животу колени, ногами и руками дав отпор натиску жреца. Отброшенный резким толчком Крамриш пошатнулся и рухнул на каменный пол, ударившись затылком, вскочил и в ярости ринулся на девушку. Как и в первый день заключения, завязалась жестокая бессловесная борьба, пока жрец не выбился из сил и не понял, что овладеть Тиллоттамой не может. Тогда в злобном и властном человеке произошла странная перемена. Крамриш встал на колени перед ложем задыхающейся, но неукротимой девадази.
– О, сунахри, золотая моя возлюбленная, по достоинствам равная только себе! Забудь все, что привело тебя к безумной мысли покинуть нас. Клянусь, что я никогда не буду обижать тебя. Я возвышу тебя над всеми. Много редкостных драгоценностей хранится у меня в надежном месте, сотни тысяч рупий лежат в банке – ты станешь богатой. Я подарю тебе дом и сад, жаркие месяцы будешь проводить в предгорьях Гималаев, в прохладных садах Дарджилинга. Что еще нужно тебе, что хочешь от жизни, что можешь ты, беззащитная сирота, проданная своим первым возлюбленным? Я, видишь, я, Крамриш, стою перед тобой на коленях, заклинаю тебя послушаться. Будь по-прежнему моей, вернись в храм…
Так невероятно и необычно было это смирение для грозного и жестокого жреца, перед которым трепетали все женщины, что удивленная Тиллоттама села на ложе и внимательно слушала его. Тронутая, она простила ему вспышку зверской страсти и спокойно ответила:
– Прости меня, господин. Ты видишь, я стала другая, не та, что раньше. Непонятная сила влечет меня, и я все равно не смогу оставаться здесь и жить так, как жила прежде. Я не могу обманывать тебя, господин, и мне не нужны твои деньги. Я знаю – я глупая, маленькая женщина, но, если я доставляла тебе радость, прости меня и отпусти без гнева!
Тиллоттама соскользнула на пол, сложила руки ладонями вместе, поднесла к голове, сделав анджали, жест мольбы, и, умоляюще глядя на Крамриша, повторила: «Позволь мне уйти, господин!..»
Несколько секунд жрец стоял против нее на коленях, безмолвно погрузив свой взор в глубокие, темные и блестящие глаза девадази. Вдруг Крамриш с грубым проклятием ударил Тиллоттаму по лицу и толкнул ее так, что она упала. Жрец вскочил, судорожно кривя губы и порываясь что-то сказать, потом бешено плюнул на пол рядом с Тиллоттамой и выбежал…
Снова прошли несколько дней одиночества – Тиллоттама инстинктивно чувствовала недобрую волю жреца, обращенную к ней. Крамриш обдумывал план злейшей мести. Девушку продолжали хорошо стеречь, и крепкая дверь была всегда заперта.
Мысли, одна безотраднее другой, донимали пленницу. Почему так сильна у нее тяга к знанию, ко всему, что не дано судьбой таким, как она, женщинам. Живут рядом с ней беззаботные, как птицы, научи и девадази, не жалея и не считая проходящие дни, они рады своей жизни. И на самом деле, насколько их жизнь легче жизни миллионов прочих женщин Индии. А безрадостные вдовы, толпами стремящиеся в храмы, готовые на все ради ночлега и горсти муки? А страшная доля неприкасаемых, вся жизнь которых проходит в грязном беспросветном труде, в презрении и отвращении народа?
Она, Тиллоттама, красивая и хорошо танцующая девадази, разве это такая уж плохая судьба – как это сказал Крамриш – для нищей сироты, проданной возлюбленным…
Все это правда, но правда и то, что она всегда мечтала о другой жизни. Мечтала, не зная ничего, кроме чтения книг, но что еще может позволить себе простая индийская девушка?!
Тиллоттама чувствовала, что ее тело создано для любви, не для этой, оглушающей, как крепкое вино, быстрой и похотливой, исчезающей без следа страсти, охватывающей ее тело и увядающей, словно сорванный цветок. Нет, мучительно хотелось другого, что заставило бы трепетать и биться каждый нерв ее тела, которое чувствовало бы красоту в объятиях и поцелуях любимого, расцветало бы и звенело в беззаветном и вдохновенном творчестве страсти. Если бы эта страсть не угасала, как набежавшая и схлынувшая волна, а длилась долго, становясь все сильнее и нежнее, тело, славя силу любви, делалось бы еще прекраснее. Еще в тот незабываемый час их первой встречи, став нагая перед статуей, она увидела себя глазами художника. Его порыв восхищения обожествил ее тело, дал ей почувствовать свою красоту, дивную силу очарования. Это расцветшее тело могло бы вдохновить мужчину на высокий подвиг художника, послужить моделью для статуй и картин, подобных тем восхищавшим ее древним произведениям искусства, перед которыми она всегда ощущала силу красоты и любви, могущество творчества и которые ободряли людей на их общем печальном пути от жизни к смерти.
Давно, еще в горении первой страсти, приходила неосознанная горечь, смутное ощущение ненастоящего, неглубокого… И страсть казалась пленом, несмотря на всю свою захватывающую власть. Словно цепями опутывала она душу, унижала, отдавая и подчиняя нелюбимому, а теперь попросту отвратительному жрецу.
Что же такого невозможного, такого плохого в ее стремлении к доброй жизни? Ей всегда было невозможно участвовать в круговороте ссор, сплетен, мелкого соперничества, низких и злобных мыслей, неизбежных там, где люди живут тесной толпой, не занятые серьезным трудом, не понимающие ничего и не верящие ни во что, кроме собственного низкого опыта.
Почему нельзя стремиться к познанию окружающего, узнать больше о звездах, других странах и людях, картинах и статуэтках, стихах и песнях? Разве человек должен знать только свое дело, понимать мир не дальше двора своего дома? Ложе страсти для одного господина, жреца, танец для другого господина, Шивы, а что для Тиллоттамы? Почему жизнь так упорно стремится превратить ее в бессмысленное, нерассуждающее животное? Разве это нужно богам? Ведь потому она и танцует лучше других, что робкие начатки знания, данные ей отцом, разбудили ее природную фантазию, обострили чувства и вкус. Крамриш этого не понимает и не поймет никогда. Не поймут и ее счастливые товарки…
А он, веселый художник, понимает все, что глубоко волнует и привлекает Тиллоттаму. Чудесно и верно говорил он о чувстве красоты, о природе, о жизни. С ним, через него Тиллоттама впервые по-настоящему увидела и почувствовала себя, поняла, что еще может сбыться несбывшееся, невозможное счастье. Его внимательные и зоркие глаза, озорные и нежные, его ловкие руки, плечи с буграми могучих мускулов… Она, возвысившись и очистившись в его вдохновенной любви, могла бы стать его моделью, встать вровень с теми дивными женщинами древности.
Но она не кори, она – сорванный цветок и не в одних чистых грезах и стремлениях возникла ее красота. Тамралипта понял это, почувствовал наполняющее его камвасне, любовное желание, и оттолкнул ее. Ему не нужна такая красота… Ну и пусть. Но и она, давно хотевшая убежать отсюда, покончить с покорной слабостью своего тела, овеянная преклонением святого чувства и презрением художника, уже не сможет жить здесь!
Она бежала, и как окончилась ее попытка? Едва почувствовав тревогу и радость освобождения, она снова оказалась здесь, снова стала пленницей. Пленницей, но не рабыней, не наложницей – это от тебя, милый… Тиллоттаме очень хотелось увидеть художника, сказать ему, что она теперь лучше, что она не зинакари, как он мог подумать.
– Милый, не забывай меня, Тиллоттаму, – шептала девушка в безвестное пространство, – помоги мне – мне трудно и плохо! Я ничего не прошу у тебя, только приди, посоветуй в трудный час моей жизни. Он настал, где ты, Тамралипта?
Пошептав в ночном мраке, девушка немного успокаивалась и засыпала, как будто исчезнувший художник и в самом деле обещал прийти…
Развязка наступила, как всегда, внезапно. Ночью она проснулась от лязга дверного запора. Вошел Крамриш с фонариком и свертком. Свет в его глазах отражался злобным торжеством. Молчаливая усмешка и решительные движения дали понять Тиллоттаме, что час испытания пришел, и сердце девушки болезненно сжалось. Собрав мужество, Тиллоттама поднялась навстречу своему бывшему повелителю, который по-прежнему распоряжался ее судьбой.
Жрец набросил на девушку плащ и вытащил длинный нож, засверкавший полированным лезвием.
– Только пикни, и все будет кончено! – Крамриш приставил острие кинжала к боку девушки и слегка уколол ее.
Он погасил фонарь, закрыл лицо Тиллоттамы и повлек ее за собой по гулким переходам пустынного храма. Потом они зашагали по мягкой пыли какой-то дороги. Вот о подол сари зашелестела жесткая трава, а они все шли и шли.
Тиллоттама незаметно приподняла уголок плаща – темная ночь в суди, светлую половину месяца, означала, что уже поздно. Не было возможности разглядеть что-нибудь поодаль, а вблизи высились глухие стены. Внезапно появилась узкая железная дверца, зажатая в толще массивного свода. Крамриш достал ключ, с усилием открыл замок, калитка громко скрипнула. Где-то слева залаяли собаки. Жрец быстро захлопнул калитку, протолкнув девушку в обширный, тонувший во мраке сад. Они двинулись в глубину сада, наклоняясь, чтобы не задевать за низкие ветки деревьев, и тогда Тиллоттама догадалась, где находится. Это был дворец древних царей Бхутесвара, давно покинутый, разрушившийся и восстановленный богатым купцом, любителем древностей. Дворец так и остался нежилым, расчищенный сад снова зарос. В главном здании, выходившем на другую улицу, располагался склад древностей, при котором жил доверенный сторож.
Крамриш и девадази подошли к огромной башне, стоявшей отдельно в конце сада, за которым тянулось мусульманское кладбище. Вход в башню закрывала деревянная дверь с железной оковкой, низкая и толстая. Жрец извлек еще один ключ, под ударом ноги дверь распахнулась, и он опять тщательно притворил ее за собой. Безмолвие ночи, почти не нарушавшееся за все время их пути, здесь было еще более глубоким. Проход тянулся широкой дугой внутри цоколя башни, затем ступени пошли вниз. Тиллоттама, охваченная дрожью испуга, остановилась, но острие кинжала, кольнув ее, опять погнало вперед.
Третья дверь, на этот раз железная, и они очутились в каком-то большом помещении. Жрец зажег четыре светильника на стенах.
Явственно обозначился большой круглый зал без окон с высокими перекрещивающимися наверху сводами. Каменные скамьи двумя рядами кольцевых выступов огибали правильный круг пола – место походило на арену маленького цирка. В стороне, противоположной двери, зиял широкий свод уходившей вниз галереи. На арене стояло кубическое возвышение из камня, закругленное и отполированное с одной стороны. Столбик из черного камня в форме обычного лингама Шивы торчал в самом центре.
– Сядь, – приказал жрец. Утомленная девушка послушно опустилась на нижнюю скамью.
Жрец медленно развернул принесенный сверток, а Тиллоттама осмотрелась, бессознательно ища окно или дверь. В глухих стенах ничего не было. Стараясь понять назначение каменных предметов на «арене», девадази обратила внимание, что столбик располагался точно против отвесной стороны странного камня. Закругленный скат возвышения был обращен к краю «арены». Долго осматриваться Тиллоттаме не пришлось – жрец подошел к ней, держа в одной руке нож, а в другой какие-то блестевшие металлом предметы.
– Раздевайся, – повелительно и отрывисто бросил он, замахиваясь ножом. Девушка закрылась с головой покрывалом и зажмурилась, готовая к смерти.
– Рэ, не нужно, – более спокойно произнес Крамриш и бросил нож, зазвеневший на каменных плитах, – покажи руки!
Ничего не подозревая, девушка протянула вперед обе руки. Жрец схватил ее кисти, что-то щелкнуло, сковав руки Тиллоттамы. Девадази с удивлением посмотрела на хатхкари, усовершенствованные английские полицейские наручники. Крамриш принялся ожесточенно срывать с нее скудную одежду. Скованная девушка не могла сопротивляться и лишь прижималась спиной к шероховатой неожиданно теплой поверхности камня, с ужасом и недоумением глядя на жреца. Тот зачем-то распустил ей косы, завернул и завязал ее волосы узлом на темени. На шее Тиллоттамы защелкнулся старинный железный ошейник – древнее орудие унижения и плена человека, выкованное вручную, встретилось на теле девушки с изобретением нового века, изделием из лучшей стали, штампованным точными и быстрыми машинами.
Крамриш сел, отдуваясь и вытирая лицо. Затем закурил длинную трубку, и резкий запах гашиша, примешанного к табаку, разнесся по странному помещению.
Тиллоттама осторожно подняла скованные руки, рассмотрела зубцы, защелкивающиеся по размерам запястья, попробовала потянуть совсем тонкую соединительную цепочку, но быстро сообразила, что орудие, применяющееся для самых сильных преступников, вряд ли поддастся ее усилиям.
Девушка потрогала ошейник – широкий и выщербленный ржавчиной, он был замкнут позади. Спереди была вделана короткая цепь из трех крупных звеньев. Недоумевая, для чего все это, Тиллоттама попробовала крепость цепи и уловила торжествующую, откровенно злобную усмешку жреца.
– Пора тебе узнать все, – медленно начал Крамриш, – пора узнать, что значит четырежды оскорбить меня. Этот зал, – жрец взмахнул трубкой, – был построен Владыкой дворца, подобно мне оскорбленным женщиной. Четыре столетия он служил для наказания неверных жен и строптивых наложниц. Я решил возобновить обычай царей Бхутесвара – ведь их кровь течет в моих жилах. Я хочу покарать тебя за твои непростительные проступки, ничтожная женщина!
Здесь женщины, преступившие закон верности или непокорные своим повелителям, отдавались неприкасаемым при избранных свидетелях числом не менее десяти. И чем большему унижению хотел подвергнуть женщину повелитель, тем больше приближенных он собирал на зрелище. Здесь, – жрец обвел трубкой каменные скамьи, – помещалось более сотни зрителей…
Девушка слушала, затаив дыхание и широко раскрыв глаза.
– После того, – продолжал жрец, – как ачхут, неприкасаемый, брал женщину трижды, он освобождал ее и кормил плодами манго из своего рта. Тогда наступал патан – она навеки теряла свою касту, сама становилась отверженной панчаи, пятой, и никакие очистительные обряды не могли вернуть ее в лоно прежней касты. Она должна была жить с неприкасаемым в его жалком шалаше, не смела носить больше одежды, чем кусок ткани вокруг бедер, чтобы не оскорбить людей высших каст, прикрывая свое тело!
Жрец умолк, испытующе глядя на Тиллоттаму. Девадази, задрожав, начала смутно уяснять назначение каменного сооружения и поняла, что ей предстоит.
Она в страхе оглянулась – нигде ни звука. Глухая безмолвная ночь, и она наедине со своим врагом, властелином, как всегда, нагая, а теперь и скованная…
Девушка отшатнулась, жрец отбросил трубку, ловко ухватился за цепь ошейника, рванул к себе. Тиллоттама уперлась ногами в пол, но ее буквально подняли в воздух, бросили на пол и поволокли вниз на арену. Подтащив ее к камню, Крамриш расчетливо ударил девадази в место, где расходятся ребра, поднял задохнувшуюся Тиллоттаму и поставил перед камнем, опустив ее ступни в углубления с закругленной стороны камня. Затем быстрым и сильным рывком перегнул девадази так, что ее живот лег на закругление, и надел звено цепи на большой бронзовый крюк, вделанный в столбик перед камнем. Передохнув, жрец отошел, посмотрел, нажал на затылок Тиллоттамы, надел на крюк второе звено цепи, еще сильнее нагнув девушку, и запер замок.








