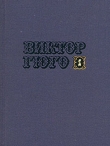Текст книги "Собрание сочинений в пяти томах. Том первый. Научно-фантастические рассказы"
Автор книги: Иван Ефремов
Соавторы: Евгений Брандис,Владимир Дмитриевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Я долго смотрел на страницу неведомых письмен, и предчувствие необыкновенного и интересного постепенно охватывало меня, то замечательное ощущение порога неизвестности, знакомое всякому, сделавшему какое-либо большое открытие. Вскинув глаза на художника, я увидел, что он безотрывно следит за мной, – даже губы его полуоткрылись, придавая лицу ребячески внимательное выражение.
– Вы – понимаете что-нибудь, профессор? – тревожно спросил Леонтьев.
– Конечно, ничего, – прямо ответил я, – но надеюсь понять после ваших разъяснений.
– О, это все та же цепь видений. Помните, я звонил вам и рассказывал о внутренности здания? Во время разговора с вами я сообразил, что это мастерская скульптора или художественная школа. Еще лишняя связь с моей мечтой поразила меня, и я поспешил снова вернуться к галлюцинациям, уже понимая в них какую-то определенную линию, какой-то смысл, который я и должен был, наверное, разгадать.
Еще и еще я поддавался своим видениям, усиливая их и сосредоточиваясь по вашим указаниям, но все остальные картины, ранее мелькавшие передо мной, или снова исчезали, или как-то стушевались, сделались невнятными. Как только наступал момент появления самых отчетливых и долгих видений, неизменно возвращался зал в белом здании, художественная мастерская. Больше ничего я не мог увидеть и начал уже приходить в отчаяние. Ощущение замкнутости воспоминания, о котором вы говорили, не приходило.
Вдруг я подметил, что одна часть комнаты постепенно, с каждым новым видением, становится все отчетливее, и понял: продолжение мысленных картин нужно было искать только внутри скульптурной мастерской – дальше мои видения уже не шли. Как я ни старался, так сказать, выйти из пределов мастерской скульптора, ничего другого не мог увидеть.
Но все отчетливее становилась правая сторона стены против решетки, там, где было широкое и низкое окно – арка. Видение гасло, снова появлялось, и с каждым разом я мог увидеть все больше подробностей.
Слева четким силуэтом на фоне сосен и неба, видимых сквозь аркаду, выделялась небольшая статуя, в половину человеческого роста, сделанная из слоновой кости. Я очень старался ее рассмотреть, но она не становилась постепенно яснее, а, наоборот, гасла. Так же угасла новая подробность, сначала ставшая более отчетливой, чем статуя, – низкая и длинная ванна из серого камня, налитая почти до краев какой-то темной жидкостью. В этой ванне смутно виднелись очертания скульптурной фигуры, как бы обнаженного тела, утопленного в темной жидкости.
Но и эта деталь стушевалась, а рядом с ванной выявился широкий стол с толстой каменной плитой сверху и длинным сиденьем вроде лавки перед ним из желтого, гладко отполированного дерева. На столе в беспорядке лежали палочки, свертки и другие предметы, в которых, я могу поручиться за это, узнал некоторые скульптурные инструменты, похожие на те, которыми сам привык пользоваться. Ближе к правому углу стола лежала квадратная плита или толстый лист из гладкой меди без всяких украшений, покрытый какими-то знаками.
Этот лист становился все отчетливее, и, наконец, все видение сосредоточилось на этом листе меди. Отчетливо стояла передо мной его позеленевшая поверхность с вырезанными на ней значками. Ничего не понимая, я все-таки чутьем, интуитивно сообразил, что в этом месте конец серии мысленных картин, замыкание цепи видений, по вашему предположению. Томимый неясной тревогой, я стал зарисовывать знаки медной плиты. Вот видите, профессор, – гибкие его пальцы перебрали целый ворох листков, – нужно было снова и снова начинать. Видение потухло и иногда часами не возвращалось вновь, но я терпеливо ждал, пока не смог составить вот этот лист, который у вас в руках. Левая рука у меня еще не совсем приспособилась, и дело шло медленно. А сейчас я больше ничего не вижу, усталость, стало все безразлично… Только уснуть никак не могу, боюсь смутно и упорно какой-то ошибки. Я не вижу связи с собой в этих замысловатых знаках. Раньше я чувствовал ее очень резко – скульптуры, статуя из слоновой кости, – а сейчас опять ничего не понимаю. Что же это все, профессор?
– Вот что, – отвечал я, весь дрожа от сильного волнения, – примите-ка дозу снотворного – я приготовил на случай, если вы переборщите с вашими видениями. Вы заснете – это вам больше всего нужно, – а я заберу лист, и к вечеру мы получим представление, что все это значит. Действительно, ваши галлюцинации пришли к концу. Я не понимаю еще всего, но думаю, что вы вспомнили наконец то, что вам нужно… Вот только неожиданные диковинные письмена… Еще раз спрошу: совершенно ли вы уверены, что ваши видения – Эллада или, скажем, только как-то с ней связаны?
– Я говорил вам, профессор, я не могу объяснить почему, но уверен: видел Элладу, или, правильнее сказать, кусочки ее.
– Отлично, теперь старайтесь уснуть, а потом долой все эти затворнические шторы, милый мой, вы вернетесь в жизнь! Ну, довольно, довольно! – прервал я дальнейшие вопросы художника и быстро вышел, унося таинственный лист.
Еще немного терпения, соображал я, направляясь к трамваю, и все должно решиться. Или это действительно вырванная из глубины прошлого запись чего-то важного, или… бредовая чепуха. Нет, на последнее не похоже. Одни и те же знаки часто повторяются, группы неравного количества знаков разделены промежутками, вверху, очевидно, заголовок. Нет, в бреду такой штуки не напишешь. «Итак, раз художник уверен, что это Эллада, нужно к эллинисту. Кто у нас в Москве самый крупный спец по этой части?» – продолжал я свои рассуждения, но никак не мог никого вспомнить. У себя дома с помощью справочника научных работников, календаря академии и презренного телефона я узнал нужного мне человека и немедленно позвонил ему. Повезло, он оказался дома.
Не далее как через сорок минут я раскуривал очередную папиросу в его кабинете, в то время как ученый впился взглядом в поданный мною лист с таинственными знаками.
– Где вы взяли, вернее, списали это? – воскликнул эллинист, пронизывая меня прищуренными блестящими глазками.
– Я все расскажу вам без утайки, только прежде, ради всего святого, объясните мне, что это такое?
Ученый нетерпеливо вздохнул и снова склонился над листом, говоря размеренным, без интонации голосом:
– Принесенный вами отрывок написан так называемыми кипрскими письменами, слоговой азбукой, справа налево, как раньше писали в Элладе. Этими письменами написано на эолийском наречии древнегреческого языка. Поэтому я затрудняюсь быстро перевести весь отрывок. Вот заглавная строчка – да, это интересно! – состоит из трех слов: вверху – малактер элефантос. Под ними внизу – зитос. Первые два слова означают буквально «смягчитель слоновой кости», а в переносном значении: мастер слоновой кости. Наше название «мастер» тоже происходит от этого корня. Зитос – особая неизвестная жидкость – средство для размягчения слоновой кости. Вы знаете, что в Древней Элладе художники знали секрет делать слоновую кость мягкой, как воск, и благодаря этому лепили из нее весьма совершенные произведения, которые после затвердевали, опять становясь обычной слоновой костью? Этот секрет потом был безвозвратно утрачен, и никто до сих пор…
– О черт побери, все понял! – вскочив со стула, закричал я. Увидев испуганно-недоумевающее лицо ученого, спохватился и поспешно добавил: – Простите, бога ради, но это очень важно для меня, а главное – для моего пациента. Не можете ли вы мне сейчас же передать, хотя бы в самых общих чертах, содержание дальнейшего?
Эллинист пожал плечами и не ответил. Однако я видел, что его глаза бегают по строчкам листа, и постарался застыть в кресле, сдерживая волнение и накипавшую бешеную радость. После нескольких, казавшихся очень долгими минут ученый сказал:
– Насколько я могу разобрать без специальных справок, здесь записан химический рецепт, но названия веществ нужно будет особо истолковать. Ну, тут сказано о морской воде, затем о порошке цинны и каком-то масле Посейдона и так далее. Наверное, это и есть рецепт того средства, о котором я сейчас вам говорил. Это очень важно, – заключил эллинист.
Тон его голоса показался мне слишком сухим при громадном значении его слов. Но так или иначе, все было ясно. На медной плите, то есть здесь, на листе, был записан рецепт средства для размягчения слоновой кости. Художник вспомнил наконец его через десятки поколений, и действительно теперь он сможет создать статую Ирины, просто вылепив ее!
Ученый выжидательно смотрел на меня. Полный торжества и волнения, я поднялся и тут же рассказал ему историю своего пациента и кое-что из своей теории. Когда я кончил, выражение недоверчивого изумления окончательно исчезло с лица эллиниста. Маленькие глазки стали совсем добрыми и, пожалуй, слишком влажными. Выходя из его кабинета, я увидел, как ученый уже рылся в книжных шкафах, быстро извлекая книгу за книгой. Спокойный, что обещанный перевод листа будет сделан так быстро, как это только будет возможно, я с ощущением праздничной радости мира отправился по своим обычным делам.
Ощущение покоя и счастье одержавшего победу разума не оставляли меня и в привычной тишине моего кабинета. Но нетерпение скорее сообщить все ставшее таким ясным художнику заставило меня сразу же позвонить ему. Он, видимо, дожидался моего звонка и на мое приглашение немедленно приехать ко мне быстро ответил:
– Сейчас еду!
Мне очень живо запомнилось в этот вечер изможденное лицо Леонтьева с резкими тенями от настольной лампы и его внимательные глаза, с пробегающими в них искрами изумления, радости и торжества.
– Так я открыл, нет, вспомнил, утраченный секрет древних мастеров? – взволнованно воскликнул художник, все еще не веря случившемуся. – Но как я мог это сделать?
Я объяснил ему, что точных данных наука еще не имеет, но, по-видимому, в предыдущих поколениях его предков были мастера, знавшие этот секрет. Долгая работа и важное значение этого рецепта обусловили то, что в памяти одного из его предков образовались какие-то очень прочные связи, закрепившиеся для передачи в механизме наследственности.
Эти связи, хранясь под спудом его личной памяти, возникли и у него, Леонтьева. Таким образом, здесь чудесно только одно – замечательное совпадение проявления древней памяти и важности эллинского секрета именно для него, тоже ставшего скульптором, как и его предки. Очень большое желание создать статую Ирины, воля и напряжение всех сил помогли ему вызвать из области подсознательного картины древней зрительной памяти. Сам того не зная, он все время чувствовал, что знает именно то, что так для него необходимо. Конец разъяснения художник слушал уже рассеянно, кивая головой и как бы стараясь дать мне понять, что он уже все понял. Едва я кончил, как последовал быстрый вопрос:
– Значит, когда ученый сделает перевод, у меня будет рецепт этого средства, профессор? Вы вполне уверены в этом?
Мне трудно передать радость и волнение художника после моего утвердительного ответа.
– Подумайте только! Теперь я и с одной рукой выполню свою мечту, свою цель… – И его длинные пальцы зашевелились, как бы уже обрабатывая волшебный материал мягкой слоновой кости. – Теперь, завтра… – Голос его задрожал. – И это дали мне вы, профессор, ваша наука…
Художник вскочил и схватил меня за руку, потянулся ко мне, как ребенок к отцу, но устыдился своего порыва, отвернулся, сел и опустил голову на здоровую руку, на стол. Плечи его слегка вздрагивали. Я вышел в другую комнату, сам взволнованный до глубины души, и сел там, покуривая…
На следующий день я снова увиделся с художником у эллиниста, сделавшего перевод записи, содержавшей точный рецепт утерянного секрета. После этого я расстался со своим пациентом и принялся наверстывать некоторые упущенные за это время дела, стараясь вместе с тем составить полный отчет со всеми возможными объяснениями о встреченном необычайном случае.
Дни шли, весенние сменились летними, незаметно подошла осень. Я сильно устал от большой нагрузки, годы как-никак давали себя знать; немного прихворнул и отсиживался дома. Неожиданно ко мне явились двое молодых людей. Я сразу узнал Леонтьева и угадал его Ирину. Рука художника еще висела на перевязи, но это был уже совсем другой человек, и я редко встречал на чьем-либо лице столько ясности и доброты. Про Ирину я скажу только, что она стоила безумной любви художника и всех наших трудов в поисках эллинского секрета.
Ирина крепко поцеловала меня, молча глядя мне в глаза, и, право же, я был больше тронут этой безмолвной благодарностью, чем тысячей дифирамбов.
Леонтьев, волнуясь, сказал, что статуя уже готова, он посвящает ее науке и мне как дань спасенного спасителю, чувства – разуму и очень хочет показать ее мне. Ну, статую я видел. Описывать ее не берусь – это будет сделано специалистами. Как анатом, я увидел в ней то самое высшее совершенство целесообразности, что все вы назовете красотой, в которую любовь автора вложила радостное и легкое движение. Словом, от статуи не хотелось уходить. Долго еще перед глазами стояла эта изумительно прекрасная женщина как доказательство всей силы власти Формы – тонкого счастья красоты, общего для всех людей».
1942–1943 гг.
ОЗЕРО ГОРНЫХ ДУХОВ
Несколько лет назад я прошёл с маршрутным исследованием часть Центрального Алтая, хребет Листвягу, в области левобережья верховьев Катуни. Золото было тогда моей целью. Хотя я и не нашёл стоящих россыпей, однако был в полном восторге от чудесной природы Алтая.
В местах моих работ не было ничего особо примечательного. Листвяга – хребет сравнительно низкий, вечных снегов – «белков» – на нём не имеется, значит, нет и сверкающего разнообразия ледников, горных озёр, грозных пиков и всей той высокогорной красоты, которая поражает и пленяет вас в более высоких хребтах. Однако суровая привлекательность массивных гольцов, поднимающих свои скалистые спины над мохнатой тайгой, горы, толпящиеся под гольцами, как морские волны, вознаграждали меня за довольно скучное существование в широких болотистых долинах речек, где и проходила главным образом моя работа.
Я люблю северную природу с её молчаливой хмуростью, однообразием небогатых красок, люблю, должно быть, за первобытное одиночество и дикость, свойственные ей, и не променяю на картинную яркость юга, назойливо лезущую вам в душу. В минуты тоски по воле, по природе, которые бывают у всякого экспедиционного работника, когда приедается жизнь в большом городе, перед моими глазами встают серые скалы, свинцовое море, лишённые вершин могучие лиственницы и хмурые глубины сырых еловых лесов…
Короче говоря, я был доволен окружающей меня однообразной картиной и с удовольствием выполнял свою задачу. Однако у меня было ещё одно поручение – осмотреть месторождения превосходного асбеста в среднем течении Катуни, близ большого села Чемал. Кратчайший путь тогда лежал мимо самого высокого на Алтае Катунского хребта по долинам Верхней Катуни. Дойдя до села Уймон, я должен был перевалить Теректинские белки – тоже высокий хребет – и через Ондугай снова выйти в долину Катуни. Несмотря на необходимость спешить, вынуждавшую к длинным ежедневным переходам, только на этом пути я испытал настоящее очарование природы Алтая.
Очень хорошо помню момент, когда я со своим небольшим караваном после долгого пути по урману – густому лесу из пихты, кедра и лиственницы – спустился в долину Катуни. В этом месте гладь займища сильно задержала нас: кони проваливались по брюхо в чмокающую бурую грязь, скрытую под растительным слоем. Каждый десяток метров давался с большим трудом. Но я не остановил караван на ночёвку, решив сегодня же перебраться на правый берег Катуни.
Луна рано поднялась над горами, и можно было без труда двигаться дальше. Ровный шум быстрой реки приветствовал наш выход на берег Катуни. В свете луны Катунь казалась очень широкой. Однако, когда проводник въехал на своём чалом коне в шумящую тусклую воду и за ним устремились остальные, воды оказалось не выше колен, и мы легко перебрались на другой берег. Миновав пойму, засыпанную крупным галечником, мы попали опять в болото, называемое сибиряками карагайником. На мягком ковре мха были разбросаны тощие ели, и повсюду торчали высокие кочки, на которых вздымалась и шелестела жёсткая осока. В таком месте лошади вынуждены были бы всю ночь «читать газету», то есть оставаться без корма, а потому я решил двигаться дальше.
Начавшийся подъём давал надежду выбраться на сухое место. Тропа тонула в мрачной черноте елового леса, ноги лошадей – в мягком моховом ковре. Так мы шли часа полтора, пока лес не поредел; появились пихты и кедры, мох почти исчез, но подъём не кончался, а, наоборот, стал ещё круче. Как мы ни бодрились, но после всех дневных передряг ещё два часа подъёма показались очень тяжёлыми. Поэтому все обрадовались, когда подковы лошадей зазвякали, высекая искры из камней, и показалась почти плоская вершина отрога. Здесь были и трава для коней, и годное для палаток сухое место. Мигом развьючили лошадей, поставили палатки под громадными кедрами, и после обычной процедуры поглощения ведра чаю и раскуривания трубок мы погрузились в глубокий сон.
Я проснулся от яркого света и быстро выбрался из палатки. Свежий ветер колыхал тёмно-зелёные ветви кедров, высившихся прямо перед входом в палатку. Между двумя деревьями, левее, был широкий просвет. В нём, как в чёрной раме, висели в розоватом чистом свете лёгкие контуры четырех острых белых вершин. Воздух был удивительно прозрачен. По крутым склонам белков струились все мыслимые сочетания светлых оттенков красного цвета. Немного ниже, на выпуклой поверхности голубого ледника, лежали огромные косые синие полосы теней. Этот голубой фундамент ещё более усиливал воздушную лёгкость горных громад, казалось излучавших свой собственный свет, в то время как видневшееся между ними небо представляло собой море чистого золота.
Прошло несколько минут. Солнце поднялось выше, золото приобрело пурпурный оттенок, с вершин сбежала их розовая окраска и сменилась чисто голубой, ледник засверкал серебром. Звенели ботала, перекликавшиеся под деревьями рабочие сгоняли коней для вьючки, заворачивали и обвязывали вьюки, а я всё любовался победой светового волшебства. После замкнутого кругозора таёжных троп, после дикой суровости гольцовых тундр это был новый мир прозрачного сияния и лёгкой, изменчивой солнечной игры.
Как видите, моя первая любовь к высокогорьям алтайских белков вспыхнула неожиданно и сильно. Любовь эта не несла в дальнейшем разочарования, а дарила меня всё новыми впечатлениями. Не берусь описывать ощущение, возникающее при виде необычайной прозрачности голубой или изумрудной воды горных озёр, сияющего блеска синего льда. Мне хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор вызывал во мне обострённое понимание красоты природы. Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии. И я, весьма земной человек, по-иному настроился в горном мире, и, без сомнения, моим открытием, о котором я сейчас расскажу, я обязан в какой-то мере именно этой высокой настроенности.
Миновав высокогорную часть маршрута, я спустился опять в долину Катуни, потом в Уймонскую степь – плоскую котловину с превосходным кормом для лошадей. В дальнейшем Теректинские белки не дали мне интересных геологических наблюдений. Добравшись до Ондугая, я отправил в Бийск своего помощника с коллекциями и снаряжением. Посещение Чемальских асбестовых месторождений я мог выполнить налегке. Вдвоём с проводником на свежих конях мы скоро добрались до Катуни и остановились на отдых в селении Каянча.
Чай с душистым мёдом был особенно вкусен, и мы долго просидели у чисто выструганного белого стола в садике. Мой проводник, угрюмоватый и молчаливый ойрот, посасывал окованную медью трубку. Я расспрашивал хозяина о достопримечательностях дальнейшего пути до Чемала. Хозяин, молодой учитель с открытым загорелым лицом, охотно удовлетворял моё любопытство.
– Вот что ещё, товарищ инженер, – сказал он. – Недалеко от Чемала попадётся вам деревенька. Там живёт художник наш знаменитый, Чоросов, – слыхали, наверно. Однако, старикан сердитый, но, ежели ему по сердцу придётесь, всё покажет, а картин у него красивых гибель.
Я вспомнил виденные мною в Томске и Бийске картины Чоросова, особенно «Корону Катуни» и «Хан-Алтай». Посмотреть многочисленные работы Чоросова в его мастерской, приобрести какой-нибудь эскиз было бы недурным завершением моего знакомства с Алтаем.
В середине следующего дня я увидел направо указанную мне широкую падь. Несколько новых домов, блестя светло-жёлтой древесиной, расположилось на взгорье, у подножия лиственниц. Всё в точности соответствовало описанию каянчинского учителя, и я уверенно направил коня к дому художника Чоросова.
Я ожидал увидеть брюзгливого старика и был удивлён, когда на крыльце появился подвижный, суховатый бритый человек с быстрыми и точными движениями. Только всмотревшись в его желтоватое монгольское лицо, я заметил сильную проседь в торчащих ёжиком волосах и жёстких усах. Резкие морщины залегли на запавших щеках, под выступающими скулами, и на выпуклом высоком лбу. Я был принят любезно, но не скажу чтобы радушно, и, несколько смущённый, последовал за ним.
Вероятно, под влиянием искренности моего восхищения красотой Алтая Чоросов стал приветливее. Его немногословные рассказы о некоторых особенно замечательных местах Алтая ясно запомнились мне – так остра была его наблюдательность.
Мастерская – просторная неоклеенная комната с большими окнами – занимала половину дома. Среди множества эскизов и небольших картин выделялась одна, к которой меня как-то сразу потянуло. По объяснению Чоросова, это был его личный вариант «Дены-Дерь» («Озера Горных Духов»), большое полотно которой находится в одном из сибирских музеев.
Я опишу этот небольшой холст подробнее, так как он имеет важное значение для понимания дальнейшего.
Картина светилась в лучах вечернего солнца своими густыми красками. Синевато-серая гладь озера, занимающего среднюю часть картины, дышит холодом и молчаливым покоем. На переднем плане, у камней на плоском берегу, где зелёный покров травы перемешивается с пятнами чистого снега, лежит ствол кедра. Большая голубая льдина приткнулась к берегу, у самых корней поваленного дерева. Мелкие льдины и большие серые камни отбрасывают на поверхность озера то зеленоватые, то серо-голубые тени. Два низких, истерзанных ветром кедра поднимают густые ветви, словно взнесённые к небу руки. На заднем плане прямо в озеро обрываются белоснежные кручи зазубренных гор со скалистыми рёбрами фиолетового и палевого цветов. В центре картины ледниковый отрог опускает в озеро вал голубого фирна, а над ним на страшной высоте поднимается алмазная трехгранная пирамида, от которой налево вьётся шарф розовых облаков. Левый край долины – трога[2]2
Трог – долина, выглаженная ледником, с очень крутыми склонами.
[Закрыть] – составляет гора в форме правильного конуса, также почти целиком одетая в снежную мантию. Только редкие палевые полосы обозначают скалистые кручи. Гора стоит на широком фундаменте, каменные ступени которого гигантской лестницей спускаются к дальнему концу озера…
От всей картины веяло той отрешённостью и холодной, сверкающей чистотой, которая покорила меня в пути по Катунскому хребту. Я долго стоял, всматриваясь в подлинное лицо алтайских белков, удивляясь тонкой наблюдательности народа, давшего озеру имя «Дены-Дерь» – «Озеро Горных Духов».
– Где вы нашли такое озеро? – спросил я. – Да и существует ли оно на самом деле?
– Озеро существует, и, должен сказать, оно ещё лучше в действительности. Моя же заслуга – в правильном выражении сущности впечатления, – ответил Чоросов. – Сущность эта мне недёшево далась… Ну а найти это озеро нелегко, хотя и можно, конечно. А вам зачем? Небось на карте отметить понадобилось? Знаю вас!
– Просто побывать в чудесном месте. Ведь такую штуку увидишь – и смерти бояться перестанешь.
Художник пытливо посмотрел на меня:
– А это верно у вас прозвучало: «Смерти бояться перестанешь». Вы вот не знаете, наверно, какие легенды связаны у ойротов с этим озером.
– Должно быть, интересные, раз они так поэтично назвали озеро.
Чоросов перевёл взгляд на картину:
– Вы ничего такого не заметили?
– Заметил. Вот тут, в левом углу, где гора конусом, – сказал я. – Только извините, но тут мне краски совсем невозможными показались.
– А посмотрите-ка ещё, повнимательней…
Я стал снова всматриваться, и такова была тонкость работы художника, что чем больше я смотрел, тем больше деталей как бы всплывало из глубины картины. У подножия конусовидной горы поднималось зеленовато-белое облако, излучавшее слабый свет. Перекрещивающиеся отражения этого света и света от сверкающих снегов на воде давали длинные полосы теней почему-то красных оттенков. Такие же, только более густые, до кровавого тона, пятна виднелись в изломах обрывов скал. А в тех местах, где из-за белой стены хребта проникали прямые солнечные лучи, над льдами и камнями вставали длинные, похожие на огромные человеческие фигуры столбы синевато-зелёного дыма или пара, придававшие зловещий и фантастический вид этому ландшафту.
– Не понимаю, – показал я на синевато-зелёные столбы.
– И не старайтесь, – усмехнулся Чоросов. – Вы природу хорошо знаете и любите, но не верите ей.
– А сами-то вы как объясните эти красные огни в скалах, сине-зелёные столбы, светящиеся облака?
– Объяснение простое – горные духи, – спокойно ответил художник.
Я повернулся к нему, но и тени усмешки не заметил на его замкнутом лице.
– Я не шучу, – продолжал он тем же тоном. – Вы думаете, название озеру только за неземную красоту дано? Красота-то красотой, а слава дурная. Вот и я картину сделал, а ноги еле унёс. В девятьсот девятом я там был и до тринадцатого всё болел…
Я попросил художника рассказать о легендах, связанных с озером. Мы уселись в углу на широком диване, покрытом грубым жёлто-синим монгольским ковром. Отсюда можно было видеть «Озеро Горных Духов».
– Красота этого места, – начал Чоросов, – издавна привлекала человека, но какие-то непонятные силы часто губили людей, приходящих к озеру. Роковое влияние озера испытал и я на себе, но об этом после. Интересно, что озеро красивее всего в тёплые, летние дни, и именно в такие дни наиболее проявляется его губительная сила. Как только люди видели кроваво-красные огни в скалах, мелькание сине-зелёных прозрачных столбов, они начинали испытывать странные ощущения. Окружающие снеговые пики словно давили чудовищной тяжестью на их головы, в глазах начиналась неудержимая пляска световых лучей. Людей тянуло туда, к круглой конусовидной горе, где им мерещились сине-зелёные призраки горных духов, плясавшие вокруг зеленоватого светящегося облака. Но, как только добирались люди до этого места, всё исчезало, одни лишь голые скалы мрачно сторожили его. Задыхаясь, едва передвигая ноги от внезапной потери сил, с угнетённой душой, несчастные уходили из рокового места, но обычно в пути их настигала смерть. Только несколько сильных охотников после невероятных мучений добрались до ближней юрты. Кто-то из них умер, другие долго болели, потеряв навсегда былую силу и храбрость. С тех пор широко разнеслась недобрая слава о Дены-Дерь, и люди почти перестали бывать на нём. Там нет ни зверя, ни птицы, а на левом берегу, где происходят сборища духов, и не растёт ничего, даже трава. Я ещё в детстве слышал эту легенду, и меня давно тянуло побывать во владениях горных духов. Двадцать лет назад я провёл там два дня в полном одиночестве. В первый день я не заметил ничего особенного и долго работал, делая этюды. Однако по небу шли густые облака, меняя освещение, и мне не удавалось схватить прозрачность горного воздуха. Я решил остаться ещё на день, заночевав в лесу, в полуверсте от озера. К вечеру я ощутил странное жжение во рту, заставлявшее всё время сплёвывать слюну, и лёгкую тошноту. Обычно я хорошо выносил пребывание на высотах и удивился, почему на этот раз разреженный воздух так действует на меня.
Чудесное утро следующего дня обещало отличную погоду. Я поплёлся к озеру с тяжёлой головой, испытывая сильную слабость, но вскоре увлёкся работой и забыл обо всём. Солнце порядком пригревало, когда я закончил разработку этюда, впоследствии послужившего основанием для картины, и отодвинул мольберт, чтобы бросить последний взгляд на озеро.
Я очень устал, руки дрожали, в голове временами мутилось, и подступала тошнота. Тут я увидел духов озера. Над прозрачной гладью воды проплыла тень низкого облака. Солнечные лучи, наискось пересекавшие озеро, стали как будто ярче после минутного затмения. На удалявшейся границе света и тени я вдруг заметил несколько столбов призрачного сине-зелёного цвета, похожих на громадные человеческие фигуры в мантиях. Они то стояли на месте, то быстро передвигались, то таяли в воздухе. Я смотрел на небывалое зрелище с чувством гнетущего страха.
Ещё несколько минут продолжалось бесшумное движение призраков, потом в скалах замелькали отблески и вспышки кровавого цвета. А над всем висело светящееся слабым зелёным светом облако в форме гриба…
Я вдруг почувствовал прилив сил, зрение обострилось, далёкие скалы будто надвинулись на меня, я различил все подробности их крутых склонов. Схватив кисть, с дикой энергией я подбирал краски, стараясь торопливыми мазками запечатлеть необыкновенную картину.
Лёгкий ветерок пронёсся над озером, и мгновенно исчезли и облако, и сине-зелёные призраки. Только красные огни в скалах по-прежнему мрачно поблёскивали, дробясь на воде в отбрасываемых скалами тенях. Возбуждение, охватившее меня, ослабело, недомогание резко усилилось, словно жизненная сила утекала с концов пальцев, державших палитру и кисть. Предчувствие чего-то недоброго заставило меня торопиться. Я закрыл этюдник и собрал свои пожитки, чувствуя, как страшная тяжесть наваливается мне на грудь и голову…
Ветер над озером усиливался. Прозрачное голубое зеркало померкло. Облака закрыли вершины гор, и яркие краски окружающего быстро тускнели. Одухотворённая и чистая красота озера сменилась печальной хмуростью, красные отблески на месте призраков погасли, и лишь тёмные скалы чернели там среди пятен снега. Тяжёлое дыхание со свистом вырывалось из моей груди, когда я, борясь с упадком сил и давившей меня тяжестью, повернулся спиной к озеру. Путь до места, где, по уговору, ожидали меня мои проводники, отказавшиеся идти на Дены-Дерь, я прошёл как в смутном сне. Горы качались передо мной, приступы рвоты приводили меня в полное изнеможение. Временами я падал и долго лежал, не в силах подняться. Как я добрался до моих проводников, не помню, да это и безразлично. Главное, что привязанный на спине ящик с этюдами уцелел.