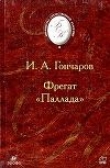Текст книги "Фрегат «Паллада»"
Автор книги: Иван Гончаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 52 страниц)
Разочарованные насчет победы над неприятелем [41], мы продолжали плыть по курсу в Аян. Погода была серенькая, но теплая, волнение небольшое, какое именно нам было нужно. Обеды Н. Н. Муравьева прекрасные, общество избранное и веселое, вино, до которого, впрочем, мне никакого дела нет, отличное, сигары – из первых рук – манильские, и состояние духа у всех приятное.
Любезная шкуна старалась, сколько могла, удовлетворить нашему нетерпению. Она усердно жгла некупленый, добытый руками ее матросов на Сахалине уголь да еще обвесилась парусами и бежала верст по четырнадцати в час. И горизонт уж не казался нам дальним и безбрежным, как, бывало, на различных океанах, хотя дугообразная поверхность земли и здесь закрывала даль и, кроме воды и неба, ничего не было видно. Но нам мерещились поля и домы родины, мы вдыхали в себя сырой морской воздух, воображая, что дышим ее воздухом. Наконец на четвертый день мы заметили на горизонте не поля, не домы, а какую-то серую, неприступную, грозную стену. Это была куча громадных утесов.
По мере нашего приближения они всё казались страшнее, отвеснее и неприступнее. Жилья и признаков нет; да и какое тут может быть жилье? кажется, на этих утесах и чайкам страшно сидеть. Пустота, голь и вышина, от которой дух занимается, да свист ветра – вот характер этого места. Здесь бы в старину хорошо поставить разбойничий замок, если б было кого грабить, а теперь разве поставить батареи. «Вон нора, должно быть, бобра!» – заметил кто-то, указывая на круглую, правильную лазейку в скале, прорытую почти вровень с водой.
Вглядыванье в общий вид нового берега или всякой новой местности, освоение глаз с нею, изучение подробностей – это привилегия путешественника, награда его трудов и такое наслаждение, перед которым бледнеет наслаждение, испытываемое перед картиной самого великого мастера. Посмотрите на толпу путешественников, когда они медленно подбираются к новому месту: на горизонте видна еще синяя линия берега, а они все наверху: равнодушных, отсталых, ленивых, сонных нет. Они стоят не шевелясь, как окаменелые, молчат, как немые, и если кто сделает вопрос, то робко, шепотом, и почти никогда не получит ответа. На лицах сначала напряженное внимание, в глазах вопросы, потом целая страница мыслей, живых впечатлений, удовлетворенного или неудовлетворенного любопытства. Я, под шумок, незаметно от товарищей своих, наслаждался, по праву путешественника, и картиной нового берега и поверял свои впечатления по лицам спутников. «Где же Аян?» – спрашивают наконец нетерпеливые, отвращая взгляды от безжизненных утесов, которые недолго изучить.
Как берег ни красив, как ни любопытен, но тогда только глаза путешественника загорятся огнем живой радости, когда они завидят жизнь на берегу. Шкуна между тем, убавив паров, подвигалась прямо на утесы. Вот два из них вдруг посторонились, и нам открылись сначала два купеческих судна на рейде, потом длинное деревянное строение на берегу с красной кровлей.
Кровля пуще всего говорит сердцу путешественника, и притом красная: это целая поэма, содержание которой – отдых, семья, очаг – все домашние блага. Кто не бывал Улиссом на своем веку и, возвращаясь издалека, не отыскивал глазами Итаки? «Это пакгауз», – прозаически заметил кто-то, указывая на дразнившую нас кровлю, как будто подслушав заветные мечты странников.
Ущелье всё раздвигалось, и наконец нам представилась довольно узкая ложбина между двух рядов высоких гор, усеянных березняком и соснами. Беспорядочно расставленные, с десяток более нежели скромных домиков, стоящих друг к другу, как известная изба на курьих ножках, – по очереди появлялись из-за зелени; скромно за ними возникал зеленый купол церкви с золотым крестом. На песке у самого берега поставлена батарея, направо от нее верфь, еще младенец, с остовом нового судна, дальше целый лагерь палаток, две-три юрты, и между ними кочки болот. Вот и весь Аян.
Это не город, не село, не посад, а фактория Американской компании. Она возникла лет десять назад для замены Охотского порта, который неудобен ни с морской, ни с сухопутной стороны. С моря он гораздо открытее Аяна, а с сухого пути дорога от него к Якутску представляет множество неудобств, между прочим так называемые Семь хребтов, отраслей Станового хребта, через которые очень трудно пробираться. Трудами преосвященного Иннокентия, архиепископа камчатского и курильского, и бывшего губернатора камчатского, г-на Завойки, отыскан нынешний путь к Охотскому морю и положено основание Аянского порта.
Этот порт открыт только с S, и ветер с этой стороны разводит крупное волнение. Американская компания имеет здесь склады иностранных товаров, привозимых ее судами, и снабжает иностранные суда разными потребностями: деревом, якорями, морскими картами, сухарями, холстом и т. п.
Если здесь разовьется торговля и примет когда-нибудь большие размеры, то, вероятно, устроится и брекватер, или мол, для защиты рейда от S ветров. Теперь же пока это скромный, маленький уголок России, в десяти тысячах пятистах верстах от Петербурга, с двумястами жителей, состоящих, кроме командира порта и некоторых служащих при конторе лиц с семействами, из нижних чинов, командированных сюда на службу казаков и, наконец, якутов. Чиновники компании помещаются в домах, казаки в палатках, а якуты в юртах. Казаки исправляют здесь военную службу, а якуты статскую. Первые содержат караул и смотрят за благочинием; одного из них называют даже полицеймейстером; а вторые занимаются перевозкой пассажиров и клади, летом на лошадях, а зимой на собаках. Якуты все оседлые и христиане, все одеты чисто и, сообразно климату, хорошо. И мужчины и женщины носят фризовые капоты, а зимой – олений или нерпичий мех, вывороченный наизнанку. От русских у них есть всегда работа, следовательно, они сыты, и притом, я видел, с ними обращаются ласково.
«Отдай якорь!» – раздалось для нас в последний раз, и сердце замерло и от радости, что ступаешь на твердую землю, чтоб уже с нею не расставаться, и от сожаления, что прощаешься с морем, чтобы к нему не возвращаться более.
Конец благополучну бегу,
Спускайте, други, паруса!
– воскликнул бы я, от избытка радости, если б в самом деле это был конец бегу. Но десять тысяч верст остается до той красной кровли, где будешь иметь право сказать: я дома!.. Какая огромная Итака и каково нашим Улиссам добираться до своих Пенелоп! Десять тысяч верст: чего-чего на них нет! Тут целые океаны снегов, болот, сухих пучин и стремнин, свои сорокаградусные тропики, вечная зелень сосен, дикари всех родов, звери, начиная от черных и белых медведей до клопов и блох включительно, снежные ураганы, вместо качки – тряска, вместо морской скуки – сухопутная, все климаты и все времена года, как и в кругосветном плавании…
Проберешься ли цело и невредимо среди всех этих искушений? Оттого мы задумчиво и нерешительно смотрели на берег и не торопились покидать гостеприимную шкуну. Бог знает, долго ли бы мы просидели на ней в виду красивых утесов, если б нам не были сказаны следующие слова: «Господа! завтра шкуна отправляется в Камчатку, и потому сегодня извольте перебраться с нее», а куда – не сказано. Разумелось, на берег.
Но в Аяне, по молодости лет его, не завелось гостиницы, и потому путешественники, походив по берегу, купив что надобно, возвращаются обыкновенно спать на корабль. Я посмотрел в недоумении на барона Крюднера, он на Афанасья, Афанасий на Тимофея, потом поглядели на князя Оболенского, тот на Тихменева, а этот на кучера Ивана Григорьева, которого князь Оболенский привез с собою на фрегате «Диана», кругом Америки.
Люди наши, заслышав приказ, вытащили весь багаж на палубу и стояли в ожидании, что делать. Между вещами я заметил зонтик, купленный мной в Англии и валявшийся где-то в углу каюты. «Это зачем ты взял?» – спросил я Тимофея. «Жаль оставить», – сказал он. «Брось за борт, – велел я, – куда всякую дрянь везти?» Но он уцепился и сказал, что ни за что не бросит, что эта вещь хорошая и что он охотно повезет ее через всю Сибирь. Так и сделал.
Нам подали шлюпки, и мы, с людьми и вещами, свезены были на прибрежный песок и там оставлены, как совершенные Робинзоны. Что толку, что Сибирь не остров, что там есть города и цивилизация? да до них две, три или пять тысяч верст! Мы поглядывали то на шкуну, то на строения и не знали, куда преклонить голову. Между тем к нам подошел какой-то штаб-офицер, спросил имена, сказал свое и пригласил нас к себе ужинать, а завтра обедать. Это был начальник порта.
Барон Крюднер ожил; облако исчезло с лица его. «Il y a une providence pour les voyageurs! [42] – воскликнул он, – много я на своем веку получал приглашений на обед или ужин, но всегда порознь: и вот здесь, на пустом берегу, среди дикарей, – приглашение на обед и ужин разом!»
Но обед и ужин не обеспечивали нам крова на приближавшийся вечер и ночь. Мы пошли заглядывать в строения: в одном лавка с товарами, но запертая. Здесь еще пока такой порядок торговли, что покупатель отыщет купца, тот отопрет лавку, отмеряет или отрежет товар и потом запрет лавку опять. В другом здании кто-то помещается: есть и постель, и домашние принадлежности, даже тараканы, но нет печей. Третий, четвертый домы битком набиты или обитателями местечка, или опередившими нас товарищами.
Но, однако ж, кончилось все-таки тем, что вот я живу, у кого – еще и сам не знаю; на досках постлана мне постель, вещи мои расположены как следует, необходимое платье развешено, и я сижу за столом и пишу письма в Москву, к вам, на Волгу.
«Decidement il y a une providence pour les voyageurs!» [43] – скажу вместе с бароном Крюднером. Места поочистились, некоторые из чиновников генерал-губернатора отправились вперед, и один из них, самый любезный и приятный из чиновников и людей, М. С. Волконский, быстро водворил меня и еще одного товарища в свою комнату. Правда, тут же рядом, через перегородку, стоял покойник, и я с вечера слышал чтение псалмов, но это обстоятельство не помешало мне самому спать как мертвому.
Через три дня предстояло отправляться далее, а мы жили буквально спустя рукава. Нас всех, Улиссов, разделили на три партии, чтоб не встретилось по дороге затруднения в лошадях. Одна партия уже уехала, другая выезжала через день. Оставались мы трое: князь Оболенский, Тихменев и я, да с нами четверо людей. У князя кучер Иван Григорьев, рассудительный и словоохотливый человек, теперь уже с печатью кругосветного путешествия на челе, да Ванюшка, молодой малый, без всякого значения на лице, охотник вскакнуть на лошадь и промчаться куда-нибудь без цели да за углом, особенно на сеновале, покурить трубку; с Тихменевым Витул, матрос с фрегата, и со мной Тимофей, повар.
Только по отъезде третьей партии, то есть на четвертый день, стали мы поговаривать, как нам ехать, что взять с собой и проч. А выехать надо было на шестой день, когда воротятся лошади и отдохнут. Зимой едут отсюда на собаках, в так называемых нартах, длинных, низеньких санках, лежа, по одному человеку в каждых. Летом надо ехать верхом верст двести, багаж тоже едет верхом, вьюками. Далее, по рекам Мае и Алдану, спускаются в лодках верст шестьсот, потом сто восемьдесят верст опять верхом, по болотам, наконец, остальные верст двести пятьдесят, до Якутска, на телегах.
Еще в тропиках, когда мелькало в уме предположение о возможности возвратиться домой через Сибирь, бывшие в Сибири спутники говорили, что в Аяне надо бросить все вещи и взять только самое необходимое; а здесь теперь говорят, что бросать ничего не надобно, что можно увязать на вьючных лошадей всё, что ни захочешь, даже книги.
Сказали еще, что если я не хочу ехать верхом (а я не хочу), то можно ехать в качке (сокращенное качалке), которую повезут две лошади, одна спереди, другая сзади. «Это-де очень удобно: там можно читать, спать». Чего же лучше? Я обрадовался и просил устроить качку. Мы с казаком, который взялся делать ее, сходили в пакгауз, купили кожи, ситцу, и казак принялся за работу.
«Помилуйте! – начали потом пугать меня за обедом у начальника порта, где собиралось человек пятнадцать за столом, – в качках возят старух или дам». Не знаю, какое различие полагал собеседник между дамой и старухой. «А старика можно?» – спросил я. «Можно», – говорят. «Ну так я поеду в качке».
«Сохрани вас Боже! – закричал один бывалый человек, – жизнь проклянете! Я десять раз ездил по этой дороге и знаю этот путь как свои пять пальцев. И полверсты не проедете, бросите. Вообразите, грязь, брод; передняя лошадь ушла по пояс в воду, а задняя еще не сошла с пригорка, или наоборот. Не то так передняя вскакивает на мост, а задняя задерживает: вы-то в каком положении в это время? Между тем придется ехать по ущельям, по лесу, по тропинкам, где качка не пройдет. Мученье!»
«Всё это неправда, – возразила одна дама (тоже бывалая, потому что там других нет), – я сама ехала в качке, и очень хорошо. Лежишь себе или сидишь; я даже вязала дорогой. А верхом вы измучитесь по болотам; якутские седла мерзкие…»
«Седло купите здесь, у Американской компании, черкесское: оно и мягко, и широко…» – «Эй, поезжайте в качке…» – «Нет, верхом: спасибо скажете…» – «Не слушайте их…» – «В качке на Джукджур не подниметесь…»
«Что это такое Джукджур?» – спросил я, ошеломленный этими предостережениями и поглядывая на всех.
«Вы не знаете, что такое Джукджур?– спросили меня вдруг все. – Помилуйте, Джукджур!..»
«Джукджур, – начал один учено-педантически, – по-тунгусски значит большая выпуклостьи нашим и вашим…» – «Совсем не то; это просто две кожаные сумки, которые вешают по бокам лошади для провизии и вообще для всего, что надо иметь под рукой». – «А ящики есть?» – спросили опять. «Нет; а разве надо?» – «Как же вы повезете вещи? В чемоданах и мешках не довезете: лошадь будет драть их и о деревья, и вязнуть в болотах, и… и… и т. д. А в каждый ящик положите по два с половиной пуда и навьючьте на лошадь. Чемодан бросьте». – «Зачем бросать? всё возьмите!» – заметил бывалый. «А зонтик можно взять?» – спросил Тимофей, несмотря на мой свирепый взгляд. «И зонтик возьми», – был ответ.
«Сары, сары не забудьте купить!» – «Это еще что?» – «Сары – это якутские сапоги из конской кожи: в них сначала надо положить сена, а потом ногу, чтоб вода не прошла; иначе по здешним грязям не пройдете и не проедете. Да вот зайдите ко мне, я велю вам принести».
И мой любезный хозяин Михаил Сергеевич повел меня к себе и велел позвать Александру. Пришла якутка, молодая и, вероятно, в якутском вкусе красивая, с плоским носом, с узенькими, но карими глазами и ярким румянцем на широких щеках. «Здравствуй…» – тут он сказал что-то по-якутски. «Что это значит?» – спросил я. «Прекрасная женщина». – «Есть сары?» – «Есть». – «Принеси». – «Слусаю», – отвечала она и через пять минут принесла сапоги на слона с запахом вспотевшей лошади и сала, которым они и были вымазаны. «Вынеси, вынеси скорей! – закричал я, – ужели их надевают люди?» – спросил я Михаила Сергеевича. «И очень порядочные, – отвечал он, – и вы наденете».
Но я подарил их Тимофею, который сильно занят приспособлением к седлу мешка с чайниками, кастрюлями, вообще необходимыми принадлежностями своего ремесла, и, кроме того, зонтика, на который более всего обращена его внимательность. Кучер Иван Григорьев во всё пытливо вглядывался. «Оно ничего: можно и верхом ехать, надо только, чтоб всё заведение было в порядке», – говорит он с важностью авторитета. Ванюшка прилаживает себе какую-то щегольскую уздечку и всякий день всё уже и уже стягивается кожаным ремнем.
П. А. Тихменев, взявшийся заведовать и на суше нашим хозяйством, то и дело ходит в пакгауз и всякий раз воротится то с окороком, то с сыром, поминутно просит денег и рассказывает каждый день раза три, что мы будем есть, и даже – чего не будем. «Нет, уж курочки и в глаза не увидите, – говорит он со вздохом, – котлет и рису, как бывало на фрегате, тоже не будет. Ах, вот забыл: нет ли чего сладкого в здешних пакгаузах? Сбегаю поскорей; черносливу или изюму: компот можно есть». Схватит фуражку и побежит опять.
Наконец в одно в самом деле прекрасное утро перед домиком, где мы жили, расположился наш караван, состоявший из восьми всадников и семнадцати лошадей, считая и вьючных. «А где же качка?» – спрашиваю я. Один из служащих улыбается, глядя на меня; а казак, который делал мне качку, вместо нее подводит оседланную лошадь. Гляжу: на ней и черкесское седло, и моя подушка. «Качки нет, – сказал мне Б., – не поспела». Я понял, что меня обманули в мою пользу, за что в дороге потом благодарил не раз, молча сел на лошадь и молча поехал по крутой тропинке в гору.
Все жители Аяна столпились около нас: все благословляли в путь. Ч. и Ф., без сюртуков, пошли пешком проводить нас с версту. На одном повороте за скалу Ч. сказал: «Поглядите на море: вы больше его не увидите». Я быстро оглянулся, с благодарностью, с любовью, почти со слезами. Оно было сине, ярко сверкало на солнце серебристой чешуей. Еще минута – и скала загородила его. «Прощай, свободная стихия! в последний раз…»
От Аяна едешь по ложбинам между гор, по руслу речек и горных ручьев, которые в дожди бурлят так, что лошади едва переходят вброд, уходя по уши. Каково седоку? Немного хуже, чем лошади. Теперь сухо, и мы едва мочили подошвы; только переправляясь через Алдаму, должны были поднять ноги к седлу. ичего нет ужасного в этих диких пейзажах, но печального много. По дороге идет густой лиственный лес; едешь по узенькой, усеянной пнями тропинке. Потом лес раздвигается, и глазам является обширное, забросанное каменьями болото, которое в дожди должно быть непроходимо. Щебень составляет природное дно речек, а крупные каменья набросаны, будто в виде украшений, с утесов, которые стоят стеной и местами поросли лесом, местами голы и дики. Нигде ни признака жилья, ни встречи с кем-нибудь. По этой дороге человек в первый раз, может быть, прошел в 1845 году, и этот человек, если не ошибаюсь, был преосвященный Иннокентий, архиепископ камчатский и курильский. Он искал другой дороги к морю, кроме той, признанной неудобною, которая ведет от Якутска к Охотску, и проложил тракт к Аяну.
По деревьям во множестве скакали зверки, которых здесь называют бурундучками, то же, кажется, что векши, и которыми занималась пристально наша собака да кучер Иван. Видели взбегавшего по дереву будто бы соболя, а скорее черную белку. «Ах, ружье бы, ружье!» – закричали мои товарищи.
Дорогу эту можно назвать прекрасною для верховой езды, но только не в грязь. Мы легко сделали тридцать восемь верст и слезали всего два раза, один раз у самого Аяна, завтракали и простились с Ч. и Ф., провожавшими нас, в другой раз на половине дороги полежали на траве у мостика, а потом уже ехали безостановочно. Но тоска: якут-проводник, едущий впереди, ни слова не знает по-русски, пустыня тоже молчит, под конец и мы замолчали и часов в семь вечера молча доехали до юрты, где и ночевали.
Я думал хуже о юртах, воображая их чем-то вроде звериных нор; а это та же бревенчатая изба, только бревна, составляющие стену, ставятся вертикально; притом она без клопов и тараканов, с двумя каминами; дым идет в крышу; лавки чистые. Мы напились чаю и проспали до утра как убитые.
Еще проехали день и ночевали в юрте у подошвы Джукджура. Я нанял двух якутов сопровождать меня по горе и помогать подниматься. Что за дорога была вчера! Пустыни, пустыни и пустыни, девственные, если хотите, но скучные и унылые. Мы ехали горными тропинками, мимо оврагов, к счастию окаймленных лесом, проехали вброд множество речек, горных ручьев и несколько раз Алдаму, потом углублялись в глушь лесов и подолгу ехали узенькими дорожками, пересекаемыми или горизонтально растущими сучьями, или до того грязными ямами, что лошадь и седок останавливаются в недоумении, как переехать или перескочить то или другое место. И это еще, говорят, безделица в сравнении с предстоящими грязями, где лошадь уходит совсем. «А что ж в это время делает седок?» – спросил я. «Падает в грязь», – отвечали мне.
Видели мы по лесу опять множество бурундучков, опять quasi-соболя, ждали увидеть медведя, но не видали, видели только, как якут на станции, ведя лошадей на кормовище в лес, вооружился против «могущего встретиться» медведя ружьем, которое было в таком виде, в каком только первый раз выдумал его человек. Лошадям здесь овса не положено давать, за неимением его, зато травы из-под ног – сколько хочешь. По приезде на станцию их отведут в лес и там оставят до утра. Лес по дороге был лиственничный, потом стала появляться ель, сосна, шиповник. Много росло по пути брусники и рябины. Матрос наш набрал целую кружку первой, а рябину с удовольствием ел кучер Иван, жалея только, что ее не хватило морозцем.
Видели мы кочевье оленных тунгусов со стадом оленей. Тишина и молчание сопровождали нас. Только раз засвистала какая-то птичка, да, кажется, сама испугалась и замолчала, или иногда вдруг из болота выскакивал кулик, местами в вышине неслись гуси или утки, всё это пролетные гости здесь. Не слыхать и насекомых.
Вчера мы сделали тридцать пять верст и нисколько не устали. Что будет сегодня? Ах, Джукджур, Джукджур: с ума нейдет!
Наконец совершилось наше восхождение на якутский, или тунгусский, Монблан. Мы выехали часов в семь со станции и ехали незаметно в гору буквально по океану камней. Редко-редко где на полверсты явится земляная тропинка и исчезнет. Якутские лошади малорослы, но сильны, крепки, ступают мерно и уверенно. Мне переменили вчерашнюю лошадь, у которой сбились копыта, и дали другую, сильнее, с крупным шагом, остриженную a la мужик.
Джукджур отстоит в восьми верстах от станции, где мы ночевали. Вскоре по сторонам пошли горы, одна другой круче, серее и недоступнее. Это как будто искусственно насыпанные пирамидальные кучи камней. По виду ни на одну нельзя влезть. Одни сероватые, другие зеленоватые, все вообще неприветливые, гордо поднимающие плечи в небо, не удостоивающие взглянуть вниз, а только сбрасывающие с себя каменья.
Я всё глядел по сторонам, стараясь угадать, которая же из гор грозный Джукджур: вон эта, что ли? Да нет, на эту я не хочу: у ней крут скат, и хоть бы кустик по бокам; на другой крупны очень каменья. Давно я видел одну гору, как стену прямую, с обледеневшей снежной глыбой, будто вставленным в перстне алмазом, на самой крутизне. «Ну, конечно, не эта», – сказал я себе. «Где Джукджур?» – спросил я якута. «Джукджур!» – повторил он, указывая на эту самую гору с ледяной лысиной. «Как же на нее взобраться?» – думал я.
Между тем я не заметил, что мы уж давно поднимались, что стало холоднее и что нам осталось только подняться на самую «выпуклость», которая висела над нашими головами. Я всё еще не верил в возможность въехать и войти, а между тем наш караван уже тронулся при криках якутов. Камни заговорили под ногами. Вереницей, зигзагами, потянулся караван по тропинке. Две вьючные лошади перевернулись через голову, одна с моими чемоданами. Ее бросили на горе и пошли дальше.
Я шел с двумя якутами, один вел меня на кушаке, другой поддерживал сзади. Я садился раз семь отдыхать, выбирая для дивана каменья помшистее, иногда клал голову на плечо якута. Двое товарищей уже взобрались и с вершины бросали на ледяную лысину каменья. Как я завидовал им! счастливцы! И собаке завидовал: она уж раза три вбежала на вершину и возвращалась к нам, а теперь, стоя на самой крутой точке выпуклости, лаяла на нас, досадуя на нашу медленность. А мне еще оставалось шагов двести. Каменья катились под ногами; якуты дали нам по палке. Наконец я вошел. Меня подкрепила рюмка портвейна. Как хорошо показалось мне вино, которого я в другое время не пью! У одного якута, который вел меня, пошла из носа кровь.
Остальная дорога до станции была отличная. Мы у речки, на мшистой почве, в лесу, напились чаю, потом ехали почти по шоссе, по прекрасной сосновой, березовой и еловой аллее. Встретили красивый каскад и груды причудливо разбросанных как будто взрывом зеленоватых камней.
На Джукджуре всего более отличился мой слуга Тимофей. Только что тронулся на крутизну наш караван и каменья зажурчали под ногами лошадей, вдруг Тимофей рванулся вперед и понесся в гору впереди всех. Он обогнал вьючных лошадей, обогнал проводников, даже собаку, и всё еще, с распростертыми руками, в каком-то испуге, несся неистово в гору. «Тимофей! куда ты? с ума сошел! – кричал я, изнемогая от усталости, – ведь гора велика, успеешь устать!» Но он махнул рукой и несся всё выше, лошади выбивались из сил и падали, собака и та высунула язык; несся один Тимофей. Наконец он и наши верховые лошади вбежали на вершину горы и в одно время скрылись из виду. «Зачем это ты?» – спросил я потом. «Однажды…» – начал он и не мог продолжать, задохся и уже на станции рассказал. «Зачем ты бежал так вверх?» – спросил я. Он, помолчав немного, начал так: «Однажды я ехал из Буюкдерэ в Константинополь и на минуту слез… а лошадь ушла вперед с дороги: так я и пришел пешком, верст пятнадцать будет…» – «Ну так что ж?» – «Вот я и боялся, – заключил Тимофей, – что, пожалуй, и эти лошади уйдут, вбежавши на гору, так чтоб не пришлось тоже идти пешком». – «Эти лошади уйдут!» – с горьким смехом воскликнул кучер Иван. А лошади, взойдя, стали как вкопанные и поникли головами.
Пустая юрта между Челасином и Маилом.
Вы, конечно, не удивляетесь, что я не говорю ни о каких встречах по дороге? Здесь никто не живет, начиная от Ледовитого моря до китайских границ, кроме кочевых тунгус, разбросанных кое-где на этих огромных пространствах. Даже птицы, и те мимолетом здесь. Зверей, говорят, много, но мы, кроме бурундучков и белок, других не видали. И слава Богу: встреча с медведем могла бы доставить удовольствие, а может быть, и некоторую выгоду – только ему одному: нас она повергла бы в недоумение, а лошадей в неистовый испуг.
Тоска сжимает сердце, когда проезжаешь эти немые пустыни. Спросил бы стоящие по сторонам горы, когда они и всё окружающее их увидело свет; спросил бы что-нибудь, кого-нибудь, поговорил хоть бы с нашим проводником, якутом; сделаешь заученный по-якутски вопрос: «Кась бироста ям?» («Сколько верст до станции?»). Он и скажет, да не поймешь, или «гра-гра» ответит («далеко»), или «чугес» («скоро, тотчас»), и опять едешь целые часы молча.
Выработанному человеку в этих невыработанных пустынях пока делать нечего. Надо быть отчаянным поэтом, чтоб на тысячах верст наслаждаться величием пустынного и скукой собственного молчания, или дикарем, чтоб считать эти горы, камни, деревья за мебель и украшение своего жилища, медведей – за товарищей, а дичь – за провизию.
Вчера мы пробыли одиннадцать часов в седлах, а с остановками – двенадцать с половиною. Дорога от Челасина шла было хороша, нельзя лучше, даже без камней, но верстах в четырнадцати или пятнадцати вдруг мы въехали в заросшие лесом болота. Лес част, как волосы на голове, болота топки, лошади вязли по брюхо и не знали, что делать, а мы, всадники, еще меньше. Переезжая болото, только и ждешь с беспокойством, которой ногой оступится лошадь.
Везде мох и болото; напрасно вы смотрите кругом во все стороны: нет выхода из бесконечных тундр, непроходимых без проводника. Горе тому, кто бы сам собой попробовал сунуться в сторону: дороги нет, указать ее некому. Болота так задержали нас, что мы не могли доехать до станции и остановились в пустой, брошенной юрте, где развели огонь, пили чай и ночевали. Холодно было; вчера летела изморозь, дул ветер, небо мрачное и темное – осень, осень. Наши проводники залезли к нам погреться; мы дали им по стакану чаю, хотели дать водки, но и у нас ее нет: она разбилась на Джукджуре, когда перевернулись две лошади, а может быть, наша свита как-нибудь сама разбила ее… Потом якуты повели лошадей на кормовище за речку, там развели огонь и заварили свои два блюда: варенную в воде муку с маслом и муку, варенную в воде, без масла.
Кучер Иван, по своей части, приобрел замечательное сведение, что здешние лошади живут будто бы по пятидесяти лет, и сообщил об этом нам. Не знаю, правда ли.
Уже вьючат лошадей, пора ехать, мы еще не сделали вчера сорока верст. Маил в нескольких верстах отсюда.
Опять пустая юрта.
Что Джукджур, что каменистая дорога, что горные речки – в сравнении с болотами! Подъезжаете вы к грязному пространству: сверху вода; проводник останавливается и осматривает, нет ли объезда: если нет, он нехотя пускает свою лошадь, она, еще более нехотя, но все-таки с резигнацией, без всякого протеста, осторожно ступает, за ней другие. Вдруг та оступилась передними, другая задними ногами, а та и теми и другими. Всадник в беспокойстве сидит – наготове упасть, если упадет лошадь, но упасть как можно безопаснее. Между тем лошадь чувствует, что она вязнет глубоко: вот она начинает делать отчаянные усилия и порывисто поднимает кверху то крестец, то спину, то голову. Хорошо в это время седоку! Наконец, побившись, она ложится набок, ложитесь поскорее и вы: оно безопаснее. Так я и сделал однажды.
Мы дотащились до Маила, где нашли прекрасную новую юрту, о двух комнатах, опрятную, с окнами, где слюда вместо стекол, пол усыпан еловыми ветками, лавки чистые, камин хоть сейчас в гостиную, только покрасить. Мы ехали от Маила до здешней юрты, всего двадцать верст, очень долго: нас задерживали беспрестанные объезды. Это своего рода пытка, вам неизвестная. В лесу немного посуше – это правда, но зато ноги уходят в мох, вся почва зыблется под вами. Вы едете вблизи деревьев, третесь о них ногами, ветви хлещут в лицо, лошадь ваша то прыгает в яму и выскакивает стремительно на кочку, то останавливается в недоумении перед лежащим по дороге бревном, наконец перескочит и через него и очутится опять в топкой яме.
Правду говорили мне в Аяне! Иногда якут вдруг остановится, видя, что не туда завел, впереди всё одно: непроходимое и бесконечное топкое болото, дорожки не видать, и мы пробираемся назад. Пытка! Кучер Иван пытается утешать, говорит, что «никакая дорога без лужи не бывает, сколько он ни езжал». Это правда.
В Маиле нам дали других лошадей, всё таких же дрянных на вид, но верных на ногу, осторожных и крепких. Якуты ласковы и внимательны: они нас буквально на руках снимают с седел и сажают на них; иначе бы не влезть на седло, потом на подушку, да еще в дорожном платье.
Погода вчера чудесная, нынче хорошее утро. Развлечений никаких, разве только наблюдаешь, какая новая лошадь попалась: кусается ли, лягается или просто ленится. Они иногда лукавят. В этих уже нет той резигнации, как по ту сторону Станового хребта. Если седло ездит и надо подтянуть подпругу, лошадь надует брюхо – и подтянуть нельзя. Иному достанется горячая лошадь; вон такая досталась Тимофею. Лошадь начинает горячиться, а кастрюли, привязанные у него к седлу, звенеть. Прочие по этому случаю острят, особенно кучер Иван.