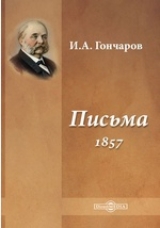
Текст книги "Письма (1857)"
Автор книги: Иван Гончаров
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ 25 июля (7 августа) 1857. Мариенбад
Marienbad, 25 июля / 7 августа.
Завтра, прекрасный мой друг Юния Дмитриевна, отравляется отсюда в Петербург одна из русских дам, Александра Михайловна Яковлева, и берется, с свойственною только женщине добротою, доставить моим друзьям несколько безделок на память. Я знаю, как Вы цените всякий ничтожный знак дружеского внимания, и оттого мне приятнее всего сказать Вам, как много и часто вспоминаю я о Вас. Вы получите две маленькие вазочки из неполированного фарфора с живописными цветами – для живых цветов. Желаю, чтоб маленький подарок мой застал Вас еще на даче и украсился северными, бледными, теперь уж отходящими цветами. Это – незнаменитое произведение знаменитых богемских фабрик. Другую безделку – судок для масла – передайте Евгении Петровне: знаю, что ей тоже приятно будет это дешевое выражение дорогого о ней воспоминания. Ведь десять или более лет назад она вспомнила же обо мне в Париже и привезла гостинец. Еще с этим же получите вы шесть игольников, тоже из стекла: один отдайте вашей Ляле и скажите, что пора учиться шить, а остальные раздайте дачным соседкам: Александре Ив[ановне] Срединой, Анне Ивановне Маркеловой и Александре Ивановне Яновской – только отнюдь не как подарок, а как поклон, потому что подарить такою вещью, которая стоит гривенник, никого нельзя. Если останутся еще, отдайте кому хотите, с поклоном от меня. Очень буду жалеть, если какой-нибудь толчок в дороге или таможня не допустят этих безделок до Вас. Что касается до Александры Михайловны Яковлевой, то это – воплощенная осторожность и деликатность: не разобьет и не потеряет. Прибавлю еще про нее, что она умна – без претензий, образованна – без педантизма и любезна – без всякого кокетства, словом, милая женщина, и сверх того добра – до снабжения меня русским чаем, которого здесь достать нельзя, – всё это такие достоинства, которые я ставлю высоко. Без всяких целей, то есть без желаний, без надежд, без волокитства, словом, без всего того, что тянет мужчин в общество женщин, я проводил досужные часы в ее обществе и не скучал. Согласитесь, что это очень много.
Старушке не посылаю ничего пока, потому отчасти, что Старик не написал мне ничего в ответ на мое длинное послание и я сердит, а более потому, что ни за что не решусь обременять еще посылкой и без того обязательную Александру Михайловну. До Парижа о них.
Я всё еще, как видите, здесь. Уезжаю через неделю – куда, сам не знаю: во Франкфурт сначала, я думаю. А там, в гостинице, спрошу у лакеев, куда бы поехать. Лакеи здесь преумные и преобразованные: лучше всяких гидов и указателей скажут, где веселее, как проехать. Спрашивал было горничную свою, Луизу, она тоже умна, да мало образованна и плохо знает географию. Мне всё равно, куда ни ехать. Александра Мих[айловна], много путешествовавшая, посылает меня в Швейцарию, но ведь там всё горы, а я без помощи коляски и двух лошадей не взберусь ни на одну, даю слово. Но, может быть, поеду и туда. Написал бы я к Льховскому, да он тоже не отвечает: занят, конечно, своей критикой и сенатскими делами, а если не занят, так мяучит с влюбленными котами где-нибудь по ночам на кровлях: уж не у Вас ли, мой друг? Может быть, и напишу перед отъездом.
Выше я сказал: досужные часы, стало быть, есть у меня и не досужные? Есть: угадайте, что я делаю? Не угадаете: живу, живу, живу: И для меня воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слезы… Только не любовь: она не воскреснет. Перед отъездом напишу Вам еще письмо, где объясню всё подробнее, то есть: что я делаю, как лечусь и в то же время как опять порчу, что вылечу. А теперь прощайте, поклонитесь дружески Александру Павловичу, соседям: Н. Ф. Козловскому, А. А. Средину, С. Д. Яновскому. Последнему скажите, что я ужасно озабочен мыслию о том, куда я денусь будущим летом. Получил ли и отдал ли Вам Льховский для прочтения мои письма из Варшавы, Дрездена и отсюда, адресованные к Вам и к Старику со Старушкой, с описанием моих приключений!? К Евгении Петровне и Николаю Аполлоновичу я бы написал сам, да не знаю, воротились ли они из деревни. Бурьке и Федору Ивановичу – тоже поклон: им купил по стеклянному ножу для разрезывания книг: если не разобью в дороге, то получат. Писать ко мне нечего, то есть некуда; я и сам не знаю, где я буду, а здесь письмо меня не застанет. Недели через две получите от меня еще послание, на имя Александра Павловича.
Весь всюду и всегда Ваш друг
И. Гончаров.
Аполлона и Анну Ивановну вы, верно, до меня не увидите, потому и не прошу кланяться им.
Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ 29 июля (9 августа) 1857. Мариенбад
Marienbad, 29 июля/ 9 августа.
Вот уж шестая неделя, несравненный друг мой Юния Дмитриевна, как я живу в Мариенбаде, и собираюсь уехать только в воскресенье дальше, куда-нибудь, мне всё равно. Я вспоминаю о Вас беспрестанно, и скажу почему. Но прежде скажу о своем здоровье и о леченье. Каждое утро встаю я в половине шестого и в седьмом часу являюсь к источнику пить от 3 до 4 больших кружек воды и хожу два, а иногда 2 ½ и даже до 3-х часов. Обедают в Мариенбаде в час, самые поздние в два, а я в четыре: не могу следовать общему правилу: кусок в горло нейдет; да притом перед обедом я беру – один день ванны из грязи, другой из минеральной воды, всё от печени. Грязь так черна, как деготь, и так густа, что с некоторым усилием надо продавить в ней себе место, чтоб сесть: опускаешься точно в болото. Зато тепло, 27 градусов, и притом она немного щиплет кожу. Напротив ванны стоит зеркало: я, вылезая оттуда, всякий раз посмотрю на себя и не налюбуюсь, потом займусь вытаскиванием комков, прутиков и мелких камешков, которые набьются везде, да и сидя в ванне, занимаюсь вытаскиванием из-под себя всякой дряни, то есть камней и щепочек. Рядом тут же стоит теплая ванна с водой: я перехожу в нее и опять делаюсь чист, бел и прекрасен, как Вы меня знаете. Можно утвердительно сказать, что Задиг и Элькан вместе во всю жизнь не переносили столько грязи на себе, сколько у меня бывает в один раз за одним ногтем. Обедаю я четыре блюда: пять ложек супу, баранью или телячью крошечную немецкую котлетку и полцыпленка, и самого тощего, как будто и он пил мариенбадскую воду. Вина я здесь не видал и ни разу не вспомнил о нем, о водке никто в Мариенбаде не слыхивал, фрукты и салат строжайше запрещены, как и всякая сырая зелень. Но кофе и чай позволены, кому что нравится. В 10 часов весь Мариенбад уже спит, и – подивитесь – я тоже, да ведь как: на днях была жесточайшая гроза, перебудившая всех, а я не слыхал. По-видимому, всё бы это должно было помочь, и помогает, я это чувствую. Припадков желудочных нет, желтых пятен на лице тоже, живешь на чистом воздухе: у меня перед окнами парк и горы, с лесами – всё, что Вы видите здесь на виньетке, [8]8
Письмо написано на почтовом листе с виньеткой, изображающей достопримечательности Мариенбада. – Ред.
[Закрыть] воздух – лучше даже Безбородкинской дачи, – и при всем том леченье мое едва ли удастся. Угадайте, отчего? Оттого, что ежедневно по возвращении с утренней прогулки, то есть с 10 часов до трех, я не встаю со стула, сижу и пишу… почти до обморока. Встаю из-за работы бледный, едва от усталости шевелю рукой… следовательно, что лечу утром, то разрушаю опять днем, зато вечером бегаю и исправляю утренний грех. А вспоминаю Вас часто, потому что – помните – как Вы на весь мир трещали, что я поеду, напишу роман, ворочусь здоровый, веселый – etc. etc. Как мне было досадно тогда на Вас! какими пустяками казалось Ваше пророчество. «Здоров, напишу роман: какая бестолковая! – думал я, – разве это возможно, разве не прошло это всё, и здоровье, и романы!» И что же: Вы чуть не правы! Да как Вы смеете быть правой, как Вы позволили себе предсказывать то, в чем я не только сомневался, но и отчаивался? Помню еще, как, на прощанье, Вы робко и торопливо перекрестили меня, но, видно, от чистого сердца и, конечно, очень искренно, от всей полноты дружбы пожелали мне покоя, веселья и опять-таки писанья. Представьте же, мой друг, что всё это вполовину, нет, больше нежели вполовину – уже исполнилось, и я ставлю себе в долг прежде всего сказать об этом Вам. Да что Вы, молитесь, что ли, за меня, продолжаете желать так же искренно, как и при отъезде? Видно, так. Так слушайте же: я приехал сюда 21 июня нашего стиля, а сегодня 29 июля, у меня закончена 1-я часть Обломова, написана вся 2-я часть и довольно много третьей, так что лес уже редеет и я вижу вдали… конец. Странно покажется, что в месяц мог быть написан почти весь роман: не только странно, даже невозможно, но надо вспомнить, что он созрел у меня в голове в течение многих лет и что мне оставалось почти только записать его; во-вторых, он еще не весь, в-3-х, он требует значительной выработки, в-4-х, наконец, может быть, я написал кучу вздору, который только годится бросить в огонь. Авось, Бог даст, годится на что-нибудь и другое, погожу бросать. Я бы охотно остался месяц еще здесь, потому что дальше, знаю, мне не удастся уже заняться писаньем; но не остаюсь потому, что недописанное нетрудно будет, несмотря на занятия, докончить и в Петербурге. Главное, что требовало спокойствия, уединения и некоторого раздражения, именно главная задача романа, его душа – женщина, уже написана, поэма любви Обломова кончена: удачно ли, нет ли – не мое дело решать, пусть решают Тургенев, Дудышкин, Боткин, Друж[инин], Анненк[ов] и публика, а я сделал, что мог. Но зато теперь уже кончено, больше никогда ничего не стану писать, не смейте предсказывать: типун сядет на язык. Я и то измучился. А хотелось бы сказать еще одно заветное, последнее сказанье… Но не могу, кончено. Если теперь и написал что-нибудь, так это, должно быть, мариенбадская вода помогла. Это что-нибудь составляет сорок пять моих писаных листов, а Вы знаете, что значит мой писаный лист. Надо считать 45 листов, написанных здесь, да первой части сколько! Будет ли три части, или конец я сокращу – еще не знаю сам, я занимаюсь настоящим и не спешу заглядывать в будущее, не знаю также, когда можно его печатать, где, – ничего не знаю. Посудите же, мой друг, как слепы и жалки крики и обвинения тех, которые обвиняют меня в лени, и скажите по совести, заслуживаю ли я эти упреки до такой степени, до какой меня ими осыпают? Было два года свободного времени на море, и я написал огромную книгу, выдался теперь свободный месяц, и, лишь только я дохнул свежим воздухом, я написал книгу! Нет, хотят, чтоб человек пилил дрова, носил воду, да еще романы сочинял, романы, то есть где не только нужен труд умственный, соображения, но и поэзия, участие фантазии! Если б это говорил только Краевский, для которого это – дело темное, я бы не жаловался, а то и другие говорят! варвары!
Вот о чем я хотел известить Вас первую, зная, что Вам весело будет от этого, вот отчего вспоминаю «о бестолковой предсказательнице» – с удовольствием, нужды нет, если б даже из этого ничего не вышло, все-таки месяц я был раздражен, занят и не чувствовал скуки, не замечал времени. Скажите Дудышкину, при поклоне от меня, с женой, что, несмотря на то что к его обыкновенной лени присоединилась еще лень женатого человека, я все-таки надеюсь, что он если не в нынешнем, так в будущем году пошевелит свое перо, чтоб – хоть задать мне журнальную потасовку.
В память удачного предсказания я послал Вам, милая моя Кассандра, две крошечные фарфоровые вазочки с живописью с богемских фабрик – для цветов. Это не подарок, потому что – для подарка – слабо, но в память Вашего дружеского провожанья. Их привезет Александра Михайловна Яковлева (вдова купца), премилая, преобразованная, без претензий и без кокетства женщина, за которой я не волочился, а между тем не скучал, видясь ежедневно у источника и на прогулках. Это чуть ли не в первый раз случилось со мной не скучать с женщиной без волокитства, и если случилось, так, право, не по моей, а по ее воле: она нисколько не кокетка и нравиться не желает. Она же привезет и отдаст Вам судок для сливочного масла из богемского стекла; вручите это от меня Евгении Петровне как стариннейшему другу и как любительнице масла. Я дал m-me Яковлевой и письмо на имя Александра Павловича: она приедет в Петерб[ург] 6-го августа на пароходе, а Вам нельзя ли послать к ней между 10 и 15 августом хоть Константина с прилагаемой запиской на ее имя, по которой она отдаст и вещи. Если же Вы не пошлете сами и она до 15-го августа не дождется человека, то обещала прислать сама на железную дорогу или на Безбородкину дачу, где живет ее cousin. Только я забыл Вашу дачу и на адресе написал дача Дамке или Тейха, или, наконец, на железной дороге. Но мне бы хотелось избавить ее от хлопот, и лучше, если Вы пошлете к ней, а если будете в той стороне сами, то заезжайте, она очень проста, даже и мила, от нее узнаете много подробностей о моем житье-бытье. Живет она (ох, далеко) за Измайловским мостом, по Фонтанке, близ Троицы, в собственном доме. Посланные безделки не стоят хлопот, и только моя дерзость так велика, что решается задавать Вам хлопоты. За подарки их прошу не считать. Тут же в вазочку вложил я шесть стеклянных игольников: раздайте их соседкам по даче в виде только поклонов от меня, потому что они стоят по гривеннику и ими дарить нельзя. Один отдайте Вашей Ляле, чтоб она начала шить, два – Наталье и Юлии Сергеевне, да три остальные – Алексан[дре] Ив[ановне] Срединой, Анне Ивановне Маркеловой и m-me Яновской, если видитесь с ней. Если же, впрочем, это покажется Вам смешно и нелепо, так не делайте этого ничего, а бросьте их. Козлов[скому] и Средину – мои поклоны: спросите у них, могут ли они попросить в почтамте оставить для меня в почтовой карете место через Варшаву или Тауроген в начале октября, если я в сентябре напишу им, и дайте мне поаккуратнее знать об этом, когда я напишу Вам из Парижа, а то, пожалуй, придется в Варшаве ждать.
Скажите Льховскому, что я вчера получил от него письмо, но отвечать буду из Франкфурта, куда намерен отсюда отправиться, а там уже в гостинице спрошу у лакеев, куда бы лучше поехать: они всё знают и так обстоятельно рассказывают, где веселее, куда больше ездят Herrschaft (господа) и как удобнее проехать. Мне самому думается отправиться сначала из Франкф[урта] до Майнца, а там по Рейну до Кобленца и назад во Франкф[урт], оттуда по железной дороге, через Карлсруэ в Фрейбург, а там уже с почтой до Рейнского водопада в Шафгаузен, далее в Берн и в Женевское озеро, наконец, чрез Базель в Страсбург и Париж. Но боюсь, что лень одолеет. Может быть, сяду где-нибудь и, если станет охоты, – поработаю еще. Денег у меня еще осталось тысяч пять франков.
Поклонитесь Евгении Петровне и Николаю Аполл[оновичу], Аполлону и Старику с женами, Александру Павловичу жму руку, а Лялю целую. В том письме, которое получите от m-me Яковлевой, прописано всё то же, только я думал, что оно придет прежде.
Я написал Льховскому в последнем письме, что я сильно занят здесь одной женщиной, Ольгой Сергеевной Ильинской, и живу, дышу только ею: вероятно, он будет сначала секретничать, а Вы сначала спросите его о ней, скажите, что я и Вам писал, и заметьте, пожалуйста, поддался ли он мистификации, и после скажите мне. Эта Ильинская – никто другая, как любовь Обломова, то есть писанная женщина.
Теперь Вы мне не пишите, потому что я не знаю, куда поеду и где остановлюсь: посмотрю, что лакеи скажут.
Что если б доктор Франкль узнал, что я и вечером сегодня пишу это письмо? Он уж и за утро ворчит на меня! У меня щека болит от сырости, вчера простудился, да еще шмель укусил мне палец, боюсь, как бы завтра писать не помешал: этого нынче пуще всего боюсь.
Прощайте, милый друг, не показывайте моих безобразных писем никому или весьма немногим, например, Майк[овым], Льховск[ому], если они захотят, да только у себя дома.
Ваш друг
И. Гончаров.
И. И. ЛЬХОВСКОМУ 2 (14) августа 1857. Мариенбад
Мариенбад, 2/14 августа 1857.
Третьего дня я получил и второе Ваше письмо, любезнейший Льховский: горничная моя Луиза с радостью вбежала и подала мне, крича: «Ein Brief von ihrer Frau Gemahlin!» [9]9
Письмо от Вашей госпожи супруги (нем.)
[Закрыть] Она думает, что я женат, что приеду на будущий год сюда с женой и возьму ее в Россию, с жалованьем по 15 гульд[енов] в м[еся]ц, и верит так серьезно, что мне даже жалко. В первый раз я так бессовестно поступаю с женщиной. Вы пишете, что свергли с себя иго и изнываете уже целый месяц – одни. Виноват, сомневаюсь: Вам стыдно меня, даже себя, и Вы скрываете истину; да ежели б и расстались в самом деле, так уж теперь опять не одни. Я утопал в такой же лжи, и не раз, и признаюсь, никак не ожидал, чтоб Вы, не зараженные романтизмом, вооруженные юмором и анализом, позднейший человек, заразились таким злом и погрязли в нем до потери сил, до утраты бодрости. Вы заступили место другого, делаете всё то же, что он, и клянете ее, зачем она делала это с другим по страсти, что делает с Вами по привычке или за деньги: где логика? Уныние Ваше подозрительно: если б Вы освободились действительно, Вы бы не унывали, а радовались, занялись бы и были бы бодры и веселы.
Кобылин этот должен быть дурак: зачем он рассылает шрифт к хозяину? Когда же выйдет путешествие в свет? В январе – когда пройдет благоприятное время для продажи. Мне жаль, что оно остановилось. Что касается до предисловия, то, если у Вас выдастся в самом деле свободная минута, moment lucide [10]10
миг озарения (фр.)
[Закрыть], пользуйтесь и пишите скорей, не надеясь на то, что еще долго не понадобится и время будет впереди: того и гляди обманетесь. А мне самому, признаюсь, не хотелось бы возиться с этим. Отправив ко мне свое письмо, Вы должны были тотчас получить от меня письмо (третье из Мариенбада), в котором я объяснил, чтобы о Фаддееве оставили фразу в покое и чтоб Кобылин не смущался ею: до текста ему дела нет, или же распорядитесь Вы – исключите или оставьте, как вздумаете.
Я обещал в одном из писем объяснить Вам, что я делаю здесь. Теперь, может быть, Вы об этом уже знаете от Юнии Дмитриевны, к которой я писал на днях, но заплатил за письмо в здешней почтовой конторе и потому боюсь, дойдет ли оно. Кроме того, я послал ей некоторые пустяки, и именно две маленькие фарфоровые вазочки, а Евгении Петровне – судок для сливочного масла на память. Всё это очень дурно, но напомнит им меня, а Юниньке принесет, я знаю, непритворное удовольствие. Отсюда поехала в Россию одна барыня, А. М. Яковлева, вдова купца, очень милая женщина, и взялась, с женским великодушием, отвезти эти безделушки.
Да, сын мой Горацио: есть вещи, о которых не снилось нашим журналистам. Представьте себе, если можете, что я приехал сюда 21 июня нашего стиля и мне было так скучно, что я через три дня хотел уехать, дня три-четыре писал письма к Вам, к Языкову, в Симбирск – не знал, что делать, а числа эдак 25 или 26-го нечаянно развернул «Обломова», вспыхнул – и 31 июля у меня написано было моей рукой 47 листов! Я закончил первую часть, написал всю вторую и въехал довольно далеко в третью часть. Доктор мой Франкль видел, как сначала мне было скучно и потом как я успокоился, он был рад, заставая меня за работой. Но когда он заставал меня и в 10-м, и в 1-м, и в 3-м часу у письменного стола, он начал жаловаться, унимать и теперь бегает везде по русским больным и рассказывает, что я не вылечусь, потому что всё сижу и занимаюсь – статистикой! Безобразов сказал ему сначала о себе, что он литератор, а потом и обо мне, он смешал нас, и из этого всего вышла статистика. Кроме того, Франкль дал мне свои книги о Мариенбаде и думает, что я делаю описание о Мариенбаде для России и пишу также о нем. Пусть его думает! – Безобразов уехал. Я познакомился с его женой: оно бы ничего, да как-то разговорились о Луи Блане etc. Она прочла его историю в 8 томах и часа три говорила о ней, хоть бы самому Безобразову впору: не правда ли, что это немножко… безобразно?
Не знаю, вылечился ли я, я только знаю, что мне еще недели три пристальной работы осталось до окончания «Обломова». Локти уже давно на сцене. Поэма изящной любви кончена вся: она взяла много времени и места. Неестественно покажется, как это в месяц кончил человек то, чего не мог кончить в года? На это отвечу, что если б не было годов, не написалось бы в м[еся]ц ничего. В том и дело, что роман выносился весь до мельчайших сцен и подробностей и оставалось только записывать его. Я писал как будто по диктовке. И, право, многое явилось бессознательно; подле меня кто-то невидимо сидел и говорил мне, что писать. Например, в программе у меня женщина намечена была страстная, а карандаш сделал первую черту совсем другую и пошел дорисовывать остальное уже согласно этой черте, и вышла иная фигура. При этой фигуре мне не приходили в голову ни Е[лизавета] В[асильевна], ни А. А. – решительно никто, да и ни в одном из действующих лиц тоже. Меня иногда пугает, что у меня нет ни одного типа, а всё идеалы: годится ли это? Между тем для выражения моей идеи мне типов не нужно, они бы вели меня в сторону от цели. Или, наконец, надобен огромный, гоголевский талант, чтоб овладеть и тем и другим. – Меня перестала пугать мысль, что я слишком прост в речи, что не умею говорить по-тургеневски, когда вся картина обломовской жизни начала заканчиваться: я видел, что дело не в стиле у меня, а в полноте и оконченности целого здания. Мне явился как будто целый большой город, и зритель поставлен так, что обозревает его весь и смотрит, где начало, средина, отвечают ли предместия целому, как расположены башни и сады, а не вникает, камень или кирпич служили материалом, гладки ли кровли, фигурны ли окна etc. etc. Вся эта большая сказка должна, кажется, сделать впечатление, но какое и насколько, не умею еще решить. Герой, может быть, неполон: недостает той или другой стороны, не досказано, не выражено многое: но я и с этой стороны успокоился: а читатель на что? Разве он олух какой-нибудь, что воображением не сумеет по данной автором идее дополнить остальное? Разве Печорины, Онегины, Бельтовы etc. etc. досказаны до мелочей? Задача автора – господствующий элемент характера, а остальное – дело читателя. Может быть, из всех – великих и малых талантов – один Сервантес успел досказать во всей подробности своего героя, зато местами и скучновато. Зотов тоже досказывает чрезвычайно подробно свои лица, Достоевский уже до nec plus ultra [11]11
до последней степени (лат).
[Закрыть] подробно, но я не лезу ни в Сервантесы, ни в Зотовы и Достоевские – тоже. – Я, однако же, не хлопаю крыльями, как петух, не кричу о своей победе, потому что не знаю, куда я вскочил: может быть, на навозную кучу. Поэтому скажите Юниньке, которой я писал о своей работе, чтоб она не трещала очень о ней. Чего доброго, пожалуй, придется спрятать ее со стыдом под спуд. Например, женщина, любовь героя, Ольга Сергеевна Ильинская, – может быть, такое уродливое порождение вялой и обессиленной фантазии, что ее надо бросить или изменить совсем: я не знаю сам, что это такое. Выходил из нее сначала будто образ простоты и естественности, а потом, кажется, он нарушился и разложился. Да, может быть, это всё очень глупо. Я в недоумении: между тем мне скорей хочется уехать отсюда в Лозанну, в Берн, в Веве, куда-нибудь и запереться еще на месяц и приехать назад и сказать: я кончил, кончил. Мне уже слышится Ваша сдержанная речь, как Вы по чайной ложечке лакомите меня ласковой похвалой, мне снятся широкие объятия Тургенева или молчаливая, затаенная досада тех, которые не любят чужого успеха. Но на всю эту смеющуюся перспективу я смотрю, как на сон, едва сбыточный. Времена не те, и свежесть во мне не та – и всё не то. – А сколько еще выработки предстоит – ужасно подумать: одно только отрадно, что выработка – не труд, а наслаждение. – Как же это случилось, что я, человек мертвый, утомленный, равнодушный ко всему, даже к собственному успеху, вдруг принялся за труд, в котором было отчаялся? И как принялся, если б Вы видели! Я едва сдерживал волнение, мне ударяло в голову, Луиза заставала меня в слезах, я шагал по комнате как сумасшедший и бегал по горам и лесам не чувствуя под собой ног. Этого ничего не бывало и в молодости. Увы, всё объясняется очень просто. Мариенбадская вода производит страшное волнение, так что полнокровным дают ее пить очень осторожно и немного. Иные пьют по шести кружек, а мне доктор велел пить по три. Недавно в книге Франкля я прочел, что здешняя вода, между прочими последствиями, производит «расположение к умственной и духовной деятельности». Вот и секрет. К этому прибавьте чудный воздух, движение по пяти часов в день, известную диету и отсутствие всякого признака вина и водки – и тогда станет понятно, как могла в месяц написаться вещь, не написавшаяся в восемь лет. Теперь чемодан мой возымел для меня больше значения: я равнодушно смотрел, как кидали его из вагона в вагон, а теперь буду беспокойно смотреть на эту операцию. Я известил Юниньку первую о том, что время мое не пропадает здесь даром, потому что она больше всех, даже больше меня, желала этого и так от души простилась со мной и даже перекрестила. Если б я знал, что кончу всё остальное, то не поехал бы в Париж, а остался бы где-нибудь в уголке Швейцарии, да боюсь, не кончу, ведь мариенбадской воды не будет более и после буду жалеть. Действие уже происходит на Выборгской стороне: надо изобразить эту выборгскую Обломовку, последнюю любовь героя и тщетные усилия друга разбудить его. Может быть, всё это уляжется в нескольких сценах – и тогда хвала, хвала тебе, герой! Меня тут радует не столько надежда на новый успех, сколько мысль, что я сбуду с души бремя и с плеч обязанность и долг, который считал за собой. Дай Бог! Тогда года через два, если будет возможность, можно приехать вторично сюда, с художником под мышкой и исполнить надежды Луизы хоть вполовину.
Я еду послезавтра отсюда во Франкфурт, там хотелось бы в Майнц и по Рейну проехать до Кобленца и опять во Франкфурт, чтобы ехать по железной дороге чрез Карлсруэ до Фрейбурга к Шафгаузену и к Рейнскому водопаду, и потом в Берн, в Веве, Лозанну, Женеву, Базель, а от Базеля три часа до Страсбурга, от Страсбурга 10 часов до Парижа. Впрочем, во Франкфурте поговорю с лакеями в гостинице: они лучше всего знают, как и куда ехать. Я здесь с ними обедаю в отели: то есть они за большим столом, а я рядом один за маленьким. Едим одно и то же. Кто-нибудь из них вскочит, подаст мне блюдо, потом сядет на свое место и продолжает обедать. Это происходит оттого, что я один обедаю в 4 часа, весь Мариенбад – в час. Я всё навыворот делаю, к великому соблазну доктора. Однако припадков не чувствую, печень покойна, только когда встаю, после четырех-пятичасовой работы из-за пера, бываю бледен и как бы избит, а после разбегаюсь по лесам – и пройдет. Мариенбад понемногу пустеет: здесь жила и недавно уехала Гессен-Касс[ельская] курфирстерша, с дочерью и ее женихом: в первый раз видел немца-джентльмена, с изящными манерами, и то владетельного герцога. Есть еще англичанка, девушка лет 20: это такое изящество, такое благородство, что я в первый раз в жизни бескорыстно издали наслаждаюсь созерцанием женщины. Когда она утром приходит к овчей купели пить воду, в своей утренней большой круглой шляпке с синим пером – она может быть поставлена выше Елиз[аветы] Вас[ильевны], в обыкновенной шляпке – ниже ее, а без шляпки – наравне. Есть еще две неаполитанки, красавицы, и муж одной из них, герцог ди Рока – такой фат, что даже Кашкаров скромнее. Я познакомился с одним чернигов[ским] помещиком Волжиным, то есть он узнал обо мне через Франкля и познакомился на променаде: у него жена красавица и сигары из Тенкате: regalia dos amigos; [12]12
подарок друзей (исп.)
[Закрыть] он меня потчует… только сигарами. И за то какое спасибо!
Познакомился я с адмиралом Панфиловым: он знает меня по «Морскому сборнику», и мы ходим с ним по горам. Вот русский характер во всей простоте и доброте! – Я раза три ходил на горы с А. М. Яковлевой и потом перестал, нельзя: Юния Дм[итриевна], конечно, очень боится лягушек, мать Огаревой еще больше, а эта, при виде ящериц, которых здесь множество, пришла в такой ужас, что я перепугался. Ее начало трясти и подергивать: я не знал, что мне делать. А я было одну ящерицу придержал тростью и хотел еще взять да поближе показать ей, какая – дескать, она красивая.
Напишите, что Старушка: оправилась ли от холерного припадка? Как бы хотелось теперь поиграть с Женичкой: не знаю, что бы такое привезти ей в гостинец, что бы Старушка не присвоила себе. В Париже выдумаю. Денег у меня осталось около пяти тысяч франков. Если от Швейцарии останется три тысячи, так поеду в Париж, а то так и нет. Рублей триста надо привезти в Варшаву, чтоб было там прожить чем в ожидании места в почтовом экипаже. Не увидите ли Маркелова: спросите, можно ли, тогда я извещу из Парижа о времени прибытия в Варшаву, написать туда, чтобы мне оставили место? Теперь пока не пишите мне: я не знаю, где остановлюсь и куда адресовать письма; не знаю также, когда я буду в Париже.
Поклонитесь Николаю Ап[оллоновичу] и Евгении Петровне, скажите, что я извиняюсь перед ней, что подарок мой дрянен, но это и не подарок, а знак памяти. Николаю Ап[оллоновичу] скажите, что если он кончил для меня головку, которую начал, то и я надеюсь заплатить ему чтением тоже нарисованной мной, конечно плохо, головки. Он любил слушать меня. Тургеневу скажите, когда приедет, что я умер, да не совсем и что, когда я писал, мне слышались его понуждения, слова, и что я мечтаю о его широких объятиях. Кланяйтесь Дудышк[ину], Кашкар[ову], Барышеву, Федору Ив[ановичу] и Бурьке, Аполлону с женой и проч. и проч. Весь Ваш
Гончаров.








