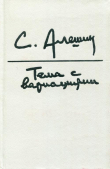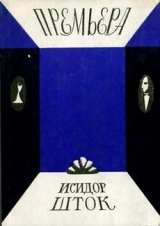
Текст книги "Премьера"
Автор книги: Исидор Шток
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Пасха

Моя бабушка ненавидела моего отца. Отец терпеть не мог бабушку. Мама любила обоих и очень страдала. Я был равнодушен к ним ко всем. Я любил театр. Если бы они все трое умирали у меня на глазах, я перешагнул бы через их трупы и побежал бы в театр. Любовь к театру принимала отвратительный характер. Я сидел на балконе или в партере на свободном месте и молился, чтобы спектакль продолжался подольше. Если бы пьесу играли подряд – заканчивали бы и снова начинали, как киноленту, я бы не покидал зрительный зал. Я пропускал занятия в школе, чтобы пойти на спектакль или на репетицию. Или стоять у служебного входа и ждать появления артистов. Я раздобыл много старых пьес и выучил их наизусть. Я их читал до тех пор, пока они сами не отпечатывались у меня в мозгу. Даже удивительно, как такой небольшой мозг мог вместить все драмы и комедии Шекспира, «Коварство и любовь», «Горе от ума», «Ревизор», «Лес», либретто старых оперетт, водевили, ничтожные фарсы вроде «Шпанской мушки», пьесы Леонида Андреева, ужасные переводы текстов «Кармен», «Севильского», «Лоэнгрина», «Фауста», «Паяцев»… В прихожей стоял огромный сундук, в котором хранились оперные и опереточные клавиры, годами накопленные отцом, дирижером и хормейстером.
В Харькове во время гражданской войны множество раз менялась власть, и моего отца, как представителя оперно-опереточной труппы, разные власти то сажали в тюрьму, то выпускали, то назначали директором театра, ректором консерватории, то снимали… А когда установилась мирная жизнь и отец одним из первых получил звание героя труда и «красного профессора музыки», я категорически заявил, что бросаю профшколу строительной специальности и поступаю в театральную студию, буду выдающимся актером на роли неврастеников и простаков. Тут же я сообщил презрительно смотревшему на меня отцу примерный список ролей: Хлестаков, Тетка Чарлея, Орленок, Раскольников, князь Мышкин и Дюруа в «Милом друге».
Отец плюнул, показал на свою большую ладонь и сказал:
– Когда на ней вырастут волосы. Не раньше.
И ушел в театр дирижировать «Тангейзером».
Мать выгладила отцу крепко накрахмаленную сорочку и понесла в театр. Бабушка сказала, что актерами могут быть или подлецы, или безумные. И привела в пример папу и маму. А я отправился к моему другу Мите Багрову, которому в этот же вечер родители запретили стать героем-любовником. Мы накурились до отвращения и решили по секрету от всех поступить в драмкружок мукомольной фабрики, помещавшейся в другом конце города.
Руководил драмкружком безработный артист Мицкевич, бывший когда-то участником изощренных бунтарско-сексуальных спектаклей, поставленных Борисом Глаголиным. Это была смесь старинных мистерий, арлекинад и пантомим, где голые фавны и наяды танцевали свои распутные танцы под звуки Сен-Санса. В антракте устраивались диспуты о свободной любви, о красоте обнаженного тела, о вреде стыда и о несовместимости революции с реализмом.
Потом театр закрылся, лопнул. Актеры разбрелись по другим труппам, где благополучно играли Чехова, Найденова, Сумбатова.
А Мицкевич, больной, спившийся, любитель кокаина и эфира, жил с квартирной хозяйкой, вдовой, которая содержала его впроголодь.
Драмкружок являл собой страннейший сброд любителей театра.
Там были мы с Митей, почти дети. Были разные дамы, жены ответственных работников, которые день и ночь заседали и почти не бывали дома. Были безработные актеры (одному было семьдесят девять лет), друзья Мицкевича. Было несколько юных и прекрасных девушек, они не могли никуда устроиться на работу, ибо ничего ие умели.
Для начала мы репетировали символическую драму Метерлинка «Пелеас и Мелисанда» и программу «Даешь муку, мукомолы!». Мы пели:
Ребята мукомолы,
Нам всюду ход открыт!
Под этот марш веселый
Куем мы новый быт.
В Метерлинке мы запутались и символическую драму отставили.
Концертная программа имела относительный успех, и мы решили поставить что-нибудь фундаментальное.
Мицкевич слег в больницу и оттуда не вышел. Своими силами мы, без режиссера, ставили драму «Великий коммунар». В начале двадцатых годов эту пьесу ставили многие драмкружки. Там было три действия. Первое происходило во время Великой французской революции (я играл пажа, влюбленного в королеву), второе – крепостное право (я был крепостным, которого самодур помещик засек до смерти). Третье – Октябрьская революция (я держал красный флаг). Репетиции шли прекрасно. Я забросил свою профшколу строительной специальности. А Митя Багров не ходил в свое коммерческое училище. Вечерами я прибегал домой и объяснял родителям, что у нас началась практика по вентиляции и канализации и мы работаем в артели, ремонтирующей общественные уборные на вокзалах.
Отцу нравилось, что я отвлекся от театра и прибился наконец к настоящему делу, может быть стану инженером. Странно только, что я не приношу домой зарплаты. Я открылся во всем маме. Она взяла у отца денег на расходы и отдала мне. А я за обедом вынул двенадцать рублей и вручил их отцу – первые «честно заработанные деньги». Отец отдал их маме на хозяйство. Бабушка заплакала от умиления.
В отличие от отца, который верил только в Музыку, бабушка верила в Бога. В сердитого и непреклонного Адоная. И даже все время собиралась пойти в синагогу на балкон (вниз женщин не пускали) и вымолить что-нибудь для себя и для меня. Но она боялась ходить по улице, боялась заблудиться, а попутчиков не было.
И вот настала суббота. Как всегда, православная пасха шла через неделю после иудейской. Улицы полны народу. В салфеточках несут куличи с бумажными цветами и крашеные яйца. Перед театром цветет акация.
Бабушка решилась. Достала из сундука черный парик. Повязала голову белым шарфом и пошла.
У входа в переулок, где помещалась синагога, ее встретили верующие и сказали, что синагогу закрыли и сегодня здесь уже открывают клуб. Бабушка вернулась домой.
За обедом она кипела. И наконец, преодолев отвращение, заговорила с отцом:
– Мосье Шток, – так в торжественные минуты называла она зятя, – вы известный человек в городе, «красный профессор»! Неужели вы не можете пристыдить их, убедить, что так делать нельзя, нужно открыть синагогу.
– Хорошо, – рассеянно сказал отец, – я поговорю. Мать с благодарностью посмотрела на отца. Бабушка
отвернулась от них и пробормотала довольно длинное проклятие.
Единственным человеком, сочувствовавшим ей, был я. Фальшиво сочувственным голосом я пересказал сегодняшнюю статью в газете. Нельзя, дескать, оскорблять чувства верующих. Затем лицемерно прибавил, что другая синагога находится очень далеко, на самой окраине города, до нее не добраться.
Бабушка поцеловала меня и ушла во двор поговорить с соседками. А я выкрал из ее сундука парик, завернул в белый шарф и отправился к мукомолам.
Там сообщили, что вечером у нас премьера. Спектакль состоится в новом клубе в синагоге. Идет первое действие «Великого коммунара».
И вот я, в бабушкином парике, подпоясанный ее белым шарфом, играю пажа. Я объясняюсь в любви к королеве (жена директора мукомольной фабрики), не подозревая, что ее муж – злобный феодал – стоит за дверью и все слышит. Boт он входит. Велит слугам казнить меня… Мерзкие слуги хватают меня за руки. Я бросаю последний влюбленный взгляд на рыдающую королеву и… вижу стоящего в кулисе моего отца.
А за ним толпа красноармейцев в полной форме. Это он приехал со своим солдатским хором на концерт.
Отец смотрит на меня. Он узнал меня.
– Пустите! – кричу я мерзким слугам, влекущим меня прямо к отцу. – Пустите.
Но мерзкие слуги крепко держат меня. Я вырываюсь. Нет. Они слишком крепко держат.
Занавеса нет. Его заменяют аплодисменты.
А я из рук мерзких слуг попадаю в руки отца. Он срывает с меня бабушкин парик. Но в этот момент ведущий объявляет выступление Красноармейского хора под управлением красного профессора.
– Мы с тобой дома… – шипит красный профессор. А я бросаюсь в актерскую уборную, стираю тряпкой грим, раздеваюсь и слышу, как хор исполняет кавказскую песню «Алла га! Алла гу! Слава нам! Смерть врагу!» и на бис «Долой, долой монахов, раввинов и попов!».
Домой я все-таки вернулся. Поздно ночью. Вдоволь нагулявшись с Митей Багровым, наплакавшись и накурившись.
Отец открыл дверь, дал мне затрещину. Потом добавил:
– Бабке я не сказал, где мы с тобой сегодня выступали. Но если ты еще раз посмеешь пойти в свою вонючую клоаку, я с тебя шкуру спущу. Канализатор!
Потом все в доме спали. Все, кроме меня. Я обдумывал драму моей жизни. Отца я убью, это решено. Бабушка меня проклянет, если узнает, что я делал сегодня в синагоге. Парик ее я потерял. Меня будут судить за убийство отца и за кражу. Я скажу на суде, что совершил преступление из любви к театру. Я придумал речь обвинителя. Речь защитника. Свою речь. Статью в газете. Прощальное письмо к жене мукомола, которую любил. Я придумал речь Мити Багрова на моих похоронах.
Тихонько, чтоб никого не разбудить, в уборную прошел отец. Я вспомнил, как он просил не говорить бабке, где мы сегодня выступали. И еще вспомнил, что он влюблен в одну хористку, и я как-то видел их в парке, и мы оба сделали вид, что не заметили друг друга. Я совершенно не осуждал отца и подумал, как это он, посвятивший свою жизнь театру, умный и образованный человек, не хочет, чтоб я стал актером. Странно… Потом я проникся величайшей жалостью к себе, к отцу, к бабке и к драмкружку мукомолов, куда мне больше ходить не придется. Потом я заснул.
Может быть, именно в эту ночь я стал драматургом.
«Зеленый попугай»

У дирижера Палешанина дочь покончила с собой. Бросилась под поезд. Было ей девятнадцать лет. Она была хорошенькая, черненькая, с кудряшками, училась на Высших музыкально-драматических курсах пению. Причина самоубийства – неразделенная любовь. Кажется, к одному драматическому тенору, исполнителю Самозванца, Германа, Радомеса.
В первые годы революции, когда люди умирали на фронте от ран, от тифа, от голода, умирать от любви было как-то неуместно. Просто неучтиво. Бессмысленно.
И отец ее к течение нескольких дней из Щеголя, аккуратного и интересного мужчины, превратился в согнутого старичка, небритого, с красными слезящимися глазками, понуро бродящего по улице, где помещался оперный театр. Дирижер жил один, никого, кроме дочери, у него не было, и вот… Горе его было настолько велико, что его даже никто не утешал. А друзья говорили, что Таня не бросилась под поезд, а, проходя по рельсам, просто почувствовала себя плохо.
Жалко было эту девчонку страшно. А тенор, герой ее романа, был довольно ничтожный человек, малограмотный актеришка, да к тому же еще и детонировавший в ариях и в ансамблях. За что его терпеть не мог мой отец. Л теперь возненавидел. В общем, через три месяца тенор ушел из труппы и переехал в другой город. А Таню мы все не могли забыть.
Я учился в школе строительной специальности. Из меня готовили техника-строителя, десятника, впоследствии инженера. Занимался я прескверно. Ходил на уроки нерегулярно. По физике, химии, черчению и геодезии был на последнем месте. На кой черт мне были эти науки, я не знал и никто этого мне пояснить не мог. Особенно я не любил геодезию и избегал ее всячески. Собственно говоря, я и сейчас не понимаю, зачем нужно учить человека наукам, которые ему прямо противопоказаны. Никогда насильное обучение не давало никакой пользы… Спустя много лет, попав на долгое время в Магнитогорск, будучи журналистом, я вдруг понял, как увлекательны постройка, монтаж и кладка доменных печей, мартенов, коксовых батарей, электростанций. Тогда, в строительной профшколе, мне и в голову не приходило, как в результате таких утомительно нудных занятий могут произойти люди, создающие сказочные города, заводы, комбинаты…
Из школы меня не выгоняли исключительно из-за бурной общественной деятельности. Я был руководителем драмкружка, его бессменным режиссером. Каждые два-три месяца мы выпускали новый спектакль. Мы ставили «Лекарь поневоле» Мольера, «Игру в плаху» Юрия Олеши, «Три путника и оно» Луначарского…
Спектакли были неважненькие, но в райкоме комсомола и в отделе народного образования нами были довольны, и директор гордился драмкружком.
К концу каждого семестра я подтягивался и кое-как сдавал экзамены, работал в мастерских, ходил на практику в канализационную артель.
А вечером, после утомительного дня, надевал чистый костюм и шел к Мите Багрову, на квартире которого мы устроили свой собственный «интимный театр-студию» под названием «Зеленый попугай».
У нас были композитор, свой поэт. До глубокой ночи мы сочиняли и репетировали различные песенки и скетчи, исполняли модные в тот год «Малютку Нелли», «Чичисбея», «Ночной Марсель». Мы изображали негров, парижских бульвардье, неаполитанских нищих…
Героиней наших представлений была Лиля Арендт. Она сидела на двух поставленных один на другой табуретах, изображающих бочку эля, а мы с Митей Багровым и его двоюродным братом Петькой изображали звероподобных матросов.
Она пела:
Кто тронет Нелли…
Мы пели:
Пойдет на дно!
Она пела:
Сильнее мели…
Мы пели:
Бурлит вино.
И все вместе:
Но как ни плачьте,
Висеть на мачте
Нам все равно суждено.
И она вскрикивала:
Олл райт!
Так мы работали, восхищенные песнями, самими собой и тем, что родители Мити Багрова уехали на все лето в Луганск на работы в рудники.
Мы нигде не выступали. Потому что выступать было негде, да и репертуар у нас довольно подозрительный.
Кроме того, я боялся отца. Он запретил мне выступать. К драмкружку в школе он относился как к неизбежному злу, но особого значения не придавал. Всякие же студии, театры, публичные выступления он мне запретил строго-настрого. И я боялся его ослушаться. Я знал его крутой нрав и тяжелую руку и боялся его страшно. Да и не его одного. Я боялся всех: преподавателей профшколы, соучеников, артельных мастеров, мальчишек на улице. Боялся и ожидал всего самого неприятного от окружающих.
В одном только «Зеленом попугае» – на квартире у Багрова – я чувствовал себя вольготно. Там мы были неистощимы на шутки, экспромты, буффонады. Никакой ответственности ни перед кем и ни перед чем. Казалось, что мы талантливы так, как никто до нас не был и не будет.
Кроме того, мы с Митей Багровым были до безумия влюблены в Лилю Арендт. Да и как было не влюбиться в нее – такую миниатюрную, легкую, с зелеными глазами, с челочкой, с чуть хрипловатым голосом, с всегда улыбавшимися губками.
Когда кончалась репетиция, мы шли ее провожать. Жила она очень далеко, за кладбищем, на самой окраине.
Район этот славился своими хулиганами. То есть таких хулиганов просто нигде на земле не было. Но никто на земле их так не боялся, как я. Если вечером девушку из их района шел провожать городской парень, расправа была с ним безжалостна. Его унижали перед девушкой, мазали ему рожу грязью, заставляли плавать на песке, снимали брюки и в таком виде выгоняли из района.
Жаловаться пострадавший не смел. Карающие руки хулиганов неминуемо настигли бы его в любой части города.
Поэтому мы шли вшестером, иногда вдесятером провожать Лилю. А встречал ее у дома папа – ветеринар, мужчина сильный и молодой.
Когда много парней провожают одну девушку, хулиганы не нападают. Массовых драк они не любят. Они предпочитают бить. И по возможности лежачего.
После репетиций мы шли провожать Лилю. По дороге забредали на кладбище. Там сидели на могилах, рассказывали при свете луны разные истории из жизни покойников. Испытывали нервы. Посматривали на Лилю – как она относится.
Лиля относилась довольно спокойно и даже иронически. Как, впрочем, ко всему на свете.
Была она старше Мити. И намного, чуть не на два года, старше меня. А в таком возрасте два года – это же пропасть! Да и по всему было видно, что Митю она предпочитает. Кроме того, он готовился стать героем, а я всего лишь простаком…
Но дело в том, что, миновав пору отрочества и переболев всеми детскими болезнями в мире, я стал усиленно расти. Я рос ежедневно и помногу. Все брюки мне становились коротки, рубашки узки, ботинки малы. А Митя расти перестал. Он оказался ниже меня сперва на полголовы. Потом на голову. Потом на шею и на голову.
Мы оба очень страдали. Ну куда ему с таким ростом играть трагика Кина или Марка Волохова! А мне, простаку, зачем мне нужна такая длина? По свойству моего характера я должен быть толстеньким блондинчиком, этаким шариком, танцором, шармером… А рос худосочным длинноносым верзилой.
Самым любимым моим занятием было валяться и читать. В связи с наступлением отрочества меня, естественно, интересовали произведения эротические. Например, роман «Мими Коллинз» или «Орхидея моей мечты». Там герой, уставший от жизни и приключений в Австралии, полюбил вдруг крошку Мими. И, умирая, шепчет ей:
«Ты дала каплю влаги выпить умирающему путнику… Словно блеск драгоценного бриллианта, ты осветила мой скорбный путь, Орхидея… Когда в долгие пряные ночи ты увидишь на небосклоне падающую звезду, – знай, это я».
Воспитанный на хорошей литературе, любитель Диккенса, Чехова и Кнута Гамсуна, я знал, что «Мими» это чепуха. И все же… Читал, не мог оторваться. Видел себя, умирающего в пустыне. И Лилю Арендт. Кругом падали звезды, кричали зеленые попугаи и выли желтые гиены.
Произошел неприятный разговор с отцом.
– Ну, предположим, – сказал он, – у тебя были бы данные: лицо, дикция, голос, талант. Этого же ничего нет. Есть только стремление быть актером. Ослиное упорство и нежелание никого слушать. Будешь влачить жалкую жизнь, слоняться из города в город, исполнять вторые сюжеты, кричать: «Положитесь на меня, сэр!» Сцена любит таланты. Выдающихся артистов!
Разговор свернул на покойную Таню Палешанину.
– Подальше от театра! Ведь я же знаю, о чем говорю. Ну хочешь, я найму репетитора. Через год ты кончишь школу, через пять лет институт. Обеспеченная жизнь, положение… Ты инженер, строитель… В театре ничтожеств хватает и без тебя. Я говорю об этом потому, что вижу, как ты бегаешь на вокзал и покупаешь театральные журнальчики и ночами Читаешь их… Ты мой единственный сын, и, естественно, я думаю о твоем будущем. Пока я только уговариваю. Но настанет день, и я силой заставлю тебя забыть театр. Силой!
Он закричал. Потом замолк. Потом ушел в курятник. у него был во дворе свой курятник, где он проводил свободное время. Выводил плимутроков и цесарок. Цыплят жрали крысы. Яиц он в дом не давал. Они все были у него помечены. Он хотел вывести гибрид цесарки, плимутрока и индейки. Пока из этого ничего не получалось. В дальнейшем тоже ничего не вышло, и он навсегда забросил курятник. Когда-то в Петербурге он разводил канареек и золотых рыбок. Потом коллекционировал фарфоровые тарелки. Его обманывали, всучивали подделки, разную дрянь. Переболев какой-либо страстью, он бросал ее навсегда, никогда больше к ней не возвращался. Страсти всегда приносили убыток. Но отвлекали его от черных мыслей, успокаивали.
Я поплелся в мой «Зеленый попугай».
Репетиция не клеилась. Мы исполнили весь наш репертуар. Он показался мне глупым и бессмысленным. Как и вся идея нашего театра без публики. Театр без публики существовать не может. В то время как публика без театра существует, и превосходно. Нам до публики не добраться…
Мы прекратили репетицию. Купили и съели арбуз и пошли на кладбище, провожать Лилю.
Светила луна, мы сидели на могилах предков. Толя Тарханов и Петька рассказывали ужасные истории, как на кухне зарезали одну старуху, и было слышно, как кровь капала через щели в потолке: кап-кап-кап-кап…
Потом помолчали. Я увидел, как Митя Багров молитвенно смотрит на Лилю. И она под его взглядом погрустнела, поежилась.
Тогда я понял – сейчас или никогда.
– Лиля, можно тебя на минуточку…
Я отвел ее в самый край кладбища, к степе, под тень деревьев, взял ее за руку и сказал:
– Ты дала каплю влаги выпить умирающему путнику… Я люблю тебя, Лиля! Словно блеск драгоценного бриллианта, ты осветила мой скорбный путь… Когда в долгие пряные ночи ты увидишь на небосклоне падающую звезду, – знай, это я.
И тут рука Лили, которая была в моей руке, дрогнула. Она как-то странно посмотрела на меня. Пожалела, что ли. А я смотрел на нее, и слезы любви лились из моих глаз. Митя Багров был посрамлен.
Лиля тихонько пальчиком размазала слезу на моей щеке, потом прижала свою щеку к моей, и мы стали целоваться. Это был первый поцелуй в моей жизни. И вряд ли он был первым у Лили… Она прямо впилась в меня. И тут я что есть силы толкнул ее в грудь. Меня затошнило. От счастья, от страха, от голода и усталости после дня работы в артели, от разговора с отцом, репетиции. За весь день я съел только кусок арбуза… Меня тошнило, и земля уходила из-под ног… Осквернив чью-то могилу, я упал на дорожку.
Лиля, сделав вид, что ничего не заметила, тихонько пошла к ребятам…
Я поднялся и хотел перепрыгнуть через стену и бежать без оглядки. Но какая-то сила остановила меня. Какая там сила! Слабость! Трусость! Сознание собственной ничтожности! Отец был прав. Да еще как.
Я поплелся следом за Лилей. И увидел, как она смеется, положив руку на плечо Мити Багрова. И он смеется. И победно смотрит на меня.
Когда мы провожали Лилю, она даже вида не подала, что между нами что-то произошло.
Тем не менее я шел сзади всех. А когда подошли к ее дому, я спрятался за деревьями. Митя и другие ребята меня звали. Но я не отозвался. Тогда они ушли. А Лиля с отцом удалились в свой домик. Я смотрел на окно и видел, как они пили чай…
Я стоял долго. Пока в окнах не погас свет.
Тогда я медленно побрел домой.
Выйдя из их переулочка, я столкнулся с четырьмя хулиганами, которые, очевидно, следили за мной.
Ничего хорошего от нашей встречи не произошло. Они проделали надо мной весь свой изуверский ритуал. Я плавал на мостовой, сняв рубаху, у которой они в узлы завязали рукава. Они били меня по лицу и по животу, и у меня из носа текла кровь, которую они не позволяли вытирать.
Натешившись и предупредив, чтоб я больше по этой улице не ходил и Лильку не провожал, они ушли, схватив мой ремень и забросив на дерево мои ботинки.
В измазанной кровью рубахе, без ботинок, с распухшими от побоев глазами я возвращался домой.
Шел по берегу реки. Здесь рядом помещался Новый театр, куда я часто бегал, смотрел спектакли гастролировавших московских артистов. Здесь шла также в исполнении местной труппы пьеса «Жрецы», в которой мы, вымазанные морилкой, изображали индийских крестьян, обманутых подлыми жрецами. Мы, протягивая к ним руки, кричали: «Истины! Истины!»
Но жрецы молчали.
Разоблачив этим спектаклем жрецов и браминов, мы бросались в речку и смывали с себя морилку. Но это было давно, в прошлом году, когда я был невинен и еще любил Лилю Арендт.
Теперь театр заколочен досками.
И я, недолго думая, вообще ничего не думая, бросился в реку. В чем был: в штанах, в рубахе и в носках…
Река была грязная, заросшая ряской и очень мелкая. С прошлого года она сильно обмелела, а я сильно вырос. Вода едва доставала мне до живота. О том, чтоб утонуть, не могло быть и речи.
Кругом никого не было, место глухое, время позднее. Меня никто не спасал и спасать не собирался.
Так, немного постояв в грязи, я вышел на берег.
Поездов тоже поблизости не было. Железная дорога далеко. Машины не ходили. Вешаться не на чем: хулиганы забрали у меня ремень.
Я пошел домой.
Что было с мамой, увидевшей меня мокрого, избитого, в носках, можно легко догадаться.
Содрав с себя одежду и бросив ее под кровать, я лег спать. И спал превосходно.
Утром выпил чаю и пошел к себе в артель. Отца не видел. В артели весь день, вместо того чтоб качать воду и таскать на склад старые унитазы и взамен приносить новые, я точил стамеску. Я доточил ее до смертельной остроты. Потом положил в карман и, сославшись на головную боль, ушел домой.
Пообедав с большим аппетитом и сочинив дикую историю нападения на меня огромной банды, драки, ограбления старой женщины, за которую я вступился, я, снова не встретившись с отцом, пошел к Мите Багрову.
Мы долго с ним говорили об искусстве, о невозможности иметь свой театр, о жизни… О Лиле никто из нас не проронил ни слова.
Затем мы простились, и я пошел па улицу Лили Арендт. Ее дома не было, я ей оставил записку. Я написал, что театр-студия «Зеленый попугай» закрыт, ибо оказалось, что он не нужен народу. Я прощался с ней и сообщал, что, наверно, не увижусь с ней больше никогда. Запечатал, написал: «Лично. Других прошу это письмо не читать». Подсунул под дверь.
Потом прошелся по улице раз, другой, третий… Моих врагов не было.
Тогда я стукнул кулаком по папиросному ларьку мальчишки-папиросника, близкого к шайке. Погрозил ему стамеской и медленно пошел прочь из этого района навсегда. Счастье хулиганов и счастье мое, что мы тогда не встретились. Дело бы окончилось плохо. Я был готов к драке и к убийству. Я был готов ко всему. Если бы мне встретилась бешеная собака, я бы вступил с ней в единоборство. Если бы на моем пути попался чемпион мира Поддубный, я бы ударил его. Если бы навстречу мне бежал слон, я бы задушил слона. И рука моя не дрогнула бы.
Я вернулся домой.
Отец ужинал. О ночном моем возвращении он не знал, мама от него скрыла. Он был очень удивлен, увидев меня дома так рано.
– Нам надо поговорить, папа.
Отец вопросительно взглянул на меня и иронически хмыкнул.
– Сейчас мне некогда. Когда вернусь из курятника.
Тогда я ударил кулаком по столу и закричал:
– Твои куры подождут! Все равно они скоро все околеют. А я собираюсь жить. Долго! Я собираюсь вас всех пережить!
Как это было отвратительно сказано! Грубо, глупо… Главное – так оно все и получилось.
Затем я сообщил, что не собираюсь бросаться под поезд, как Таня Палешанина. Как бы они этого ни добивались, я кончать с собой не намерен. Я намерен пойти на сцену и стать знаменитым артистом и режиссером. Для этого я осенью поступаю на драматический факультет Высших музыкально-драматических курсов, где, кстати, на музыкальном факультете преподает мой отец. Но его протекция мне не нужна. Если он хочет, я переменю фамилию и возьму фамилию матери. Или выдумаю. Я буду там учиться вечерами, а днем буду заканчивать профшколу. Через год, окончив школу и один курс драматического факультета, я уеду из Харькова в Москву, где поступлю в студию. В Москве буду жить один. Помощи не надо. Нет такой силы, которая могла бы заставить меня отказаться от этого решения. Отговаривать бесполезно. Обжалованию не подлежит.
Отец внимательно выслушал. И было что-то такое, очевидно, в моем голосе и в моих глазах, что он вдруг поверил.
Он как-то согнулся. Хотел что-то сказать. Затем встал и ушел в свой курятник.
Ночью он не спал. И я не спал. И мать не спала. Спали только куры в курятнике, не представляя себе близкой своей куриной гибели.
Через год я уехал в Москву. Уехал и отец. Он получил приглашение в Одессу, где только что открылся после пожара оперный театр.
Мать моя осталась одна…
Через сорок один год меня позвал к телефону женский голос.
– Говорит Лиля Арендт. Помнишь такую?
– Да. Помню.
– Ну, как ты живешь?
– Да как тебе сказать…
– Мне бы хотелось повидаться с тобой.
– Мне тоже.
– Я приехала на несколько дней в Москву. Сегодня в Театре Моссовета идет твоя пьеса. Я ее еще не видела. Может быть…
– Хорошо. Я позвоню в театр и закажу места. Ты одна?
– Нет, я приду с подругой.
– Тогда за полчаса до начала у подъезда театра я буду ждать.
– А ты узнаешь меня?
– Думаю, что узнаю.
– Я буду в сером пальто.
Мы встретились. Я легко ее узнал. Она тоже узнала меня. Спросила, не бывал ли я в ее городе.
Подруга гуляла на другой стороне улицы и к нам тактично не подходила.
Я сказал, что с тех пор, как распался наш «Зеленый попугай», я никогда не ходил по той части города, где жила она. Боялся ее встретить. А потом, когда после войны приехал в Харьков, я сразу пошел на ее улицу. Нo там уже было все перестроено. И кладбища не было. Его перенесли в другое место…
– Да, – сказала она, – мы живем сейчас в центре.
Она работает в художественной самодеятельности, но там новый заместитель, ужасный тип, и она дала ему пятьдесят рублей, и неплохо бы мне вмешаться, потому что…
У нее были очень толстые ноги, и была она приятная старая женщина. Впрочем, не очень приятная, потому что молодилась и одновременно злилась.
Без всякой надежды я спросил:
– Ты позвонишь мне завтра?
– Зачем?
– Расскажешь – понравился ли тебе спектакль?
– А ты разве сегодня смотреть не будешь?
– Нет, не могу. Я сегодня вечером занят.
– Хорошо. Позвоню.
Но она не позвонила. Наверно, не понравилась пьеса. Или, может быть, я ей не понравился. Или была занята.
Больше я ее не видел. И по телефону с ней не разговаривал.
Да, так вот о Лиле… Потом, гораздо позднее, после того вечера на кладбище, я полюбил женщину. И очень сильно. И был любим. И был счастлив. И много писал о любви.
Но это было уже совсем другое. Совсем другое. Совсем другое.