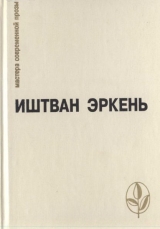
Текст книги "Царевна Иерусалимская"
Автор книги: Иштван Эркень
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Иштван Эркень
ЦАРЕВНА ИЕРУСАЛИМСКАЯ
Ресторанчик назывался «Mewa», что значит «чайка».
Солнце припекало жарко, но при этом дул резкий северный ветер, науськивая море против террасы «Мевы». Каждая волна разбивалась на тысячи водяных капель, а каждая капля в свою очередь – на тысячи осколочных брызг, покрывая тончайшими соляными кристалликами скатерть и пестрые тенты, бутылку с водкой и темные очки Ильзы, остатки завтрака на столе и рукопись познанского драматурга.
– Действие первое, картина третья.
Парень из Познани носил оранжево-красный свитер, и у него была такая стрижка, что каждый волосок в отдельности ухитрялся торчать дыбом, обращенный к своей, персонально избранной счастливой звезде. Вдобавок ко всему и зубы у молодого человека были плохие – видимо, тоже в знак некоего протеста: скажем, в знак бунта самих зубов против регулярного стоматологического надзора. Казику достаточно было прослушать две первые картины, чтобы решить для себя: пьесу эту он ставить не будет; однако он и виду не подавал, даже более того, слушал чтение, одобрительно кивая головой. Признательная Ильза в ответ на эти его кивки медленно закрывала и открывала глаза.
Дело в том, что познанское дарование было открыто ею. Парень сочинил уже девятую пьесу. По его собственному признанию, над пьесой можно работать самое большее две недели, поскольку драматургия – это вам не литература, а священный обряд вроде обрезания или принесения человеческих жертв. Как только в авторе остывает творческий пыл – это происходит обычно через две недели, – то к делу приступает (с уничижительной интонацией) драматург. Эта теория привела Ильзу в экстаз. Казик был старше ее на восемнадцать лет; сердцем она была на стороне мужа, а каждой нервной клеточкой солидарна с двадцатилетней молодежью. После первого действия она прервала читку.
– Ну, как твое мнение? – спросила она мужа.
Рутковский задумался.
– Начало пьесы неплохое.
– Ты бы мог ее поставить? – спросила Ильза.
– Почему бы и нет? – вопросом на вопрос ответил Рутковский.
– Вот видите! – бросила Ильза познанскому дарованию, а мужу адресовала благодарную улыбку и опять медленно прикрыла глаза. «За одну эту улыбку я продаю свою честь», – подумал Казик.
Читка пьесы подошла к середине второго действия, когда в глубине ресторана послышался телефонный звонок. На террасу вышла барменша.
– Пана профессора просят к телефону.
Здесь, на взморье, Рутковского называли «паном профессором», в Варшаве он был для всех «паном директором». О том, что он к тому же и писатель, теперь не было известно никому, а молодым вроде этого вот парня из Познани и подавно.
– Кто там опять? – досадливо спросила Ильза.
Звонила Оленька, их дочь, сообщить, что пришла телеграмма. Принес телеграмму ее любимец – почтальон с деревяшкой вместо ноги. Первым делом Оленька похвасталась, что ей было разрешено приподнять штанину и постучать по деревяшке. Затем она вскрыла телеграмму. Девочка все еще была взбудоражена, когда медленно, по слогам, как в школе, читала текст.
– Папа, скажи, пожалуйста, что значит «покончить с собой»? – спросила она затем.
– Это значит, что человек больше не хочет жить, – ответил Казик.
– А почему человек больше не хочет жить?
Казик задумался.
– Потому что у него не осталось близких и ему некого любить, – сказал он.
– Тогда, наверное, я буду жить очень долго, – удовлетворенно заметила Оленька. – Мне есть кого любить!..
– И кого же ты любишь больше всех?
– Как кого? Себя! – сказала Оленька. – Это плохо?
– Нет, что ты! – улыбнулся Казик. – Пожалуй, ты будешь жить вечно.
Подойдя к стойке бара, он заказал водки. Барменша выжала в бокал сок из половинки лимона и одарила Рутковского восторженным взглядом. Она была страстной поклонницей театра вообще и современных пьес в особенности и, обслуживая директора театра, чувствовала себя тоже приобщенной к театральному миру.
Прихватив с собой бокал, Рутковский вышел на террасу.
– Что случилось? – спросила Ильза.
– Барбара отравилась.
– Тьфу, старая истеричка! – воскликнула Ильза, неизвестно почему почувствовав себя лично задетой.
– Она уже вне опасности.
– Ей хочется сыграть Нору, – сказала Ильза. – Боже, до чего дешевый трюк!
Рутковский ошеломленно взглянул на жену. Читка продолжалась, но он не в силах был сосредоточиться. Когда кончилась война и они впервые встретились после разлуки, волосы у Барбары чуть начали отрастать. Годом раньше из-за декламации одного запрещенного стихотворения Барбару наголо обрили в гестапо… В телеграмме сообщалось, что жизнь ее вне опасности, но Казик все же испытывал беспокойство; поднявшись со своего места, он попросил извинения и прошел к телефону. Телефонистка на центральном сопотском коммутаторе узнала Рутковского по голосу и вне очереди соединила его с театром, затем с секретаршей и под конец с квартирой Барбары. Ни по одному номеру не отвечали – этого и следовало ожидать, и все же безответные звонки подействовали на него более угнетающе, чем телеграмма. Он попросил еще рюмку водки.
– Наверное, готовитесь к очередной постановке? – с трепетом поинтересовалась барменша.
– Вроде того.
– Что-нибудь сногсшибательное?
– Уж это точно.
– Пани будет играть в ней?
– Возможно, – ответил он.
– Разве это заранее не известно?
– Наверняка никогда нельзя знать.
– Жаль, – промолвила барменша. – Люди столько работали…
– Работали? – изумился Рутковский. – Когда же это?
– Да всю неделю.
– А вы не ошибаетесь?
– У меня в среду выходной, – пояснила барменша. – Так вот с прошлой среды они все время сидят здесь на террасе и что-то пишут.
Странно! Помнится, Ильза только позавчера сообщила ему о приезде этого малого из Познани. Конечно, он мог и перепутать: во время отпуска дни мало чем отличаются один от другого, к тому же и на память – увы! – нельзя положиться… Он попросил бросить в водку кусочек льда. Отсюда, от стойки бара, вся терраса была как на ладони.
Заняты были лишь четыре-пять столиков, и сплошь одной молодежью. Все тенты сложены, кроме того, который заслонял их столик: Рутковскому вредно было находиться на солнце. Он даже к концу лета ухитрялся сохранить белизну кожи, и густошоколадный загар на этих молодых людях показался сейчас Рутковскому похожим на униформу. Такую униформу носила барменша, и, конечно же, Ильза, и этот малый из Познани.
Оба не говорили друг с другом, даже словечком не перебросились; прикрыв глаза, молча наслаждались солнцем. На сцене, подумал Рутковский, даже молчание бывает красноречивым; если два действующих лица молча переглядываются, они тем самым ведут между собой разговор. В чеховских пьесах самая замечательная именно эта особенность: в то время как герои беседуют на сцене, под прикрытием их слов происходит немой диалог, столь же понятный зрителю, как и весь текст, произносимый вслух…
Отставив недопитый бокал, он наскоро расплатился и поспешил к столику на террасе.
– В полдень скорым я еду в Варшаву, – сказал он. – Читку закончим завтра.
На сей раз Ильза почувствовала обиду не только за себя, но и за автора.
– Неужели ты клюнешь на такую дешевую приманку?
Ему хотелось сказать: мы дружим уже двадцать пять лет. Однако говорить этого было нельзя по той простой причине, что двадцать пять лет назад Ильза едва успела появиться на свет. Старость, с точки зрения Ильзы, могла рассчитывать на единственное смягчающее обстоятельство: талант, на который обычно и делалась скидка. Поэтому Рутковский сказал:
– Если б ты знала, до чего она была талантлива!
– Барбара? – язвительно уточнила Ильза. – Когда же это?
– Быть талантливым – неправильный глагол, – вмешался познанский малый. – Он имеет лишь настоящее и будущее время.
– Остроумно, – заметил Казик.
– Кстати, как вам понравилось второе действие?
– Зачем понадобилось надавать пощечин той женщине? – спросил Рутковский.
– Затем, что иначе она не соглашалась переспать с шофером.
– Я не сторонник насилия.
– Через тридцать лет, – отбрил его малый, – я тоже стану возбуждать женщин только щекоткой.
– А до тех пор? – поинтересовался Казик.
– Мы хотим жить без какого бы то ни было обмана.
– Всякая иная любовь, по-вашему, обман?
– Было бы разумнее, – сказал парень, – потолковать о пьесе.
– Я еще не слышал третьего действия.
– Оно точно такое же, как два первых.
– Жаль, – сказал Рутковский.
Он не смотрел на Ильзу, хотя ему было любопытно, открыла ли она глаза по крайней мере. Он быстро нагнулся, словно ища портфель, сползший под шезлонг.
– Мы можем довезти вас до Сопота, – предложил он парню.
– Благодарю, – ответил тот. – Я остановился здесь.
– Разве здесь есть где остановиться?
– Несколько номеров у них сдаются.
– А я и не знал, – сказал Рутковский.
Соблазн был еще сильнее, но он устоял и даже сейчас не взглянул на Ильзу.
– Ну что, поехали? – обратился он к жене.
– Я пока задержусь.
Рутковский, сделавший было шаг от стола, остановился.
– Оставить тебе машину? – спросил он чуть погодя.
– Я доберусь автобусом.
– Мест может не хватить.
– Я хочу дослушать пьесу до конца, – заявила Ильза.
– Завтра и дослушаем, – заверил ее Казик.
– Терпеть не могу останавливаться на полдороге, – сказала Ильза.
– Прощай, – сказал Казик.
– Возвращайся поскорее, – сказала Ильза.
Он сделал рукой прощальный жест и пошел прочь. «Стоит мне сейчас обернуться, – подумал он, – и перехватить взгляд, которым они обменяются, тогда я узнаю обо всех их тайнах…» Казик и на сей раз не поддался искушению; он вообще хорошо переносил невыясненные ситуации.
«Фиат» Рутковских был старым рыдваном, который на ходу громыхал своими железными потрохами. Машина находилась на стоянке позади ресторана, однако море разбушевалось не на шутку, брызги залетали далеко, и ветровое стекло оказалось сплошь усеяно соляными кристалликами. Казик принялся было счищать их со стекла, но как только на асфальте под ногами у него захрустела соль, он тотчас прекратил это занятие. От звука хрустящей соли по спине у него побежали мурашки; он сел в машину и по прибрежному шоссе рванул к Сопоту.
В прошлом году за ней увивался один такой – из молодых, да ранний: Богдан, врач из их театра. (Тогда Казик считал эти ухаживания безрезультатными.) Юный воздыхатель катал Ильзу на лодке и декламировал ей стихи Рильке; конечно, даже декламацию Рильке – на значительном расстоянии от берега – можно воспринимать как своего рода насилие. Вот познанский парень, тот декламацией не увлекается; он силен, как горилла. Любопытно бы узнать, как реагирует Ильза на насилие… Жаль, что он не выспросил барменшу, поклонницу театра, можно было бы поинтересоваться, к примеру, разрешается ли дамам посещать мужчин в их номерах. Однако Казик охотнее прислушивался к своей фантазии: она всегда давала ему такой ответ, какой он и желал получить. Номера, которые сдаются, как правило, расположены на втором этаже. Железная койка. Шкаф. Стол, стул. Не столько гостиничный номер, сколько тюремная камера… В окно врывается шум прибоя, и каждый день с пяти вечера наяривает джаз. Тут кричи не кричи, никого не дозовешься. Но Ильза и кричать не станет. Горилла влепит ей затрещину, и она и вскрикнуть не успеет, как окажется нагишом: эти модные летние платьишки ничего не стоит сорвать одним махом. Затем он швырнет ее на постель. Нет, сперва он заорет на нее… Да если еще и по-немецки: Liegen![1]1
Лежать! (нем.).
[Закрыть] Инфинитив в качестве повелительного наклонения звучит особенно беспощадно.
Гордость – субстанция хрупкая, как стекло. Чем человек чище и благороднее душой, тем более ранима эта душа… Да и у кого достанет силы кричать, отбиваться руками-ногами, царапаться и вообще в голом виде сопротивляться мужчине, одетому с головы до пят? Да если этот мужчина вдобавок ко всему одет в форму немецкого военного врача! Представим себе познанского парня в гостиничной комнатушке, где сходство с тюремной камерой налагает особый отпечаток на всю эту сцену насилия. Представим себе этого малого с его длинными, как у обезьяны, руками, с торчащим ежиком волос и в форме немецкого военврача. И представим, будто бы он уже добился того, чего хотел. Пойдем в своих предположениях дальше и допустим, что люди в этом возрасте признают лишь один вид любви: насильственный… Что же происходит после этого? О чем говорит майор медицинской службы и как? Грубо кричит или нежно шепчет на ухо? Сюсюкает? Произносит красивые слова?
– Ах ты, дурашка, – говорит он. – Звереныш упрямый! Ну хоть бы сказала, что любишь меня!
– Я же еще и любить тебя должна?
– Разве тебе было плохо со мной?
– Да меня от одного твоего прикосновения в дрожь бросает. – Ильза отодвигается от него.
– Зачем ты врешь? – говорит он. – Мы хотим жить без какого бы то ни было обмана. Это муж твой вгоняет тебя в дрожь, дурашка.
– Неправда, – говорит Ильза. – Я люблю Казика.
– Что в нем любить-то? Старый, мнит о себе Бог весть что, лживый до мозга костей. Даже имя у него и то вымышленное. Шпигель – вот как его зовут на самом деле, а Рутковский – всего лишь писательский псевдоним.
– В этом нет ничего зазорного.
– Ну, а если уж он писатель, то почему ни черта не пишет? Я за полтора года создал девять пьес, а он за пятнадцать лет не выдавил из себя ни строчки.
– Неправда, – говорит Ильза. – У него написано исследование о Чехове. И есть одна пьеса…
– Которую он начал сочинять еще в гетто. Чего же он ее не докончит?
– Он останется здесь в одиночестве на весь сентябрь, специально чтобы завершить пьесу.
– Будь спокойна: ему уже ничего не удастся завершить.
– Вчера он написал одну сцену, да и сегодня, не подоспей эта телеграмма…
– Веселенькое дело: писатель, который не умеет писать! Все равно что пустой желудок, который переваривает сам себя. Или труп, который одновременно является и могильным червем… Это ведь все – синонимы.
Доносится шум прибоя. Звучит джазовая музыка. Железная койка скрипит: Ильза поднимается на колени и ударяет познанского парня кулаком по лицу:
– Сам ты труп, сам ты могильный червь.
И бьет куда попало. Изо рта и носа у парня хлещет кровь…
– Э, нет, – одергивает себя Рутковский.
С тех пор как он знает Ильзу, она ни разу голоса не повысила. Всегда спокойна, уравновешенна, чуть холодновата… Чего душой кривить: этого познанского парня талантом Бог не обидел, а талантливые люди всегда оказывали воздействие на Ильзу; так иных женщин завораживает негритянский певец или знаменитый футболист… Как же, станет она пускать в ход кулаки! Уж скорее прижмется к парню, будет с ним ласкаться-миловаться, давать клятву не разлучаться навеки. Вилла в Сопоте принадлежит Ильзе, она без труда может обменять ее на квартиру в Варшаве.
– Тебя устраивает столовская еда?
– А в чем дело? – спрашивает познанский парень. – Ты должна была ему готовить?
– У него сахарный диабет, – жалобно вздыхает Ильза. – Поверишь ли, я уже забыла, что значит быть молодой. До чего мне осточертело вечно плестись еле-еле, так люблю быстро ходить! Посмотри, какие у меня красивые, длинные ноги; наверное, я могла бы взбежать по стене, словно паук… Сможешь поднять меня?
– Да хоть одной рукой!
– Дорогой мой, ты – настоящий мужчина.
– А ты – мой родной зверек.
– Я тебя очень люблю.
– И я тебя – очень.
– Очень-очень.
– Очень.
Рутковский подъехал к Сопоту и замедлил ход. Не сказать, чтобы он действительно испытывал ревность оттого, что ему наставили рога. Скорее это было ощущение, будто его замарали, унизили, выставили на посмешище. Но тем не менее он решил, что при первом же удобном случае повыспросит барменшу: надо все-таки внести определенность.
Эта определенность, однако, могла быть внесена и раньше – благодаря Оленьке, которая выбежала навстречу отцу, едва только машина его остановилась перед виллой.
– А где мама?
– Она осталась с одним дядей из Познани.
– Скажи, папа: черный сахар бывает? – задала неожиданный вопрос Оленька.
– Черный сахар? Надо же такое выдумать!.. Наверное, бывает.
– И он ест черный сахар?
– Кто?
– Да этот дядя из Познани.
– Ты его знаешь?
– А разве не от этого у него такие черные зубы?
Надо было тут же как следует выспросить, откуда она знает этого дядю с черными зубами, бывал ли он у них дома, когда и как часто… Но эта идея осенила его лишь позднее, когда он спешил к вокзалу. Это ведь тоже один из способов самозащиты, когда щекотливые вопросы начинают волновать нас лишь задним числом… Да и вполне возможно, что объяснение девочки не внесло бы никакой ясности: у Оленьки столь же безудержная фантазия, как и у него самого. К примеру, в прошлом году она, возвратясь домой с первого урока музыки, заявила, будто учительница помешана на кошках. В комнате у нее кошки кишмя кишат, иногда даже прилипают друг к дружке, орут дурными голосами, и тогда учительница загоняет их под кровать… Ильза тотчас поспешила туда, но не нашла во всей квартире ни единой кошки. Лишь над пианино висела репродукция с картины Пикассо, изображавшей нечто тигрово-полосатое, расчлененное на кубики. «Что изображено на этой картине?» – «Кошка», – ответила преподавательница музыки. «Вы говорили об этом Оленьке?» – «У нас о картине и речи не заходило, – ответила учительница, – хотя она разглядывала ее долго».
Казик добрался до Варшавы в разгар полуденной жары. С вокзала он обзвонил все больницы и клиники, пока наконец в какой-то из них дежурный не ответил, что Барбара Домбровская действительно находится у них на излечении – второй этаж, палата номер пятнадцать.
– Можно ее навестить?
– Состояние больной не внушает опасений.
Обливаясь потом, он повесил трубку. Что-то раздражало его, но что именно – он не знал. Возможно, то, что Барбара так легко отыскалась; возможно, тот факт, что она в хорошем состоянии и теперь уже от посещения не отвертеться. Обычно это необъяснимое чувство разочарования вызывают в нас наши потаенные желания, если им не суждено сбыться… С перрона послышался паровозный свисток: подали состав на Сопот. Но для Казика отступления быть не могло; он вышел на раскаленную привокзальную площадь и стал ловить такси.
– Явился чуткий и отзывчивый директор! – удивленно воззрилась на него Барбара, презрительно скривив губы, но тотчас и утратила к посетителю интерес; равнодушно уставилась в потолок и все попытки Рутковского как-то объясниться пресекла одним жестом. – Знать ничего не хочу! – кричала она. – Не вздумай меня утешать и улещивать. Не желаю слушать ни одного неискреннего слова! Алисе уже досталось на орехи за то, что отправила тебе телеграмму.
Алиса была секретаршей в дирекции театра.
Цветочной вазы он не нашел. Налил воды в раковину и опустил туда купленные по пути розы. Затем подошел к койке. «И это тело я целовал», – подумал он. Но сейчас он обязан был видеть Барбару красивой и не имел права чувствовать запах пота. Он склонился над ней, чтобы ее поцеловать.
– Катись к дьяволу, – оттолкнула его Барбара. – Чего ты заявился? Думал, меня уже нет в живых?
– В телеграмме сообщалось как раз о том, что опасность миновала.
– А ты все же надеялся?
– Не мели ерунды, Барбара. Просто я хотел тебя повидать.
– Есть на что смотреть: хороша – дальше ехать некуда. Налюбовался и ступай прочь.
– Не груби, – сказал Рутковский. – Я хочу поговорить с тобой.
– Жалобные рыдания у гроба, – сердито фыркнула Барбара, по-прежнему глядя в потолок. – И о чем же ты хочешь говорить со мной?
– О твоих ролях.
– Очень мило с твоей стороны, – сказала Барбара, – через пятнадцать лет вдруг вспомнить о моих ролях.
– В этом сезоне ты играешь в трех пьесах, Барбара.
– Читала я эти пьесы, – сказала Барбара, – задаром не надо.
– Тогда сыграй что-нибудь другое.
– Что именно?
– Что хочешь, – сказал Рутковский и добавил: – Выбирай сама. Нет ли у тебя желания, к примеру, сыграть Нору?
– Нору? – переспросила Барбара.
Она села в постели, опустив ноги вниз. Наклонилась вперед, чтобы лучше видеть… Глаза человека живут вечно. А может, только Казик чувствовал так, мысленно воссоздавая сейчас по глазам Барбары ее разрушенное временем лицо, подобно тому как реконструируют стену собора по одной лепной розетке.
– Прикажешь принимать это как утешение? – спросила актриса.
– Никакое это не утешение.
– Значит, ты врешь.
– Не вру.
Они одновременно начинали карьеру, Барбара играла Пэка из «Сна в летнюю ночь» в том же сезоне, когда была поставлена первая пьеса Рутковского. Их роман длился полтора года. Позднее, когда Казик стал директором театра, они по возможности старались избегать встреч: оба чувствовали себя неловко, и эта неловкость по большей части выливалась в ссоры.
Вот и сейчас она недоверчиво смотрела на Рутковского.
– Что это тебе втемяшилось, Казик? Может, совесть заела?
– Я всегда считал тебя очень талантливой, Барбара.
– Опять врешь.
– Завтра же сделаю заявление в печати, что ты будешь играть Нору.
Актриса вытащила пудреницу. Внимательно рассмотрела свое лицо, затем протянула Рутковскому зеркальце, будто там осталось ее отображение.
– Взгляни сам. Недавно я видела себя по телевидению: старая баба, волосы безобразные. Какая из меня получится Нора? Сплошное убожество!
– Из тебя получится великолепная Нора.
– Ты в меня веришь?
– Да, Барбара.
– Поклянись.
– Клянусь.
– Клянись всем на свете.
– Клянусь всем на свете.
– Поклянись, что я и сейчас так же талантлива, как во времена постановки Шекспира, когда впервые стала твоею!
– Ты и сейчас так же талантлива, как во времена постановки Шекспира, когда впервые стала моею.
Барбара вздохнула, почти не в силах скрыть наслаждения, и сказала:
– За что только я тебя люблю, мерзавец ты эдакий!
И поблагодарила за розы. Ее точно подменили: она стала разговаривать весело и дружелюбно. От той неловкости, которая столько раз вызывала между ними перепалки, сейчас и следа не осталось. Барбара поплакалась, сколько ей пришлось выстрадать из-за почечных камней, но зато она надеется, что здесь, в клинике, врачи заодно вылечат ее и от этой хвори. Затем она рассказала, что решила отравиться люминалом, но поначалу никак не удавалось его раздобыть, пока наконец доктор Богдан, врач из театра, которому она пожаловалась на бессонницу, без звука не выписал ей рецепт.
– Как же ты ухитрилась проглотить такое количество таблеток? – спросил Казик.
– Это оказалось труднее всего, – рассмеялась Барбара. – Ты же знаешь, каких мучений мне стоит каждый глоток.
В театральном мире всем было известно, что Барбара на сцене лишь делает вид, будто ест или пьет. Она всегда сильно волновалась перед выступлением, и это вызывало у нее спазм пищевода. Вот и люминал ей пришлось глотать по одной таблетке с интервалами в пять-шесть минут. После каждой очередной таблетки она выходила в ванную комнату, прополаскивала горло холодной водой, возвращалась, принимала следующую. На десятой ее окончательно заклинило, не проглотить – хоть убей, но как раз в этот момент – со смехом продолжила Барбара свой рассказ – пришла женщина убирать квартиру. Поэтому больше девяти таблеток принять не удалось.
– Остался у тебя еще люминал? – спросил Казик.
– Целая куча, – засмеялась Барбара. – Хочешь убедиться?
Она выдвинула ящик тумбочки. Там лежала непочатая склянка люминала и еще одна стеклянная трубочка с точно такими же белыми таблетками, предназначенными, как оказалось, для промывания почек.
– Надеюсь, ты не собираешься еще раз повторить подобную глупость? – спросил Казик.
– Еще чего не хватало! – воскликнула Барбара и, встав с постели, накинула халат. – Прости, – обернулась она в дверях, – с тех пор как я начала принимать мочегонное, каждые полчаса приходится бегать.
Казик остался в палате один. Оглянувшись на дверь, он вытащил трубочку с люминалом и высыпал в ладонь ее содержимое. Вместо снотворного набил трубочку мочегонным и приклеил этикетку так, чтобы трубочка выглядела непочатой. А вот что делать с люминалом, он не знал. Окно закрыто, в раковине торчит букет роз… Послышались шаги. Казик сунул таблетки в карман и сел.
Ящик тумбочки остался незадвинутым. Снимая с себя халат, Барбара бросила туда взгляд, но ничего не сказала, только улыбнулась довольной улыбкой, как мать, в отсутствие которой дети похватали печенье… Она легла в постель и перевернулась на бок, чтобы лучше видеть Казика, и даже зажгла ночник, потому что стало смеркаться.
– Мы очень беспокоились за тебя, Казик, – сказала она, удобно устроившись.
– Кто это – мы? И с какой стати было беспокоиться?
– Неважно, – улыбнулась Барбара. – Мы заблуждались на твой счет. Наведаешься ко мне еще разок?
– Наведаюсь, и не раз, – ответил Казик.
– Вот будет здорово! – воскликнула Барбара. – Помнишь паштет по-страсбургски?
Оба расхохотались. В ту пору, когда они еще жили вместе, в руках у Казика однажды разорвало консервную банку, едва он начал вскрывать ее. Барбаре вспомнилось еще немало подобных забавных случаев, затем Рутковский спустился в проходную и вызвал по телефону такси. Потом он вернулся, и, пока они ждали такси, им было по-прежнему легко и просто. Барбара усадила Казика к себе на постель, а сама мечтательно уставилась в темнеющий квадрат окна.
– Помнишь, какие у меня были красивые волосы?
– Они и сейчас красивые, – сказал Казик.
– С тех пор как их сбрили, они никак не желают отрастать длиннее.
– Короткая стрижка тебе тоже идет, – заметил Казик.
– Самой себе я нравлюсь только такая, какой была прежде, – сказала актриса. – И любить могу только то, что было до войны. Люблю твоего сынишку, этого очаровательного постреленка… Господи, до чего дивные были у него глаза!
– К чему говорить об этом, – сказал Казик.
– Люблю Ядвигу, – вздохнула Барбара. – Каким ласкательным прозвищем ты ее называл? Царица Савская?
– Теперь уж и не припомню, – сказал Казик.
И тотчас вспомнил: «царевна иерусалимская» – вот как он ее называл. И лицо Ядвиги возникло перед ним, как бы спроэцированное на стену больничной палаты. Он словно вновь увидел ее кожу – белую и настолько чувствительную к свету, что даже тень от ветки оставляла след на этом нежном белом покрове, подобно царапине. На ослепительной белизне лица выделялись два темных пятна: глаза Ядвиги, черным потоком уходящие куда-то в таинственную даль – как на негативе фотографии.
– Ее планетой была Луна, – мечтательно продолжала Барбара.
Рутковский молчал.
– Вот ведь интересно: к ней я не испытывала ревности, – сказала Барбара. – Может, потому, – она как бы размышляла вслух, – что Ядвига душу готова была отдать за ребенка.
Рутковский промолчал и на это.
– Теперь таких женщин и не найдешь, – заключила Барбара. – Неужели ты поверил этим кошмарным россказням про нее?
– Да, – сказал Казик.
– Ну а хотя бы потом ты пытался выяснить?
– Зачем?
– Как это – зачем? – Барбара вдруг села в постели. – Да ты просто ненормальный! – Свет ночника бил ей в глаза, и она повернула лампу в сторону. – Ведь еще свидетели живы… Как бишь ее звали, твою привратницу?
– Откуда мне знать!
– Кажется, тетушка Дамазер.
– Может быть.
– А где жила Ядвига? Ты ведь был знаком с хозяйкой той квартиры?
– Не помню, как ее звали.
– Она еще, должно быть, жива. И адреса ее ты не знаешь?
– Знал, но запамятовал.
– И ты способен не думать о ней?
– Да.
Барбара отвернулась. Теперь она опять лежала навзничь и опять смотрела в потолок.
– А вот я не могла бы жить без воспоминаний, – чуть погодя сказала она.
– Какое-то время и я не мог, – признался Рутковский, – но потом научился.
– Тебе легко говорить, у тебя есть дочка.
– Это верно.
– И Ильза.
– И это верно.
– Какая у вас разница в годах?
– Я на восемнадцать лет старше ее.
– И тем не менее хорошо уживаетесь?
– Очень хорошо уживаемся.
– Передай им привет, – сказала Барбара.
– Спасибо, – сказал Рутковский. – Передам.
– Наверное, такси уже приехало, – сказала Барбара.
– Еще нет, – сказал Рутковский. – Мне видно в окно.
– Ступай, – сказала Барбара. – Я устала.
– Я буду навещать тебя.
– Не нужно, – сказала Барбара. – Одной лучше.
– Ты же сама сказала, что будешь рада.
– Я ошиблась, – сказала Барбара. – Не хочу тебя видеть.
Она даже прощаться с ним не стала.
«Старая истеричка! – возмущался Казик, спускаясь по лестнице. – Тащусь к ней в самую жарищу из другого города. Преподношу ей розы. Сыграть Нору – мечта всей ее жизни… Чего, спрашивается, ей еще надо? Чтобы я жил, воссоединясь со своими покойниками, как это делает она?»
Такси как раз разворачивалось перед клиникой.
Дома в нос ему ударило затхлостью: комнаты несколько недель не проветривались. Казик открыл окна, устроил сквозняк; тут он вспомнил, что в кухне оставалось полбутылки водки.
Ему надо было пройти через детскую. Он включил свет, вошел было в комнату и тотчас попятился назад: посреди комнаты, возле Оленькиного кукольного театра стоял конь-качалка. «Померещилось», – подумал он и погасил лампу. Затем включил снова: конь стоял на прежнем месте.
Краска на нем почти вся облупилась, грива вылезла, сбоку торчала пакля. Казик пятнадцать лет не видел коня и все же сразу его узнал; непонятно было только, откуда он взялся и каким образом очутился здесь, в наглухо запертой квартире…
Но конь-качалка стоял тут, на этом месте, как и в тот день, когда на улице взревели моторы грузовиков и эсэсовцы стали скликать детей: «Мальчики, девочки, поехали с нами, будем сниматься в кино!» В ту пору немцы еще пытались соблюсти какую-то видимость, и если во время акции собиралась большая толпа народа, то объявляли, что детишек везут всего-навсего в зоопарк, на съемки для кинохроники. Однако в гетто была превосходно поставлена разведывательная служба. Там уже было известно об эшелонах с детьми и о том, что отправляют их по ночам, знали даже, с какой сортировочной станции, но делали вид, будто верят в эту шаткую легенду. Если жертва не может вцепиться в горло своему убийце, то не вредно подкинуть ей какой-нибудь оправдательный предлог, – тут немцы верно рассчитали.
Транспорт с детьми эсэсовцы сперва доставляли к кинотеатру «Олимпия». Детишки выстраивались в очередь перед билетными кассами, называли свое имя и получали порядковый номер. Одному мальчику удалось бежать оттуда: что происходило с детьми после этого – остается только строить догадки. Можно предположить, что прямо здесь же, в фойе кинотеатра, их осматривали и отбирали пригодных для отправки в рейх, где на только что созданной экспериментальной станции из них должны были воспитать полноценных арийцев. Осмотр не затягивался надолго. В первую очередь отбирались белокурые дети. Затем им вручали по четыре мяча разного цвета и делали для себя пометки, который из четырех был выбран ребенком. У детей прослушивали сердце, измеряли и записывали вес и рост. Замеры черепа производились с помощью прибора, который определял характерный для семитской расы лицевой угол, да так быстро, будто просто давал ребенку щелчка по голове… В зрительном зале, на возвышении перед киноэкраном, заседала комиссия.








