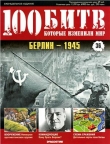Текст книги "Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах"
Автор книги: Исайя Берлин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
знакомства переживал душевный кризис. Во время приема Сельвинский спросил меня, согласен ли я с тем, что к самым выдающимся английским писателям относятся Шекспир, Байрон, Диккенс, Уайльд и Шоу и, возможно, также Мильтон и Бернс. Я ответил, что не
сомневаюсь относительно Шекспира и Диккенса, но не успел продолжить свою мысль, как Сельвинский задал другой вопрос: что я думаю о новых авторах – Гринвуде и
Олдридже. Я вынужден был признаться, что впервые слышу эти имена, очевидно, по той
причине, что большую часть войны провел за границей.
Позже я с удивлением узнал, что речь шла о весьма посредственных литераторах.
Олдридж оказался австралийским писателем-коммунистом, а Гринвуд автором
популярного романа "Любовь в нищете". Их книги были переведены на русский язык и
изданы большими тиражами. Средний советский читатель не имел ни малейшего
представления о шкале ценностей, принятой в западных кругах. Какие произведения
будут переведены и в скольких экземплярах напечатаны, решали официальные
литературные ведомства – при этом они в точности следовали указаниям Центрального
комитета партии. В соответствии с этим современная английская литература в Советском
Союзе была представлена тогда романом Кронина "Замок Броуди", двумя или тремя
пьесами Моэма и Пристли и – как я впервые услышал – книгами Гринвуда и Олдриджа.
(Эпоха Грэма Грина, Ч.П.Сноу, Айрис Мердок и других "сердитых молодых людей" еще
не наступила, их стали издавать позднее). Кажется, мои хозяева не поверили, что я не
знаю упомянутых Сельвинским двух авторов. Очевидно, в их глазах я был
капиталистическим агентом, которому надлежало избегать разговоров о левых писателях -
подобно тому, как они сами игнорировали факт существования русской эмигрантской
культурной среды.
Между тем Сельвинский продолжал говорить, его голос звучал громко и
торжественно, как будто он обращался к широкой аудитории. "Я знаю, – заявил он, – что
на Западе нас считают конформистами. Таковы мы и есть – в том плане, что как бы мы не
отклонялись от директив партии, это постоянно кончается тем, что партия права, а мы
заблуждались. Партия все видит, слышит и знает лучше нас". Я заметил, что остальные
гости недовольны этим выступлением, явно предназначавшимся для скрытых
микрофонов, всегда установленных на подобных встречах. Воцарилась напряженная
тишина: казалось, Сельвинский допусти крупную бестактность, и факт его шаткого
положения, по-видимому, еще больше усугублял всеобщее замешательство.
Я, тогда еще мало разбиравшийся в ситуации, заявил, что свободная дискуссия на
политические темы не может быть опасной в демократической стране. Красивая дама, жена одного известного советского писателя и в прошлом секретарш Ленина, возразила
мне: "Мы живем в обществе, построенном по законам науки. Разве можно говорить о
10
свободе мышления, например, в области физики? Ведь только сумасшедшие и
невежественные люди отрицают законы движения. Почему мы, марксисты, открывшие
закономерности развития истории и общества, стали бы запрещать независимое
социальное мышление? Если же вы имеете в виду свободу ошибаться, то ее мы, действительно, не допускаем. О чем вы, собственно, говорите? Именно правда дает
свободу: мы гораздо свободнее, чем вы там, на Западе". И она процитировала Ленина и
Луначарского. Когда я ответил, что ее мысли похожи на высказывания Огюста Конта, а
также тезисы французских позитивистов девятнадцатого века, чьи взгляды весьма не
одобрялись Марксом и Энгельсом, комната, казалось, наполнилась холодом, и общество
как-то незаметно перешло к обсуждению литературных сплетен. Мне был преподан урок.
Вступая в подобного рода дискуссию и задавая собеседникам каверзные вопросы, я
ставил их в опасное положение. Я никогда с тех пор не видел ни мадам Афиногенову, ни
кого-то из ее гостей. Теперь я отношусь с полным пониманием к их реакции и признаю
бестактность моего поведения.
– II -
Несколькими днями позже, сопровождаемый Линой Ивановной Прокофьевой, бывшей женой композитора, я на электричке поехал в Переделкино. Это была своего рода
литературная деревня, созданная по инициативе Горького, с тем чтобы признанные
писатели могли там работать в спокойной обстановке. Но учитывая темперамент людей
творчества, их близкое соседство далеко не всегда было гармоничным. Даже я, несведущий иностранец, мог догадаться, что в Переделкино не утихают ссоры и
разногласия.
Ступив на дорогу, ведущую к писательским домам, мы увидели мужчину, роющего
канаву. Он вылез из нее, представился Язвицким, спросил, как зовут нас, и мы довольно
долго беседовали. Наш новый знакомый настоятельно посоветовал нам прочитать его
блестящий роман "Костры инквизиции" (4) 4. Настоящее название книги Язвицкого “Сквозь дым костров”(1943).
[Закрыть] и еще более замечательный роман об Иване
Третьем и средневековой России, над которым он работал в то время. Затем, пожелав нам
всего хорошего, он исчез в своей канаве. Моя спутница была несколько ошеломлена
подобной бесцеремонностью, меня же она очаровала. Непосредственный, сердечный
монолог, без формальностей и светских любезностей, обязательных на официальных
приемах, произвел на меня необыкновенно приятное впечатление.
Стоял теплый солнечный день, какие бывают ранней осенью. Пастернак со своей
женой и сыном Леонидом сидели за деревянным столом в крошечном саду. Поэт сердечно
нас приветствовал. Марина Цветаева, с которой Пастернак был дружен, однажды сказала, что он выглядит как араб и его конь: у него было смуглое, экспрессивное, очень
колоритное лицо, теперь знакомое всем по многочисленным фотографиям и портретам
кисти его отца. Пастернак говорил медленно, монотонно, низким тенором, несколько
растягивая слова и с каким-то жужжанием, услышав которое один раз, уже невозможно
было забыть. Он удлинял каждый гласный звук, как иной раз слышишь в жалобных
лирических оперных ариях Чайковского, только у Пастернака это звучало с большей
силой и напряжением. Я, смущаясь, передал ему пакет и объяснил, что в нем сапоги, посланные его сестрой Лидией. "Нет, нет, что это? – закричал поэт, удивленный, как будто
я подал ему милостыню, – это явное недоразумение! Вероятно, сапоги посланы не мне, а
моему брату". Я чувствовал себя все более неловко. Жена поэта, Зинаида Николаевна, желая помочь мне, перевела разговор на другую тему и задала вопрос о восстановлении
Англии после Второй мировой войны. Я еще не начал отвечать, как заговорил Пастернак:
"Я был в Лондоне в 1935 году, на обратном пути с Антифашистского конгресса в Париже.
11
Позвольте рассказать все с самого начала. Дело было летом, и я находился на даче, когда
ко мне явились два представителя НКВД, а может, Союза писателей. Мы тогда не так
боялись подобных визитов, как сейчас. Они сказали примерно следующее: "Борис
Леонидович, в Париже собирается антифашистский конгресс. Вы тоже приглашены на
него. Желательно, чтобы вы выехали завтра. Вы проедете через Берлин, где проведете
несколько часов и сможете повидаться со всеми, с кем пожелаете. В Париж вы прибудете
на следующий день и вечером того же дня должны выступить на конгрессе". Я сказал, что
у меня нет подходящего костюма для такого случая. Но оказалось, что все предусмотрено: мне вручили пиджак, брюки, белую рубашку с негнущимися манжетами и пару черных
кожаных лакированных туфель, которые оказались как раз впору. Но в итоге вышло так, что я всем этим не воспользовался и поехал в своей обычной одежде. Позже мне
рассказали, что инициатором приглашения был Андре Мальро, один из главных
организаторов конгресса. Он объяснил советским властям, что если среди участников не
будет меня и Бабеля, известных и популярных в либеральных западноевропейских и
американских кругах писателей, то это вызовет вопросы и непонимание. Тем ничего не
оставалось, как пригласить меня, хотя мое имя и не стояло в первоначальном списке
делегатов.
В Берлине я увиделся со своей сестрой Жозефиной и ее мужем, а на самом конгрессе
встретил множество известных людей: Драйзера, Жида, Мальро, Форстера, Арагона, Одена, Спендера, Розамонд Леман и других знаменитостей. Я выступил и сказал
примерно следующее: "Насколько я понимаю, мы, литераторы, собрались здесь с целью
организовать сопротивление фашизму. Хочу выразить свое отношение к этому: не надо
ничего учреждать. Любая организация означает смерть искусства. Личная свобода и
независимость – вот, что самое главное. В 1789, 1848 и 1917 годах писатели не создавали
никаких объединений, и уверяю вас: они не нужны и приносят только вред". Похоже, я
всех удивил. Но я сказал то, что думал. Я был готов к проблемам, ожидающих меня дома.
Однако ничего не произошло, и никто ни разу не заговорил со мной о том выступлении. (5) 5. Годы спустя я спросил Андре Мальро об этом инциденте, но тот совершенно не мог
припомнить речи Пастернака. (Прим. И. Берлина)
[Закрыть]
Из Парижа я поехал в Лондон, где встретился со своим другом Ломоносовым, инженером, необыкновенным человеком, страстью к науке напоминающим своего
знаменитого однофамильца. Из Лондона я морем вернулся в Ленинград. Свою каюту я
делил с Щербаковым, секретарем Союза писателей, человеком, обладавшим большим
влиянием и властью (6) 6. Позже Щербаков занял высокий пост в сталинском политбюро. Он умер в 1945 году. (Прим. И.
Берлина)
[Закрыть]. Я начал говорить с ним и не мог остановиться. Тот умолял меня
наконец замолчать и дать ему поспать. Однако я был безжалостным. Париж и Лондон
расковали, раскрепостили меня. У Щербакова явно сложилось впечатление о
нестабильности моего душевного состояния и, вероятно, это мнение послужило мне
впоследствии на пользу".
Пастернак не сказал прямо, что репутация слегка сумасшедшего чудака или, мягче
говоря, известного эксцентрика спасла его в годы большого террора. Но другие
присутствующие, как потом выяснилось, именно так истолковали его слова и позже
объяснили мне, что за ними стояло.
Пастернак спросил меня, знаком ли я с его прозой, прежде всего, с "Детством
Люверс", на что я с удовольствием ответил положительно: ведь это была одна из моих
любимых книг. "Я чувствую по вашему ответу, – сказал поэт (абсолютно несправедливо и
необоснованно, на мой взгляд), – что вы находите эту книгу надуманной, нереальной и
несвязной. Пожалуйста, не отрицайте этого. Таково ваше мнение, и вы совершенно правы.
Я сам стыжусь своей работы – не поэзии, разумеется, а прозы. Моя проза была написана
под влиянием наиболее слабых и темных сторон символистского течения, вдохновляющего многих в те годы своим мистическим хаосом. Конечно, Андрей Белый
гениален, его "Петербург" и "Котик Летаев" замечательны, но его влияние на меня было
фатальным. Другое дело – Джойс. Все, что я писал тогда, было одержимо, принудительно, 12
надломано, искусственно и в итоге никуда не годно. Однако сейчас я пишу что-то совсем
другое: новое, светлое, гармоничное, стройное, классически чистое и простое. К такой
манере стремился Винкельман, да, и Гете тоже. Это будет мое последнее слово, мое самое
важное обращение к миру. Я хочу, чтобы эта работа стала главным моим наследием, и
посвящу ей остаток жизни".
Не могу ручаться за полную достоверность этих слов, но смысл их я хорошо
запомнил, так же как голос и интонации, с которыми они были произнесены. Работа, о
которой говорил Пастернак, была книга "Доктор Живаго". В 1945 году писатель закончил
ее первые главы. Позже он попросил меня прочитать их и отвезти его сестрам в Оксфорд.
Я выполнил его просьбу, еще не зная тогда, что итогом этого замысла станет знаменитый
роман.
На некоторое время воцарилось молчание. Потом поэт заговорил снова. О том, как
он любит Грузию, грузинских писателей Яшвили и Табидзе, о грузинском вине и
необыкновенном гостеприимстве грузин. Затем он вежливо спросил меня о ситуации на
Западе и поинтересовался, знаком ли я с Гербертом Ридом и его доктриной
индивидуализма. Эта доктрина, объяснил он, исходит из философии морали, и прежде
всего, из идеи личной свободы Канта и его истолкователя Германа Когена, которого он
знал и глубоко уважал со времени своего студенчества в Марбурге до Первой мировой
войны. А вот Блок совершенно не понимал Канта и представил его в своем стихотворении
"Кант" мистиком. Известно ли мне это? Знаю ли я Стефана Шиманского, который издал
несколько его, Пастернака, работ в переводе? Что касается ситуации в стране, ему нечего
сказать. Я должен ясно представить себе, что часы в России остановились в 1928 году
(хочу заметить, что Пастернак, так же как другие русские писатели, никогда не
произносил слов "Советский Союз"), поскольку связи с внешним миром были тогда
радикально оборваны. Пастернак добавил, что в главе, посвященной ему советской
энциклопедией, ни словом не упоминаются его последние произведения.
В разговор вмешалась Лидия Сейфуллина, довольно известная писательница, уже
немолодая женщина; она как раз вошла во время монолога Пастернака: "О себе я могу
сказать то же самое. В энциклопедии обо мне сказано: 'Сейфуллина в настоящее время
переживает психологический и творческий кризис'. Эти слова остаются неизменными уже
двадцать лет, для советского читателя я как бы пребываю в вечном кризисе. Мы с вами, Борис Леонидович, похожи на жителей Помпеи, которых на полуслове засыпал пепел. А
как мало мы знаем! Мне, например, известно, что Метерлинк и Киплинг умерли. А Уэллс, Синклер Льюис, Джойс, Бунин, Ходасевич – живы ли они еще?" По-видимому, Пастернаку такое течение разговора пришлось не по душе, он быстро сменил тему и
заговорил о французской литературе. В данный момент он читал Пруста, чьи книги ему
прислали французские друзья-коммунисты. Подлинные шедевры, по его мнению! Он, конечно, уже был с ними знаком и теперь только перечитывает. Он совсем не знал Сартра
и Камю (7) 7. В 1956 году Пастернак уже прочел одну или две пьесы Сартра, но ни одной вещи Камю, который был объявлен реакционером и профашистом. (Прим. И. Берлина)
[Закрыть] и весьма невысоко отозвался о Хемингуэе. "Не понимаю, что находит в нем
Анна Андреевна", – заявил Пастернак. В итоге поэт настоятельно и тепло пригласил меня
навестить его в московской квартире, куда он собирался вернуться в октябре.
Пастернак говорил великолепными закругленными фразами, и от его слов исходила
необъяснимая сила. Иногда он нарушал грамматические структуры, за ясными пассажами
следовали сумбурные и запутанные, а живые конкретные образы сменялись темными и
неясными. Иной раз казалось, что понять его дальше будет совершенно невозможно, как
вдруг его речь снова обретала ясность и простоту. Может, его монолог походил на
процесс сочинения стихов? Кто-то сказал, что некоторые поэты являются стихотворцами
только тогда, когда пишут стихи, а работая над прозой, они становятся прозаиками.
Другие же остаются поэтами всегда, что бы они ни писали. К последним относится
Пастернак: он был гениальным поэтом во всем, даже в разговорах на мало значимые
13
темы. Нет, я не в состоянии выразить это на бумаге! Только одно сравнение приходит мне
на ум – Вирджиния Вулф. Хотя я встречался с ней всего несколько раз, могу утверждать, что она, как и Пастернак, обладала способностью заставлять разум собеседника мчаться
из последних сил, так что его привычная картина мира иногда полностью менялась, становясь то светлой и радостной, то жуткой и пугающей. И опять неизбежное слово
"гений". Меня иногда спрашивают: что я подразумеваю под этим требовательным и
одновременно несколько туманным понятием. Могу ответить следующее. Однажды
танцора Нижинского спросили, как ему удается так высоко прыгать. Тот не видел в этом
большого достижения: "Просто большинство людей, – сказал он, – после прыжка сразу
возвращаются на землю. А этого делать не стоит. Почему бы не задержаться в воздухе на
несколько мгновений?" Основной критерий гения, на мой взгляд, это природная
способность к чему-то, что обычные люди не в состоянии не то что совершить, но и даже
понять, как такое вообще возможно. Пастернак иногда говорил так, словно прыгал в
высоту. Выразительность его слов и фраз не поддается описанию, его речь была буйной и
динамичной и в то же время трогала до крайности. Уверен, что такие гении как Элиот, Джойс, Йетс, Оден и Рассел значительно уступали Пастернаку в искусстве красноречия.
Я не хотел злоупотреблять гостеприимством хозяев и распрощался. Все мои
ожидания были превзойдены: я был восхищен – как беседой, так и личностью писателя.
После визита к Пастернаку я навестил Чуковского, жившего на даче по соседству. И хотя
тот, обаятельный человек, прекрасный, чуткий и крайне забавный собеседник, всячески
опекал и занимал меня, я не мог не думать о другом поэте, у которого побывал накануне.
В доме Чуковского я познакомился с Самуилом Маршаком, детским писателем и
переводчиком Бернса. Маршак всегда старался держаться подальше от политических и
идеологических бурь. Возможно, благодаря этому, а также покровительству Горького, ему
удалось уцелеть в страшные годы чистки. Маршак был одним из немногих литераторов, которому разрешалось встречаться с иностранцами. Во время моего пребывания в Москве
он был чрезвычайно радушен и внимателен ко мне, и общение с этим милом и добрым
представителем московской интеллигенции доставило мне много удовольствия. Маршак
с болью вспоминал террор прошедших лет и не возлагал больших надежд на будущее. Он
предпочитал беседы об английской и шотландской литературе, которую любил и
понимал, но не высказал особо интересных для меня суждений на эту тему. У Чуковского
в тот день собрался большой круг знакомых. Я вступил в разговор с одним из гостей, чье
имя, если и было упомянуто, не удержалось у меня в голове. Я спросил у него, какие
авторы в России в тот момент особенно известны и популярны. Тот назвал несколько
имен и среди них Льва Кассиля. Я спросил "Автор 'Швамбрании'?". "Именно, он". "Но
ведь это слабый роман, – сказал я, – я читал его несколько лет назад, он показался мне
лишенным воображения, скучным и наивным. Неужели вам он нравится?" "Да, – ответил
мой собеседник, – книга искренняя и написана неплохо". Но я с ним не согласился.
Несколько часов спустя я собрался уходить. К тому времени уже стемнело, и я признался, что не очень хорошо ориентируюсь на местности. Тогда тот самый гость предложил
проводить меня до железнодорожной станции. Прощаясь, я сказал: "Вы были так добры
ко мне, а я, простите, к своему сожалению, не запомнил вашего имени". "Лев Кассиль", -
прозвучал ответ. Я был буквально пригвожден к земле стыдом и раскаянием. "Почему же
вы не сказали мне? Швамбрания...". "Я уважаю ваше мнение. Вы были честны, а нам, писателям, не часто приходится слышать правду". Я бормотал извинения до самого
отхода поезда. Я не знал ни одного литератора, который в подобной ситуации повел бы
себя так достойно, не проявив ни тени тщеславия.
Пока я ждал поезда, пошел дождь. Я спрятался под досками, нависшими над
полуразвалившейся изгородью – больше укрыться было негде. Туда же подошла одна
14
молодая пара – единственные кроме меня пассажиры на перроне. Мы обменялись
несколькими словами и постепенно разговорились. Мои случайные знакомые оказались
студентами. Молодой человек изучал химию, а девушка – русскую историю
девятнадцатого века. Света на станции не было, и в кромешной тьме между нами, чужими
и незнакомыми людьми, установилось особое доверие: казалось, что можно говорить
свободно и безопасно. Девушка сказала, что Россию прошлого века принято представлять, как гигантскую тюрьму без проблеска свободы и мысли. В чем-то это справедливо, однако радикалы в то время достигли немалого, инакомыслящих не коснулись казни и
пытки, и даже многим террористам удалось уцелеть. "А теперь, – спросил я, слегка
разыгрывая незнание и наивность, – разве люди не могут открыто выражать свое мнение
по актуальным общественным вопросам?" "Стоит кому-то попробовать, – ответил
студент, – и его сметут метлой так, что мы никогда не узнаем, что с ним случилось, никогда не увидим его и ничего о нем не услышим". Затем мы сменили тему, и мои
собеседники рассказали, что молодежь сейчас читает много литературных произведений
девятнадцатого века, но не Чехова, который, похоже, устарел, и не Тургенева, чья
тематика сейчас совершенно неактуальна и неинтересна. Толстой тоже непопулярен, возможно, потому что его героическим эпосом "Война и мир" их в военные годы, как они
буквально выразились, закормили. Зато читают, если удается достать, Достоевского, Лескова, Гаршина, а также разрешенных и признанных в Союзе западных писателей -
Стендаля, Флобера, (не Бальзака и Диккенса), Хемингуэя и – неожиданно для меня -
О'Генри. "А ваши современные отечественные авторы: Шолохов, Федин, Фадеев, Гладков, Фурманов?" – назвал я первые пришедшие мне в голову имена. "А вам самому они
нравятся?" – спросила девушка. "Горький иногда хорош, – вмешался молодой человек, – и
раньше я довольно высоко ценил Ромена Роллана. Но ведь в вашей стране так много
замечательных, великих писателей!" "Замечательных? Таких, пожалуй, нет", – ответил я.
Молодые люди посмотрели скептически и недоверчиво, наверно, подумали, что я -
убежденный коммунист и потому отрицаю все виды буржуазного искусства. Поезд
подошел, мы сели в разные вагоны – беседу нельзя было продолжать на людях.
Подобно тем студентам многие русские были в то время уверены, что на Западе -
Англии, Франции, Италии – литература переживает истинный расцвет. Когда же я не
соглашался с этим, мне не верили и в лучшем случае приписывали мое мнение ложной
вежливости или буржуазному перенасыщению. Даже Пастернак и его друзья не
сомневались, что писатели и критики Запада создают бесконечные шедевры – для них, к
сожалению, недоступные. Это мнение было широко распространено и непоколебимо. Его
придерживалось большинство русских литераторов, с которыми мне случилось
встретиться в 1945 и 1956 годах: Зощенко, Маршак, Сейфуллина, Чуковский, Вера Инбер, Сельвинский, Кассиль и многие другие, а также музыканты: Прокофьев, Нейгауз, Самосуд; режиссеры Эйзенштейн и Таиров; художники и критики – с ними я виделся в
общественных местах и на официальных приемах, устраиваемых ВОКСом (Всесоюзное
общество по культурным связям с заграницей) и изредка в домашней обстановке; философы, с которыми я беседовал на сессии Академии наук, куда меня пригласил
выступить с докладом сам Лазарь Каганович незадолго до своего падения. Все эти люди
проявляли необычайную любознательность, можно сказать, ненасытность, стремясь
хоть что-то узнать о достижениях искусства и литературы в Европе (в меньшей степени в
Америке) и они твердо верили, что там один за другим создаются шедевры, которые
неумолимые советские цензоры ревностно держат под запретом. Omnе ignotum pro magnifico. Я же, вовсе не отрицая достижений западного искусства, пытался лишь указать
на то, что они не так уж безупречны и знамениты. Возможно, некоторые из тех людей, 15
позже эмигрировавшие на Запад, были глубоко разочарованы открывшейся перед ними
истинной картиной культурной жизни.
Весьма вероятно, что кампания против "безродных космополитов" была в
значительной степени как раз и вызвана стремлением подавить этот западный энтузиазм.
Сам же энтузиазм возник, очевидно, на основе слухов о роскошной заграничной жизни, распространяемых советскими солдатами, бывшими военнопленными и даже самими
победоносными войсками. Со своей стороны власти упорно насаждали русский
национализм, подогреваемый яростной и грубой антисемитской пропагандой, а радио и
пресса не уставали грубо и лживо критиковать капиталистическую культуру. Все это
должно было служить своего рода противоядием преувеличенным прозападным
настроениям, которые проявляла, по крайней мере, наиболее образованная часть
населения. В результате была достигнута как раз противоположная цель: внимание к
Западу и сочувствие евреям укоренились в среде русской интеллигенции.
Во время моего визита в Советский Союз в 1956 году я не заметил радикального
изменения настроений. Неосведомленность относительно Запада к тому времени, правда, несколько уменьшилось, слегка упал и восторг, но не в той степени, как это можно было
ожидать.
После возвращения Пастернака в Москву я стал приходить к нему еженедельно и
познакомился с ним ближе. Его речь, как и во время первого моего посещения, отличалась
вдохновением и жизненной силой гения. Никому еще не удалось достоверно описать
эффект присутствия Пастернака, голос и жесты, вот и я не могу подобрать нужных слов.
Он много говорил о литературе и писателях. Очень жалею, что не вел тогда записей.
Вспоминаю, что Пастернак из западных современных авторов больше всего любил Пруста
и был полностью поглощен "Улиссом" и что он не был знаком с позднейшими работами
Джойса. Когда спустя годы я привез ему два или три тома Кафки на английском, тот не
проявил к ним ни малейшего интереса и, как позже сам мне рассказал, отдал эти книги
Ахматовой, боготворившей Кафку. Пастернак любил разговоры о символистах, например, о Верхарне и Рильке: он знал лично обоих и глубоко уважал Рильке, как писателя и
человека. Пастернак был целиком погружен в Шекспира. Он критически отзывался о
своих собственных переводах "Гамлета" и "Ромео и Джульетты". "Я попытался, -
признался он мне, – заставить Шекспира работать на самого себя и потерпел неудачу". И
он цитировал примеры своих ошибок в переводе. К сожалению, я все забыл. Пастернак
рассказал мне, как однажды вечером во время войны услышал трансляцию по радио Би-
би-си какой-то поэмы. Хотя он воспринимал английский на слух с трудом, стихи
показались ему прекрасными. "Кто это написал, – спросил он сам себя, – должно быть, я
сам". Но это оказался пассаж из "Освобожденного Прометея" Шелли.
Пастернак рассказал, что он рос и воспитывался в тени славы Льва Толстого. Отец
поэта, художник, знал Толстого лично и даже привозил сына в Астапово к смертной
постели великого писателя в 1910 году. Сам Пастернак считал Толстого несомненным
гением, не признавал ни малейшей критики в его адрес, ценил его выше Диккенса или
Достоевского и ставил на один уровень с Шекспиром, Гете и Пушкиным. Толстой и
Россия были в его глазах едины.
Что касается русских поэтов, к Блоку, признанному в то время гению, Пастернак
относился без особой симпатии и не любил говорить о нем. Белый был ему ближе: человек со странной, необыкновенно сильно развитой интуицией, своего рода юродивый в
традициях русской церкви. В Брюсове Пастернак видел самодельно сконструированный
сложный музыкальный ящик, точный и совершенный, но не имеющий ничего общего с
поэзией. О Мандельштаме он не упоминал совсем. Он нежно отзывался о Марине
Цветаеве, с которой его связывала многолетняя дружба.
16
Маяковского Пастернак знал очень хорошо, был с ним дружен, многому научился у
него, но относился к нему неоднозначно. Он называл Маяковского великим разрушителем
старых норм, подчеркивая, что в отличие от других приверженцев коммунистических
взглядов он сумел при этом остаться человеком. Однако как истинный поэт он не
состоялся: его имя не стало святым и бессмертным, как имена Тютчева и Блока, он даже
не достиг известности и славы Фета и Белого. Триумф Маяковского был недолговечным, он относится к тем поэтам, которых порождает время; в том же ряду стоят Асеев, Клюев, Сельвинский и даже Сергей Есенин – у них всех был свой час, они сыграли свою – и
немалую – роль в развитии национальной поэзии, но затем канули в прошлое.
Несомненно, Маяковский был самым великим из них; его поэма "Облако в штанах" имеет
огромную историческую ценность. Но он возмутительно обращался со своим талантом и
в итоге довел его до полного уничтожения: дар поэта лопнул как воздушный шарик, и его
обрывки рассыпались по всей русской земле. Изменив самому себе, Маяковский
опустился до сочинительства грубых плакатных стишков, и кроме того любовные аферы
опустошили его как поэта и человека. Как бы то ни было, Пастернак испытывал
глубокую личную привязанность к Маяковскому и вспоминал день его самоубийства, как
самый трагический день своей собственной жизни.
Пастернак считал себя истинным патриотом: для него, бесспорно, было важно
ощущать связь со страной, свою историческую причастность. Он неоднократно повторял
мне, как он рад, что может проводить летние месяцы в деревне писателей Переделкино, поскольку в прошлом она находилась во владении известного славянофила Юрия
Самарина. Традиции славянофилов исходили из легендарного "Садко", Строганова и
Кочубеев, были затем продолжены Державиным, Жуковским, Тютчевым, Пушкиным, Баратынским, Лермонтовым, а позже – Аксаковым, А.К.Толстым, Фетом, Буниным, Анненским. Пастернак абсолютно отрицал принадлежность к славянофилам либеральной
интеллигенции, которая, как сказал Толстой, сама не знала, куда идет. Это, страстное, чуть ли не болезненное стремление Пастернака, называться истинно русским писателем с
русской душой явно проявлялось в негативном отношении к его собственным еврейским
корням. Он избегал разговоров на эту тему, хоть и прямо от них не отказывался.
Пастернак считал, что евреи должны ассимилироваться, исчезнуть как народ. Он говорил
со мной с позиции убежденного верующего христианина. Это не мешало поэту
восхищаться некоторыми еврейскими писателями, в том числе Гейне и Германом Когеном
(своим неокантианским ментором в Марбурге), чьи идеи, прежде всего философские и
исторические, он считал основательными и убедительными. Но если в разговоре с
Пастернаком речь заходила о палестинских евреях, то на его лице появлялось выражение
истинного страдания. Насколько я знаю, отец поэта – художник – взглядов сына не
разделял. Однажды я спросил Ахматову, так же ли болезненно относятся к этому
предмету ее другие близкие друзья еврейской национальности: Мандельштам, Жирмунский, Эмма Герштейн? Ахматова ответила, что те, хоть и не придают большого
значения своему происхождению, далеки от позиции Пастернака и не пытаются подобно
ему всячески сторониться еврейской темы.
Вкусы Пастернака в области искусства сформировались в период его юности, и он
навсегда остался верен мастерам той эпохи. Его музыкальным идолом был Скрябин. (Поэт
когда-то сам подумывал о поприще композитора). Никогда не забуду полных поклонения
и восторга высказываний его и Нейгауза, бывшего мужа жены поэта Зинаиды, о
Скрябине, чья музыка оказала сильное влияние на них обоих. В живописи они
безусловно поклонялись художнику-символисту Врубелю, которого наряду с Николаем
Рерихом ставили выше всех современных живописцев. Пикассо, Матисс, Брак, Боннар, Клее и Мондриан значили для них столь же мало, как Кандинский и Малевич.
17
На мой взгляд, Ахматова, Гумилев и Марина Цветаева – последние великие голоса
девятнадцатого столетия, а Пастернак и Мандельштам, несмотря на их совершенно
разный стиль, конца прошлого и начала нынешнего века. Казалось, новейшие течения в
искусстве, представляемые Пикассо, Стравинским, Элиотом и Джойсом, не оказали на
них ни малейшего влияния, хоть они относились к ним с уважением и иной раз даже с