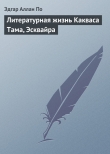Текст книги "Короткое лето Сэмюэля Финка, эсквайра (СИ)"
Автор книги: Исаак Розовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Было поздно, почти девять часов. Стало совсем темно (во Фрунзе темнело рано). Давно было пора домой. Он знал, что дома уже волнуются, а бабушка наверняка совершила несколько безуспешных ходок по окрестностям, шаркая больными ногами и выкрикивая: 'Самуильчик! Самуильчик!' Он знал, что дома его ждет нагоняй, но не мог же он уйти первым! Только когда 'гости' начали расходиться – они шли по двое, а то и по трое, обнявшись за плечи, от чего казались сросшимися, как сиамские близнецы, пыля босыми ногами по белевшей в наступившей темноте дороге – он тоже позволил себе подняться и поспешить домой. Он мчался, в се убыстряя шаги, чему немало способствовало предчувствие, что, похоже, придется помучиться с животом. Это предчувствие его не обмануло. Зато о другом – куда более важном и страшном – его интуиция молчала. Шмулик ведь не знал, что беда обыкновенно подстерегает нас на взлете, а еще – что не только в плохих книжках, но и в жизни преступление влечет за собой неотвратимое, а, главное – незамедлительное, наказание .
Словом, когда он распахнул дверь в большую комнату, то обнаружил, что все семейство сидит вокруг стола, а на нем – о, ужас! – валяется раскрытая шкатулка и в беспорядке рассыпано ее содержимое (не считая, увы, одного безвозвратно утерянного предмета). Отчаяние, казалось, парализовало бедного Шмулика, но иная – чисто физиологическая – потребность вынудила его ойкнуть и что есть мочи броситься в сад, в глубинах коего под сенью винограда смутно маячило дощатое сооружение, предназначенное для известно каких целей. Он едва избежал еще одного позора, в последний момент успев опустить шаровары и низвергнуть в черную бездну 'очка' последствия неправедного пира. На несколько мгновений он ощутил облегчение, но потом нравственные и, увы, физические страдания (ибо в животе продолжало крутить) нахлынули на него с прежней силой. Не менее получаса он боролся и с теми, и с другими, но если с физическими тяготами удалось как-то справиться, то нравственно он был совершенно раздавлен. Он чувствовал, что разоблачен и погиб. Погиб безвозвратно! Что оставалось делать бедному Шмулику? Какой-нибудь гусар в таких обстоятельствах немедля пустил бы себе пулю в лоб. Шмулик же продолжал сидеть со спущенными штанами, машинально созерцая сквозь щели между досками сад, казавшийся гораздо светлее мрака, окружавшего его в нужнике, и свет, мирно струящийся из окон дома, который еще совсем недавно казался ему родным и надежным. И вот теперь... все кончено! Он даже застонал от чувства несмываемого позора. Он, вероятно, продолжал бы сидеть так еще долго. О, он готов был остаться здесь навеки! Лишь бы отдалить ту минуту, когда ему придется взглянуть в глаза бабушке и маме. А, главное, папе. Но вот он услышал приближающиеся мамины шаги.
–Иди в дом. Немедленно. – тихо и сухо сказала она и, не дожидаясь его реакции, тут же повернула назад.
Посидев еще несколько минут, он безнадежно поплелся следом, скрипнул входной дверью и, потоптавшись перед полуоткрытой дверью большой комнаты, наконец, вошел или, лучше сказать, вполз в нее. Они сидели в тех же позах, что и в первый раз. Он бросил на них быстрый взгляд. Ему показалось, что папа сидит весь черный, и он от испуга и стыда снова опустил глаза. Несколько секунд, которые, как пишут в плохих книжках, показались ему вечностью, продолжалось гнетущее и вязкое молчание. Шмулик шмыгнул носом, чувствуя, как к глазам неудержимо подступают предательские слезы. Но он еще крепился.
–Где браслет? – очень тихо спросил отец.
–Да, скажи, где браслет? – спросила мама, как бы вторя ему, а на самом деле, чтобы не дать снова воцариться этой гнетущей тишине.
Ну, а следом за ней, подобно сирене, вступила бабушка.
–О, готеню, готеню! – заголосила она, не забыв, впрочем, предварительно прикрыть форточку, чтобы соседи не слышали. – Где это слыхано? Мой внук – воришка?!
Тут начался подлинный, как выражалась бабушка, гвалт. Все кричали одновременно. Шмулик слышал только отдельные выкрики:
–Семейная реликвия!
–Настоящие бриллианты!
–Диночке на свадьбу!
Папа гудел, мама тихо плакала, бабушка воздевала руки к потолку. Даже Динка что-то пищала и явно всех подзуживала. Как ни странно, от их криков Шмулику стало легче. Ведь он... ведь он... Слезы брызнули у него из глаз, как это бывает только в детстве. Тут ему стало совсем легко. Он плакал, не стыдясь. Он просил прощения. Он искренне раскаивался. Он уже и сам совершенно не понимал, как мог совершить этот ужасный поступок...Он правда-правда больше никогда не будет!..
Та тяжесть, которая еще минуту назад давила на него, куда-то исчезла. Собрание тоже явно смягчилось. Ему даже показалось, что бабушка протянула руку, чтобы погладить его, но под каменным взглядом отца быстро ее отдернула.
-Все же расскажи нам, так – для интереса – где браслет? – повторил отец.
Шмулик, все еще всхлипывая, начал сбивчиво рассказывать. Папа в некоторых местах глухо постанывал, как от зубной боли, бабушка всплескивала руками, мама хваталась то за голову, то за сердце, но все слушали его, не перебивая.
Только когда Шмулик дошел до торга с барыгой, папа спросил:
–И за сколько же вы его продали?
–За 60 рублей... – даже с некоторой гордостью ответил Шмулик.
–За сколько? За 60 рублей?! – вскричала бабушка, и утихший было гвалт вспыхнул с прежней силой.
–Ограбил!
–Мошенник!
–Идиот! Ты, ты идиот!!
А потом снова:
–Настоящие бриллианты!
– Семейная реликвия!
–60 рублей! Держите меня!
–Диночке на свадьбу!
Но на таком градусе сцена не могла долго продолжаться, и вскоре вновь наступил естественный спад. Общий крик разбился на отдельные островки, голоса постепенно зазвучали глуше, можно было уже разобрать содержание отдельных партий и т.д.
В конце концов, Шмулику в ультимативной форме предъявили несколько условий. Во-первых, чтобы больше он никогда ('слышишь, никогда!') не смел выносить из дома никаких вещей, даже, по его мнению, ненужных. Шмулик обещал. Во-вторых, чтобы он взялся за ум. Шмулик обещал и это. Чтобы слушался бабушку и помогал ей, чтобы не забывал перед сном помыть ноги ('самостоятельно и без напоминаний' – уточнил папа.) И еще, и еще... Все условия были Шмуликом безоговорочно приняты. Тем не менее, все (и он в том числе) понимали, что содеянное было слишком тяжело, чтобы вовсе обойтись без наказания. И оно – наказание – должно быть суровым. После краткого совещания семейный совет (трибунал?) постановил большинством в три голоса при одном воздержавшемся (бабушка), что отныне и вплоть до сентября, когда надо будет впервые идти в школу – в первый класс, Шмулик будет находиться под домашним арестом. То есть, больше, чем два месяца (ведь только заканчивался июнь!) никаких больше улиц, гулянок допоздна, дружков-бандитов, купания в арыках, набитых всякой гадостью, и прочих геройств. А надлежит отныне Шмулику проводить свои дни исключительно дома и в саду. В праздности, безделье и одиночестве...
–Ничего, ничего. Может быть, наконец, за ум возьмется.
–Поскучать иногда тоже полезно...
–Хоть книжку умную прочтешь! А то ведь совсем читать перестал!..
–И вообще, надо уже о школе подумать. Ничего ведь еще не куплено – ни портфель, ни тетрадки. И учебников нет.
–Ну, что, сынок, понял? Провинился – надо отвечать. Ведь виноват же? – мягко спросил папа.
Шмулик кивнул.
–Согласен с наказанием?
Шмулик снова кивнул.
– Ну вот. Запирать мы тебя, конечно, не будем. Ты ведь человек ответственный, правда?
–Да-а... – протянул Шмулик, все еще всхлипывая.
–Ну вот... – снова повторил отец. – Значит, обещаешь – сам из дома ни ногой.
–Обещаю...
–Слово даешь? – переспросила мама.
–Ага...
–Как же, сдержит он свое слово! – прошипела Динка. – Нет уж, пусть поклянется самой главной клятвой!
–Ну, давай, клянись! – поддержала предательницу мама. – Что сам будешь дома сидеть. И бабушке помогать.
–Пожалуйста... Честное ленинское и... честное сталинское – произнес Шмулик, с обидой и укоризной глядя на сестру. Он ведь знал, что обещания обещаниями, а такую клятву нарушить было никак нельзя.
–Ну, ладно, гешефтмахер! – улыбнулся, наконец, папа, произнеся это непонятное слово. – Времени-то уж... 11 часов. Кушать будешь?
Шмулик только махнул рукой, мол, какой там кушать.
–Тогда умойся и иди спать...И чтобы больше нас не огорчал.
И потекли для Шмулика тягостные дни заточения. Он целыми днями слонялся по дому, выходил в сад, валялся в гамаке, подолгу стоял у забора, с тоской глядя на пустынную раскаленную от солнца улицу, через которую неторопливо переползали черепахи, да порой проезжал киргиз на ишаке. Его компании видно не было. В это время, т.е. днем, мы прохлаждались в арыке, который протекал по дальней – большой – улице, или пытались с черного хода проникнуть в соседний кинотеатр, и если нам это удавалось, с утра до вечера смотрели крутившийся в тот день фильм – например, 'Чапаева', 'Фанфан-Тюльпан' или, уже не помню, может быть, 'Джульбарс' -, наслаждаясь относительной прохладой и полумраком зрительного зала. Техника была простой – минут за 10 до конца сеанса прошмыгнуть через входные двери обратно в фойе (вестибюль), якобы в уборную, пересидеть там несколько минут, а потом, смешавшись с новой порцией зрителей, ожидавших начала следующего сеанса, вместе с ними снова проникнуть в зал. Если черный ход в этот день был закрыт, мы торчали на базаре, тыря у зазевавшихся теток выставленные на продажу плоды полей, садов и огородов. Да и сомлевшие от жары тетки реагировали на грабителей вяло, скорей для вида, поскольку сейчас, в разгар сезона, они и так продавали свой урожай практически задаром.
Словом, с утра мы уходили на поиски этих и других – не менее упоительных и волнующих – приключений, а возвращались ближе к вечеру и уже до самой темноты носились по улице, гоняя обруч, или играя в казаки-разбойники, или в 'ножички', или в расшибалку. Днем никого из нас обыкновенно не бывало, а потому Шмулик напрасно вглядывался и вслушивался в звенящую знойную тишину, в тщетной надежде услышать наши приближающиеся крики. Зря потомившись у забора, он уныло брел в дом, где бесцельно слонялся по комнатам и подолгу застывал перед книжным шкафом, надеясь выудить какую-нибудь интересную, но почему-то раньше не замеченную книжку. Увы, все хорошие книжки были им уже прочитаны и перечитаны. Оставались только толстые без картинок тома из собраний сочинений. Может быть, они тоже были интересными, но как-то 'не по росту'. Там все было про любовь и прочие тонкие материи. В общем, скучища...
От тоски Шмулик даже открывал пару раз Диккенса и этого, как его, Филдинга, но после 8-10 страниц дело дальше не шло. Правда, в какой-то из этих книжек одного из героев звали Сэмюэль. Шмулик даже не сразу понял, что это – его имя. Только на иностранный манер. Тоже, конечно, не бог весть что – слишком напыщенно, что ли, но все-таки не так отвратительно, как Самуил, тем более, Самуильчик.
Там же, кстати, встретилось ему и незнакомое слово 'эсквайр'. Из контекста он догадался, что обозначает оно какое-то звание или должность. Как, например, товарищ или инженер. Только стояло в странном месте – после фамилии. А по-нашему положено – перед. Товарищ Петров или там инженер Петров, а не Петров, товарищ или там Петров, инженер. Странно, конечно. Шмулик даже примерил это словцо на себя. 'Сэмюэль Финк, эсквайр!' – торжественно произнес он. Потом еще дважды повторил. Что ж, звучало в целом неплохо. Но читать от этого интереснее не стало. Шмулик со вздохом закрыл книжку и поплелся в сад. Там он взобрался на гамак и долго лежал лицом вверх, разглядывая сквозь виноградные листья резные кусочки синего неба. Время тянулось бесконечно. Но, наконец, солнце начинало клониться к закату, тени становились длиннее, и Шмулик снова околачивался поблизости от калитки в ожидании нашего возвращения.
А мы возвращались очумевшие от солнца, от бесконечной беготни, от собственного крика. Усталые, но счастливые, как сейчас принято говорить.
Да, несладко приходилось Шмулику 'под домашним арестом'. Более всего его удручало, что он лишился свободы именно в тот момент, когда наконец-то обрел, как ему намечталось, столь чаемые им братство и равенство.
К счастью, через несколько дней его вынужденная коммуникативная депривация была
прервана и даже сменилась кратковременным, но несомненным триумфом. Дело в том, что бабушка сама извелась, глядя на страдания юного Шмулика, и все настойчивее стала требовать смягчения наказания. 'Нальзя же так, ребенок целый день мается...' – говорила она. Мама под ее влиянием тоже стала проявлять некоторую амбивалентность. И только отец оставался неумолим. В конце концов, вся ответственность оказалась возложена на него.
–Я согласна, отменять собственные решения не педагогично, но так ведь тоже нельзя... -
сказала мама. – Надо придумать ему какое-нибудь развлечение.
–Да, Гриша, если ты так уперся, то хоть придумай ему какое-нибудь развлечение. -поддержала бабушка.
Отец задумался. Вспомнив собственное детство, он поздно вечером, сразу после работы, даже не поев, удалился в сарай. Там у него был сооружен верстак и хранились разные столярные и слесарные инструменты. Отец с детства любил мастерить. Через полтора часа он появился и, судя по его лицу, явно не считал, что потерял время зря. Шмулику (и всем другим желающим) был торжественно предъявлен некий механизм, на первый взгляд выглядевший не слишком казисто. Более всего это было похоже на крайне примитивный пистолет или, лучше сказать, гарпун. Это был довольно толстый деревянный брусок, являвшийся как бы стволом. В нем было просверлено отверстие, в которое была вставлена пружинка. С помощью специального рычажка, оттягивавшегося назад, она сжималась до отказа. С помощью нажатия того же рычажка конструкция приводилась в действие – пружинка распрямлялась, ударяя в легкую пластинку. Раздавался резкий щелчок, и из 'дула' вылетала иголка, соединенная с этой пластинкою ниткой. Дальнобойность этого 'орудия' была невелика – от силы 5-7 сантиметров. В первый момент Шмулика даже охватило разочарование. Но, после краткого объяснения и демонстрации принципа действия, оно сменилось восхищением и энтузиазмом.
–Это такая штука, – начал отец, – похожая на гарпун. Знаешь, что такое гарпун?
Шмулик отрицательно покачал головой.
–Ну, как же, мы же еще в кино недавно смотрели, как на китов охотятся. Помнишь? – спросила мама. Шмулик вспомнил, как в журнале 'Новости дня', который показывают перед настоящим фильмом, совсем недавно они видели сюжет про китобойную флотилию и как они охотятся на этих гигантских китов, добывая ценные продукты – жир, китовый ус и что-то еще непонятное, чего Шмулик не запомнил.
-Ну, на китов с этим гарпуном вряд ли получится,.– продолжил папа, – а вот поохотиться на насекомых вполне можно. На мух, на ос и так далее. Вот смотри, я тебе покажу....
С этими словами отец осмотрелся, увидел муху, нагло усевшуюся на одну из клубничен, лежавших в миске в центре стола, прицелился и нажал на 'курок'. Он, конечно, промазал. Муха успела увернуться и стала с невероятной скоростью кружить по комнате, возбужденно жужжа. Зато гарпун вонзился и пронзил клубничную мякоть чуть ли не насквозь (только иголочное ушко торчало снаружи). Отец потянул за нитку, вытащив 'окровавленную' иголку, из клубничины брызнул сок, а Шмулик даже зааплодировал.
–Можно я?! Д-дай, д-дай мне пульнуть? – в крайнем возбуждении затараторил он.
Папа протянул ему гарпун, предупредив:
–Только, пожалуйста, осторожно...
Шмулик, дрожа от возбуждения, схватил гарпун и направил его на другую муху, сидевшую на стене.
–Нет, нет! – предостерег отец. – По твердой поверхности не стреляй, а то иголка быстро затупится. И, вообще, может отскочить, и в глаз!..
Тут уж бабушка, заслышав о таких ужасах и опасностях попыталась протестовать. Папа заверил ее, что это практически безопасно.
–И потом – так ведь нехорошо... Им же больно... – выложила бабушка свой последний аргумент. Но как-то вяло. И то – память о войне еще была свежа. Нравы по тем временам были еще суровые, не смягченные ни абстрактным гуманизмом, ни заботой о братьях наших меньших... Мучить кошек еще не казалось тогда серьезным грехом. Не говоря уж о насекомых. Мух же – разносчиков всяческой заразы – никак нельзя было считать друзьями человечества. Короче, Шмулик сделал-таки два-три выстрела 'в молоко' и, после долгих уговоров, отправился наконец спать, прижимая к груди свое сокровище. Он еще долго не мог уснуть в предвкушении завтрашней 'охоты'.
Наутро, наскоро умывшись и что-то проглотив на завтрак (он даже не помнил что, ибо делал это машинально), Шмулик выскочил в сад. Было еще рано и основная армия насекомых еще не начинала свой набег. Наблюдалось лишь небольшое количество мух и мотыльков. Но для начала Шмулику и этого было достаточно. Он самозабвенно стрелял по всему, что движется. Он подкрадывался к своей ничего не подозревающей добыче, чувствуя себя индейцем на охоте за бизонами, и тщательно целился из своего страшного оружия. Мухи и мотыльки оказались неудачным объектами для охоты. Хотя и по противоположным причинам. У мух была слишком хорошая реакция, потому они были неуязвимы для Шмуликова гарпуна. Мотыльки же – наоборот. В них было очень легко попасть. Если гарпун не попадал в тельце, то уж в крыло – наверняка. Гарпун пронзал одно, а то и оба крыла насквозь. Несчастный мотылек оказывался как бы нанизан на нитку. Он начинал биться, трепыхать крылышками, но освободиться, разумеется, не мог.
Нитка начинала разрывать крылышки и через несколько секунд от них оставались лишь жалкие лоскутки и ошметки. Изуродованный обескрылевший мотылек еще пытался позти, волоча за собой нитку с иголкой, а потом затихал. При виде мучений второго или третьего мотылька, ставшего его жертвой (на первого он не обратил внимания, захваченный охотничьим азартом), нечто вроде жалости кольнуло сердце Шмулика. Он не стал раздумывать о мимолетности бытия, о преходящести земной красоты, померкшей от его руки и у него на глазах. Нет, он просто решительно занес мотыльков и бабочек в свою личную 'красную книгу', добровольно наложив на себя запрет на их отстрел.
Но этот запрет ни в коей мере не распространялся на ос, пчел и даже роскошных черно-желтых бархатных шмелей. Техника охоты была чрезвычайно проста – насекомые жужжали над цветами и время от времени замирали на каком-нибудь из них. Особенной популярностью пользовались цветы в виде раструбов (Шмулик не знал их название), росшие на кустах вдоль забора. Глупые пчелы и шмели заползали в них головой вперед, оставляя полностью открытым и беззащитным свой тыл. Оставалось только прицелиться и загарпунить их. При особо удачных выстрелах пронзенным оказывалось не только тельце, но и сам цветок. Пчела или шмель оказывались как бы пришпиленными к нему. В большинстве случаев гарпун поражал только само насекомое. Если глубина проникновения была невелика, раненой жертве иногда удавалось освободиться и улететь. Но, как правило, насекомому освободиться не удавалось. Пронзенное иглой, оно бессильно повисало на нитке. Только шмели оказывали бешеное сопротивление – они жужжали, кружились, неся в себе гарпун и ощутимо натягивали нитку, так что иногда казалось, что она вот-вот порвется. Жалости к ним Шмулик не испытывал, ведь осы и пчелы были сильными и коварными врагами, в прошлом приносившими немало неприятностей в виде болезненных укусов и самому Шмулику, и другим членам семьи. Бабушка, так та вообще их панически боялась. Так что они, в сущности, получали по заслугам. К тому же это не была бойня, как в случае с бабочками. Ведь существовала вероятность, что раненный зверь попробует атаковать охотника. Хотя это ни разу не произошло, но теоретически такая возможность существовала. Это ощущение потенциальной опасности подстегивало Шмулика. Как ни крути, но шансы были хоть и неравными, но обоюдными.
За несколько часов Шмулик достиг в искусстве охоты если не совершенства, то, во всяком случае, степеней высоких. Свои немалые трофеи Шмулик складывал в специально приспособленную для этого стеклянную и высокую банку из под компота. К полудню тела уничтоженных или умирающих врагов полностью покрыли ее дно. Бабушка, у которой он выпросил банку, при виде этих подвигов неодобрительно качала головой.
–Самуильчик, им же больно!.. – укоряла она внука. Но тот оставался к увещеваниям глух.
Он даже не сразу услышал призывный свист из-за забора. Да, мы все – пацаны – с утра, как обычно, отправились по своим делам. Но одному из нас в тот день было запрещено отправляться 'в город' из-за накануне порванных штанов.
Страдалец маялся от скуки и, за неимением лучшего, готов был общаться даже со Шмуликом. Но тот, как назло, его не замечал. Надеясь привлечь его внимание, один из нас уже трижды демонстративно продефилировал по улице, поковырял палкой в пыли, но все тщетно. Шмулик находился в саду, но что-то искал где-то в другом конце сада. В конце концов, отчасти удивленный и задетый таким поведением пацан все же решил, что, если гора не идет к Магомету, то... Он подошел к забору вплотную и снова, на этот раз громче, свистнул. Наконец, Шмулик заметил его и вприпрыжку бросился к забору.
–Слышь, Санек?! Ты чево делаешь-то? Своих не замечаешь?.. – как бы небрежно завел тот разговор.
Шмулик, конечно, немедленно поведал ему о своем увлечении, продемонстрировал гарпун и банку с трофеями. У того загорелись глаза.
–Ух, классно! Вот умат! – восхищенно промолвил тот, открывая калитку с явным намерением войти. – Дай-ка и мне!..
На какое-то мгновение Шмулик застыл в смятении. Он понимал, что смысл, т.е. дух наказания, которому его подвергли, заключался в том, чтобы он не общался с этими 'гадкими детьми'. С другой стороны, буква закона была бы соблюдена, ведь на улицу он не выходит. Словом, перед Шмуликом встала вечная проблема: что соблюсти – Дух или Букву? Как это часто бывает, он сделал выбор в пользу буквы.
–З-заходи, конечно... – сказал он, отбросив колебания, и протянул гостю свое сокровище. Тот почти с урчанием схватил гарпун и бросился в самую гущу кустов.
Бабушка, перед которой возникла та же дилемма – Дух или Буква , поступила в точности так же, как и внук. Она удовлетворилась соблюдением буквы и накормила обоих обедом. Гость моментально проглотил и первое, и второе, и третье – бабушкин знаменитый компот, попросил добавки, после чего удовлетворенно отрыгнув, снова поспешил в сад, сопровождаемый Шмуликом.
Ближе к вечеру гость расчувствовался окончательно:
–Санек, ты настоящий друг! Другой бы пожидился дать пострелять, а ты... Ты, хоть еврей, а не жадничаешь.
И вообще, – добавил он, похлопывая себя по животу, – жратву твоя бабка готовит, что надо. Я прям обожрался. Завтра с утра снова приду. Ты жди...
После чего исчез в сгущающихся сумерках. Шмулик и бабушка, не сговариваясь, сочли за благо не сообщать родителям о состоявшемся визите.
Наутро вчерашний гость снова явился, как и обещал. Да не один. Он привел еще троих, которые уже были наслышаны о новом развлечении и жаждали тоже принять участие в восхитительной охоте. О, это был чудесный день! Каждый вновь прибывший получил доступ к гарпуну, и, хотя на каждого доставалось лишь ограниченное число выстрелов, ибо желающих было много, никто не был в обиде.
Охота продолжалась часа три. Но постепенно все наши противники – осы и шмели – то ли были истреблены, то ли у них наступил послеполуденный отдых, который мы нынче называем иностранным словом 'сиеста'. Да и мы сомлели, ибо день был на редкость жарким даже по фрунзенским понятиям. Бабка Шмулика дважды выносила нам большую кастрюлю с ледяным компотом, но мы быстро ее осушили, а когда затребовали у Шмулика еще компотца, бабка сказала, что мы все выпили. Ну, ничего, она сейчас идет на рынок, и завтра всех друзей Шмулика будет ждать новая порция.
В саду у Шмулика росло огромное черешневое дерево. Которое склонялось как раз над невысоким сарайчиком, в котором его отец, как уже говорилось выше, иногда что-нибудь мастерил. Кто-то из нас предложил забраться на крышу сарая, чтобы полакомиться черешней, которой, как мы видели снизу, оставалось еще много, хотя птицы уже славно над ней поработали. В сарае как раз лежала лестница, которую мы приставили к сараю и быстренько залезли на наверх. Крыша была покрыта черным толем, который так разогревался на солнце, что стоять на нем было все равно, как на сковородке. По счастью, бОльшая часть крыши была в тени того самого черешневого дерева, и мы с комфортом в этой тени расположились. Ветви черешни, усыпанные огромными, тускло отсвечивающими, запыленными и сладкими-пресладкими ягодами, лежали прямо у наших рук. И мы придирчиво отбирали самые лучшие из еще непоклеванных птицами ягод и лениво сплевывали косточки прямо в кусты, окружавшие сарай. Словом, блаженствовали. А Шмулик явно чувствовал себя на седьмом небе. Ведь он лежал на крыше, как равный среди равных, впитывая сладость не только черешни, но и настоящей мужской дружбы.
Но все хорошее рано и ли поздно кончается. Вот и мы через какое-то время слезли с крыши и от нечего делать стали бродить вдоль грядок. Кто-то из нас поднял дощечку, валявшуюся тут же, и стал этой дощечкой землю на грядке рыть-ковырять. И обнаружил кое-что интересное. Это были черви. Да какие!.. Никогда за всю свою последующую жизнь я больше таких не встречал. Омерзительные, жирные, с палец толщиной, белого цвета. Даже какие-то полупрозрачные, а внутри них переливалась отвратительная жидкость. И если нажать посильнее, эти черви (а, может быть, и личинки чего-то?) лопались, и белесая жидкость обрызгивала все вокруг. В общем, даже притрагиваться к ним было противно. Но пришлось, потому что мы заметили, как Шмулик смотрел на этих червей – не только с омерзением, как и все мы, но еще и с явным страхом. Чего же еще надо? Мы сразу оценили перспективу нового развлечения и стали бросать червей прямо в него, а потом и запихивать ему под майку. А Шмулик вел себя, как и подобает, чтобы мы могли всласть повеселиться. Он стал отбиваться, уворачиваться, а потом по-девчоночьи скрючился, прикрывая лицо и все тело локтями. Да к тому же зарыдал, а потом вообще у него началась истерика. Он упал на землю, сжавшись клубочком , и только повторял сквозь слезы: 'Робя, не надо. Ну, пожалуйста, не над-д-до...'
Но тут раздался просто душераздирающий крик. Это Шмуликова бабка вернулась с рынка. Она побросала у калитки тяжелые сумки и с какой-то удивительной скоростью, учитывая ее возраст и полноту, бросилась спасать своего внука. Мы же, конечно, тут же кинулись врассыпную.
Это потрясение не прошло для Шмулика бесследно. Бабка жаловалась любопытствующим соседкам, что он три дня пролежал с высокой температурой и вроде как в бреду. И его все время тошнило. Дважды пришлось вызывать врача. Но потом Шмулик потихоньку оклемался. Соседки поахали и тут же разнесли эту информацию по окрестным домам. Так что она очень скоро дошла до наших родителей. Нас, естественно, выпороли. А на очередном совете в семействе Шмулика было постановлено, что он не будет выходить даже в сад, а на улицу – только вместе с бабушкой или с Динкой. А по вечерам, когда родители вернутся с работы, 'мы будем гулять, ездить в город и, вообще, всячески развлекаться. А через месяц примерно мы съездим на недельку на Иссык-Куль. Хорошо, Сашенька?'. Шмулик уже не возражал.
Так он стал выходить из дому исключительно с бабушкой (ну, или с сестрой, что случалось редко). Куда они, туда и он. Они в город – и он в город, они на рынок – и он на рынок.
А еще примерно через две недели ехали мы с ребятами на автобусе в город по каким-то нашим неотложнейшим делам. Почему-то автобус остановился у рынка и надолго тут застыл. Мы решили даже, что он сломался. Но нет, просто ему перегораживала дорогу довольно большая и плотная толпа. Мы прильнули к стеклам и разглядели с высоты автобуса, что в центре толпы мелькают какие-то фигуры в одеждах ярких цветов – зеленых, красных, белых.
'Клоуны! Смотрите, клоуны! Робя, айда туда!' – крикнул кто-то из нас. Идея, конечно, была вполне безумная. Откуда было взяться ' в рабочий полдень' клоунам, да еще посреди довольно оживленной по фрунзенским масштабам городской магистрали? Но мы как-то мгновенно в это поверили и с криками 'Клоуны, клоуны!' выскочили из автобуса, благо водитель уже давно открыл входные двери. Мы юркнули в толпу и очень быстро протолкались в первый ряд зрителей, которые плотным кольцом окружали совершенно пустое и круглое, на манер цирковой арены, пространство, на котором что-то происходило.
Ну, конечно, это были вовсе не клоуны, а совсем даже наоборот. Мы не сразу поняли, что в центре сидит – прямо на земле – бабка Шмулика, держит на руках самого Шмулика, и молча раскачивается из стороны в сторону, как-будто его баюкает. И все ее зеленое платье заляпано кровью. А рядом стоит Динка, тоже в зеленом платье, что-то кричит и рыдает, и тоже вся перепачкана в крови. А сам Шмулик лежит на руках у бабки. Лицо белое-пребелое, глаза закрыты, как будто спит. И тоже весь в крови. Вот откуда все эти яркие пятна, которые мы углядели из автобуса. А еще в нескольких метрах от них стоит 'Победа'. Ее дверцы распахнуты. А рядом с ней, и тоже на земле, сидит, должно быть, водитель, обхватив голову руками, И тоже раскачивается.
Потом приехала 'Скорая'. Выскочило несколько человек в белых халатах, хотели взять у бабки Шмулика, но та так вцепилась в него, что пришлось унести их вместе. Потом и Динку посадили в ту же машину, и они уехали. Толпа потихоньку стала редеть и распадаться.
Кто-то из очевидцев в сотый раз пересказывал опоздавшим, как все произошло: 'Ну, девчонка-то перебежала дорогу. А малой-то за ней. А бабка на другой стороне осталась и кричит, чтобы он возвращался, малой-то. А он как раз посередь улицы стоит. А машины уже едут в обе стороны. Ну, он и заметался, и как раз угодил во-он под ту 'Победу'.
Как потом выяснилось, он угодил под машину 'очень удачно', т.е. умер тут же на месте. 'И хорошо, что так. Хоть не мучился, бедняга...'.
Через несколько дней Шмулика похоронили. Для большинства из нас сам процесс похорон был еще в диковинку. Хотя на войне очень многих поубивало, но это ж на войне. А в нашей мирной жизни пока еще царило бессмертие и никто не умирал. Поэтому многие из нас в обязательном порядке намерены были присутствовать на похоронах.
Но накануне похорон отец Шмулика, весь черный и усохший, как нам показалось, обошел дома, в которых мы жили, и просил родителей, чтобы мы на похороны не приходили. Нас и не пустили, мол, 'да-да, конечно, мы понимаем'. Хотя эта просьба отца вызвала все-таки неоднозначную реакция общественности. Я сам слышал, как одна соседка с неудовольствием говорила другой: 'Уж больно эти... Финки... нос задирают. Уж и на похороны к ним не приди...'