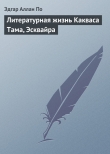Текст книги "Короткое лето Сэмюэля Финка, эсквайра (СИ)"
Автор книги: Исаак Розовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Annotation
Розовский Исаак Яковлевич
Розовский Исаак Яковлевич
Короткое лето Сэмюэля Финка, эсквайра
Саша, он же – Шмулик, Финк к моменту описываемых событий представлял собой мальчика с виду лет этак восьми, что полностью соответствовало возрасту, указанному в метрике. Он был довольно крупным и полным ребенком, склонным к одышке. Волосы у него были явственно медного цвета в мелких колечках. Большие голубые глаза, всегда широко раскрытые, придавали его довольно пухлому лицу выражение постоянного удивления и некоторой растерянности, обескураженности даже. Как это часто бывает у рыжих, кожа его была очень нежной и белой, а при волнении легко покрывалась красными пятнами. Не самая лучшая кожа для Фрунзе. В отличие от других мальчишек, которые под киргизским солнцем уже в мае загорали до черноты, он под этим же солнцем мгновенно 'сгорал'. Любой открытый ультрафиолету участок Шмуликова тела через несколько минут начинал краснеть, а затем на нем появлялись волдыри и ожоги. По этой причине он всегда, даже в самую жару, ходил в шароварах, в рубашке с длинным рукавом, а голова и лицо оберегались панамкой. Ко всему прочему, Шмулик слегка заикался. Заикание возникло в три года, когда его напугала и покусала-таки соседская собака, оставив ему на память глубокий шрам на правой руке, чуть ниже локтя. Хотя в спокойном состоянии дефект речи был почти незаметен, сводясь к легким и редким запинкам, но в состоянии волнения он проявлялся гораздо сильнее. Тогда его речь становилась затрудненной, а порой, увы, и просто неразборчивой. А волноваться Шмулику приходилось частенько. Вообще, он был ребенком пугливым и нервическим.
Если мы добавим к этому, что семья Финков в социально-экономической иерархии нашей улицы бесспорно занимала первое место (причем, с колоссальным отрывом) и была довольно интеллигентной, а, значит, неукоснительно исповедовала принцип, 'что у ребенка должен быть режим', то нетрудно догадаться, что в Шмулике, несмотря на все его попытки их утаить, явственно проглядывали некоторые признаки домашнего воспитания, а, значит, он по определению был 'маменькиным сынком' – характеристика справедливая, но не самая лестная. Словом, среди сверстников – худых, полуголых, черных, вертких, отчаянных и всегда голодных сорви-голов – он являл собой классический пример 'белой вороны'.
Биография Шмулика примечательна не более, но и не менее, чем его внешность. Он родился в городе Фрунзе, бывшем тогда столицей Киргизской ССР, 21января 1947 года. Там его семья находилась с 1942 года (со времен эвакуации). Семья, заметьте, в полном составе, то есть, мать, отец и старшая (тогда 7-летняя) сестра. Что является зримым подтверждением правоты тех, кто утверждал и утверждает, что евреи воевали в Ташкенте. То, что отец, как мы видим, воевал во Фрунзе, мало что меняет в этом прискорбном факте. Напрасно он, видимо чувствовавший свою вину, объяснял при каждом удобном по его мнению случае, что, мол, не виноват, что был главным инженером одного из военных заводов, эвакуированных из Москвы, и что много раз пытался отказаться от 'брони' и рвался добровольцем на фронт, но начальство, понимаешь, ни в какую. То, что отец не только не был убит на войне, но даже не вернулся с нее калекой или хотя бы с парочкой приличествующих случаю ранений, изначально было предметом зависти и скрытого или явного недоброжелательства со стороны большинства населения нашей улицы. Это отношение, сложившееся еще в войну, мало изменилось с годами, несмотря на то, что Финки всячески демонстрировали и подчеркивали, что 'мы, как все...'. Нет, им все же не могли простить ни относительного благополучия, ни, главное, того, что семья сохранилась, так сказать, 'в полном составе', да к тому еще и евреи...
Хотя для нас, пацанов, война и вообще все, что случилось до нашего рождения, казалось баснословно далеким прошлым и по-настоящему сильных эмоций не вызывало, мы, тем не менее, регулярно прибегали к аргументу 'о Ташкенте', когда возникали конфликты и прочие, как принято нынче выражаться, 'экстремальные ситуации'. Вот тогда-то мы, местные и эвакуированные мальчишки, щеголявшие (как это ни кощунственно звучит) собственным сиротством или инвалидностью вернувшихся с войны отцов, устраивали ему разные пакости – например, обзывали хорошо известными каждому еврейскому мальчику тех времен словами или пытались топить его в мутном и вонючем арыке, в котором спасались от азиатского зноя. Вода в том арыке была даже нам по колено. Но мы набрасывались на него со всех сторон, пригибали его голову так, что она оказывалась под водой и держали, пока он не начинал захлебываться. Напрасно Шмулик выставлял в качестве щита двух отцовских и одного маминого братьев, благополучно погибших на фронте, а также кучу не подлежащей призыву родни, в основном с маминой стороны, расстрелянных немцами прямо по месту жительства (Украина). Для мальчишек это было слишком слабым доводом.
Помимо невоевавшего отца, еще одним постоянным (хотя и скрытым) источником внутренних терзаний для Шмулика стало имя, которым его нарекли при рождении. Мало того, что родители проявили определенную нелояльность, не назвав сына Володей. 'Почему Володей?' – спросите вы. Вспомните дату его рождения, совпавшую с кончиной Владимира Ленина. В этот знаменательный день (равно и 22 апреля – в день рождения вождя) практически всех рождавшихся особей мужеского пола принято было нарекать в его честь. Было в этом что-то, напоминавшее отчасти 'ленинский призыв' в партию, но по сути являвшееся ни чем иным, как возвратом к таинствам и процедурам символического воскрешения умершего божества. Когда явно невосстановимую качественную потерю Большого Владимира пытались чисто по Гегелю компенсировать количеством нарождающихся маленьких Вов.
Нет, его назвали не в честь Вождя, а в честь деда, человека сугубо частного, фотографа по профессии, скончавшегося за много лет до рождения внука и потому никакого следа в его жизни не оставившего. Если не считать нескольких бледно-коричневых фотографий, на которых среди сонма типичных еврейских лиц выделялась нежная, грустная и невероятная красавица – Шмуликова бабушка в молодости. Она-то и настояла, чтобы внуку дали имя Самуил. Времена были смутные, поэтому на семейном совете было решено, что Самуил-то, конечно, Самуил, но исключительно для внутреннего пользования. В метрике же и в прочих бумагах фигурировать будет Саша, то есть, Александр – замечательное имя без каких-либо слабых мест и изъянов. Надо ли говорить, что после этого, несущего печать явной амбивалентности, решения, все в семье называли его только Сашей, Сашенькой, Сашулей. Зато бабушка – исключительно Самуильчиком.
Увы, одной бабушки было достаточно, чтобы и эта 'стыдная' тайна стала секретом Полишинеля для окружающих мальчишек. Это она, высматривая своего ненаглядного внука, чтобы позвать его, скажем, к ужину, оглашала всю улицу громкими криками 'Самуильчик! Самуильчик!'. Только наткнувшись на него, пунцового от стыда и строившего ей зверские гримасы, бабушка спохватывалась, и, пытаясь исправить содеянное ('...то есть, Саша, ну, Саша же, конечно...'), портила все окончательно.
Ах, бабушка, бабушка! Добрейшее и любимейшее существо детства! Белоснежные волосы и, сквозь сеть морщинок, яркоголубые глаза в поллица (с такими ныне изображают добрых инопланетян). Конечно, уже не та гордая красавица с фотографии, а добрый маленький колобок. Увы, она 'подставляла' и заставляла краснеть не только внука, но и всех членов семьи. Как часто в присутствии гостей (а среди них были не только друзья и знакомые, но и 'нужные' люди, а иногда даже 'шишки', включая кадры из числа нарождающейся киргизской элиты) возникала неловкость вследствие громких демаршей бабушки, вызванных злостным смешением 'кошерной' и 'трефной' посуды. В эти минуты гости многозначительно перемигивались и 'интеллигентно' прерывали возникшую (и тягостную) паузу, переходя на обсуждение, скажем, видов на урожай хлопчатника или материалов последних центральных газет. Но и тут было не разгуляться, так как через несколько минут разговор неизбежно затрагивал 'безродных космополитов', и снова возникала пауза, прерывавшаяся деликатными покашливаниями. В общем, как– то не получалось повеселиться от души, 'оттянуться', говоря по-современному, в доме у Финков. Хотя, конечно, он сам-то человек хороший и правильный, и член партии, разумеется, и еда у них – чистое объедение, и жена у него – золото, и тоже прекрасный специалист (глазник). А вот поди ж ты...
Бабушка Шмулика при этом вовсе не была религиозной фанатичкой, как кому-то могло бы показаться. В сущности, ее религиозность сводилась к механическому следованию нескольким поведенческим стереотипам, усвоенным еще в далеком ее детстве и с тех пор не подвергавшимся критическому осмыслению и пересмотру. Эти стереотипы (числом четыре) никоим образом не касались ни сущности веры, ни духовных вопросов, ни этических проблем бытия. Но в следовании этим условностям она была тверда и непоколебима. Так, она точно знала, что не должно смешивать мясное с молочным (и, соответственно, для каждого из этих видов пищи должна быть отдельная посуда). Во-вторых, когда 'заходит суббота' (то есть, в пятницу вечером) в доме должно быть убрано, на столе должна быть расстелена праздничная скатерть, желательно также, чтобы горела свеча и все должны быть одеты по-человечески, а не 'ходить расхристанными.
В-третьих, на еврейскую Пасху) в доме обязательно должна быть маца, а хлеб есть негоже, хотя она и смирилась, что требовать этого от 'безбожной семейки' бесполезно и лишь следила, чтобы в ее тарелку не попали хлебные крошки. Наконец, в-четвертых, в Йом-кипур следует поститься, читать молитвенник на древнееврейском языке, покрыв голову белым платком, и при этом плакать.
Напрасно любимый внук, неизвестно откуда (из воздуха, должно быть) впитавший подлинно атеистическое мировоззрение, пытался разубедить ее в этих 'только на первый взгляд безобидных' заблуждениях. Забавно, наверное, было наблюдать со стороны за этими теологическими диспутами, ведшимися 75-летней 'мракобеской' и ее 6-летним оппонентом. Причем Шмулик, сам того не ведая, использовал изощренные построения и хитрые софистические доводы, сделавшие бы, пожалуй, честь завзятому талмудисту, так что даже она сама порой восторженно произносила 'аидише коп' (еврейская голова), нежно прижимала его к груди, но оставалась верна своим заблуждениям.
Но была Шмуликова бабушка знаменита не только этим. По всей улице гремела слава ее 'четверговых пирожков'. Да, в четверг после обеда она пекла необыкновенно вкусные пирожки, коржики и штрудели. Единственным, кто оставался абсолютно равнодушным к этим кулинарным соблазнам, был, как это часто бывает, ее собственный внучек. И ей приходилось угощать своими шедеврами всю окрестную детвору. Делала она это не только по врожденному радушию, но и с явным прагматической целью – улучшить (через желудок) отношение соседских ребятишек к своему внучку Шмулику и к сестре его тоже. Надо сказать, что это средство налаживания отношений действовало безотказно. Во всяком случае, нетрудно было заметить, что уже с вечера среды частота таких обращений к Шмулику, как 'жид по веревочке бежит' и 'жир-трест – промсосиска' (а он с малых лет, как было сказано выше, отличался склонностью к полноте, как и подобает сангвиникам) резко падала, а то и вовсе сходила на нет.
Вообще, неправильно было бы думать, что по отношению к маленьким Финкам со стороны их сверстников велась какая-то целенаправленная травля. Нет, все эти инциденты носили, так сказать, спонтанный характер. Ну, например, папка всыпал ремня – дать тумака Рыжему для разрядки отрицательных эмоций. Поставила училка 'пару' – снять с 'жир-треста' панамку и перекидывать ее из рук в руки, чтобы он попыхтел, пытаясь перехватить, ну, а потом потоптать ее в пыли, да помочиться на нее – и пусть забирает.
При этом он вовсе не был парией (т.е. неприкасаемым). Правильнее было бы сказать, что он имел самый низкий 'рейтинг' в той негласной иерархии, которая неизбежно складывается в любой, даже взрослой, компании. Ведь в каждом сообществе всегда есть 'козел отпущения', то есть, наименее ценный персонаж. На нем легче всего сорвать зло в случае неуспеха какого-либо начинания, а то и обвинить его в этом неуспехе, отточить на нем свое остроумие, а при случае и пожертвовать им, т.е. 'сдать'. Например, указав на него как на главного виновника и инициатора разбитого ли окна, 'стыренной' ли из соседского сада смородины или острого камешка, ловко пущенного из рогатки в самое выпуклое место какой-нибудь девахи из фабричного общежития во время ежевечерних 'танцев-обжиманцев'. Да мало ли? И вот что приятно, такой аутсайдер никогда не отречется от возведенных на него клевет, всегда возьмет вину на себя, ни за что не укажет на 'вышестоящего', потому как это было бы ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ. А ПРЕДАТЕЛЬСТВО, сами понимаете, не прощается.
Но это все – побои, насмешки и унижения, – это, так сказать, политика 'кнута'. А 'пряником' можно добиться от аутсайдера гораздо большего – абсолютной преданности и готовности на все. Достаточно, например, в разгар очередного измывательства сказать этак лениво-снисходительно (разумеется. если статус позволяет): 'Ну чего пристали к еврейчику? Отзынь...', как сразу глаза последнего увлажнятся слезами благодарности. А если при этом как бы по-дружески приобнять его, да надвинуть панамку на нос и сказать: 'Ты, Санек, не ссы...', он такое намечтает мгновенно, такое навообразит про начинающуюся и уже вечную дружбу, про покровительство и взаимопомощь, что тут-то его можно брать тепленьким. Скажи ему, доверительно отведя в сторону: 'Санек, чево-то жрать хотца. Притарань там чево-нибудь, куГочку там...', а он уж бросился выполнять, невзирая на 'куГочку', только пятки сверкают. И носить будет жратву и день, и два, и неделю. Да еще из бабушкиных штруделей самые лучшие выбирать и для друга ненаглядного откладывать. Но не хлебом же единым... Можно чего и получше придумать.
'Санек, а, Санек! Достань червонец. Во-о как нужно-о...' Дело, конечно, непростое и деликатное. Но на Саньку ведь можно положиться. Он ведь не подведет. Он ведь все равно достанет, для друга, то есть. И так долго может продолжаться, пока в один прекрасный день не сорвется у того с языка очередная какая-нибудь 'жидовская морда'. А такой день обязательно наступал рано или поздно.
А Санек-то, ну просто умора. После слов этих (часто и нечаянных) покраснеет весь, согнется пополам, как будто ему под дых врезали, отвернется от всех минуты на три, всхлипывая как девчонка, а потом вдруг как припустит бежать от нас – неуклюже, опять же по-девчачьи – да домой, домой скорей. А потом день-два вообще никуда не выходит. Даже когда зовут его (что, вообще-то, редко бывает), только занавеску откинет да так сквозь зубы, мол, что-то мне неохота. Ну и лады, не велика потеря. Все равно никуда не денется. Приползет как миленький. Мы еще как бы и не заметим, как он приближается, ноль внимания, пока он сам первый не скажет: 'ЗдорОво, пацаны!'. Вроде и весело скажет, как ни в чем не бывало, а голосок-то срывается да дрожит. 'Я вот тут из дому стырил... на мороженое. Может, кто хочет?..' Ну да ладно, мы обиды не помним. Так уж и быть, съедим твое мороженое, но и ты тож не обижайся. Тем более, за правду. Ты ведь жид? Жид. А я русский. Ну так что, я хныкать стану, если меня кто-нибудь русским обзовет?
А что происходило с Саньком-Самуильчиком в эти два дня, пацанам, конечно, неведомо. Да и никому, в сущности. Ведь родителям же не расскажешь свое горе. Не станешь ведь жаловаться. Да и на что? На окончательное крушение надежд? На сломанную веру? На вполне обессмыслившуюся дальнейшую жизнь? Детское горе, известно ведь – самое страшное. И бороться с ним Шмулику приходилось в одиночку. Да и с попутными симптомами: слезы весь день, плач, истерика, а к ночи – температура, жар. Тут правда уж бабушка начинала суетиться и поить его чаем с вареньем, поминутно щупала лоб, мама сидела сокрушенная у одра, гладя его руку, папа потерянно топтался, ходил от кровати к окну и обратно, спрашивал: 'Ну как ты, сынок? Даже Динка пару раз заглядывала, притихшая и вроде как обеспокоенная, без обычных своих подколок. А потом Шмулик проваливался в бесконечный и потный кошмар, что-то кричал неразборчивое (как потом рассказывала бабушка)... А наутро температура спадала, солнце светило по-прежнему, и жизнь уже не казалась столь безнадежной. И его опять тянуло на улицу, к 'пацанам', но обида еще щемила и было стыдно за свое малодушие и обнаруженные при всех слезы. И надо было еще накопить мужества, чтобы как ни в чем ни бывало взглянуть бывшему другу в глаза. Дружба, конечно, на этом кончалась, но дипломатические отношения продолжались, а как же иначе? Равно как и бабушкины угощения. Но уже на общих, так сказать, основаниях.
Словом, внешне все шло по-прежнему, только на сердце, как пишут в самых плохих, а потому и самых искренних, книгах, оставался незаживающий рубец. Ну, положим, заживающий. И не рубец, а так – рубчик. Царапина...
И опять же верно пишут в плохих книгах, что прежний опыт никого и ничему не учит. Вот и у Шмулика рано или поздно появлялся очередной друг. И что? Все то же обожание во взоре, снова мечты о вечной дружбе и готовность жизнь за нее положить. Но очередному другу жизнь Самуильчика ни к чему. Ему ведь тоже или 'пожрать хотца' или 'деньги во-о-от так нужны-ы'. А ты, Санек, достань.
А что значит – 'достань'? У бабушки выпросить или просто стащить? Да, да, дружба требует жертв! И стоит того. Конечно, миссия не из приятных. Бабушка глядит подозрительно, допрос учиняет – на что, мол, и как? Ну как на что? На мороженое, понятно, на кино, на газировку... Ну, любимому внуку отказать трудно, да больно что-то много? На газировку-то... А, Самуильчик? Да не всегда ведь и есть. Из пенсии все ж таки. Да и родители ее ругают. Мол, совсем избаловала малОго. Так что иногда и хочешь, а нету. А главное, знает ведь бабушка (а не знает, так догадывается) что не для себя внучек денег-то просит, как правило, а для дружков своих ситных. Ведь для 'этих разбойников с себя последнее снимет'. Так что нельзя же все время ему потакать. Приходится и отказывать. Тем самым толкая внучка на преступный путь.
Потому что он знает, что в папиных 'выходных' брюках почти всегда какая-то мелочь имеется, и ее можно изъять почти без риска, потому что папа их никогда не пересчитывает – положит в карман, а потом и забудет. Можно также Динку шантажнуть: 'Дай 5 рублей! Или папе рассказать, как ты вчера после танцев с Никулиным из ремесленного целовалась?!' Это действовало безотказно. Но вот незадача – согласно неписаному кодексу чести шантажировать за уже ранее оплаченный поцелуй нехорошо, а целовалась Динка редко, ибо была девушка скромная и целомудренная, и поцелуй свой давала не каждому встречному-поперечному, а исключительно по любви. А много ли таких любовей наберется? Ну, максимум 3-4 за год. Так что этот источник был ненадежный.
Конечно, Шмулику ли не знать, где мама сумочку прячет, в которой деньги и облигации. Но на это можно решиться только в самом крайнем случае.
Ну, облигации, положим, никому не нужны. Непонятно, зачем она вообще эти бумажки держит. А вот деньги – да. Но, повторяю, только в самом пожарном случае. Потому что их мало, да все считанные-пересчитанные. Это мама ему на велосипед копит и Диночке на репетиторов, ну, там, может быть, папе на костюм, а то черт-те в чем ходит. Так что только один раз Самуильчик не совладал с соблазном. Что потом было!..
Но об этом – чуть ниже.
Ну, а если не удавалось все же напрямую раздобыть деньги для милого дружка, оставалась еще одна возможность – вынести из дома предметы, которые можно было бы продать. Естественно, пропажа предметов повседневного пользования была бы немедленно обнаружена. Поэтому, действуя хитро и осмотрительно, Шмулик ориентировался на вещи, с повседневной жизнью не связанные, а потому – бесполезные и, стало быть, малоценные. Первой жертвой его готовности 'снять с себя последнее' пала морская раковина без дела пылившаяся на верхней полке шифоньера. Надо сказать, что Шмулик расстался с ней не без сожаления. Уж больно красивая была раковина. Да и шум волн, которые она хранила навевал какие-то смутные, но сладкие желания и грезы. Но нужда друга, конечно, была важнее. И раковина благополучно перекочевала на ближайшую толкучку, где и была оценена в червончик.
За ней туда же проследовали 2-3 фарфоровые статуэтки и полустертый маленький коврик, на котором с трудом можно было разглядеть олененка, резвящегося у пруда. Потом было найдено поистине 'золотое дно' – книги. В огромном книжном шкафу с широкими, в два ряда, полками их было великое множество. Естественно, Шмулик, понимавший толк в книжках (он с четырех лет научился читать и предавался этому занятию со всей страстью) и к тому же стремившийся свести причиняемый ущерб к минимуму, не посягал ни на что ценное. По понятным причинам внешний (наружный) ряд книг вообще оставался неприкосновенным. Во втором же, невидимом, ряду также производился тщательный отбор. Не пострадали ни собрания сочинений, ни вообще все новое и интересное. Далее, все что было написано по-русски теоретически могло бы кому-нибудь из членов семьи когда-нибудь понадобиться. А вот написанное не по-русски или не совсем по-русски явно не могло понадобиться никому и никогда. Зато эти тяжелые фолианты в кожаных переплетах (часто с золотым, по большей части соскоблившимся, теснением) выглядели весьма солидно.
Вначале были проданы две книжки, испещренные теми же крючками, что и бабушкин молитвенник (ушли, кстати, с трудом и за бесценок). За ними последовали несколько книжек с картинками на других иностранных языках. Эти картинки были на специально вклеенных очень толстых и гладких листах и даже переложены папиросной бумагой. Картинки сами по себе довольно красивые, но в большинстве своем идеологически невыдержанные – сплошная, понимаешь, религиозная тематика. Затем пришел черед книжек, написанных как бы и по-русски, да не совсем. С какими-то неизвестными буквами, которые только мешали чтению, хотя по большей части слова можно было разобрать. На обложках этих книг стояли то ли названия, то ли имена авторов, ничего не говорившие ни уму, ни сердцу Шмулика. Какие-то канты, нитче, будды и заратустры. Все это была глубокая ветхость и старина, в основном начала века, а то и раньше.
Словом, после инвентаризации, произведенной Шмуликом, каждая из задних полок приобрела пустоты, зиявшие, как дыры в хорошо пригнанном заборе или во рту на месте выбитых (выпавших молочных) зубов.
Книжки вначале загонялись все на той же толкучке, но вскоре обнаружилось местечко получше – букинистический магазин. Там и платили лучше, да и обстановка была куда приятнее. Главным там был забавный старый еврей. Он был полуслепой. Поэтому с жадностью хватал каждую книгу и подносил ее так близко к лицу, что почти утыкался в нее своим длинным носом. Так что казалось, что он оценивает книги исключительно по запаху. Иногда ноздри его раздувались сильнее обыкновенного. Тогда он подзывал своего более молодого напарника, и они начинали обмениваться абсолютно непонятными словами, среди которых Шмулик запомнил только 'антик' и 'раритет'.
Совершая эти преступные деяния, Шмулик, разумеется, понимал, что разоблачение неизбежно. Он лишь молил (ну, не бога, конечно, а что-то большое и всесильное – что-то вроде Светлого Будущего, наверное), чтобы этот момент наступил как можно позже. Чувствовал он себя при этом прескверно, как герой страшного рассказа Эдгара По про неотвратимо опускающийся маятник.
Если исчезновение отдельных безделушек еще можно было объяснить рассеянностью или забывчивостью бабушки, то ограбление книжного шкафа никаким бабушкиным склерозом объяснить было бы невозможно. Но и тут Шмулику какое-то время 'везло'. Собственно, набеги на книжный шкаф продолжались всего месяц-полтора. Достаточно было бы, чтобы папа за этот период хотя бы раз открыл шкаф, чтобы воришка был изобличен. Но именно в это время он был настолько занят авральной и ответственнейшей работой, что отсутствовал целыми днями, включая воскресные. А возвращался так поздно и таким уставшим, что ему было не до книг.
Маятник судьбы, тем не менее, опускался все ниже, и Шмулик чувствовал это. И вот настал день, когда все тайное стало явным – день его Ватерлоо.
Примерно за неделю до этого, Шмулик, следуя своей методе – посягать лишь на то, что засунуто как можно дальше, с глаз долой, что свидетельствовало о невостребованности и, стало быть, невеликой ценности данного предмета, решил проинспектировать бельевой шкафчик. И, о, радость! за стопками белоснежных и накрахмаленных простыней и наволочек, в самом углу у задней стенки он обнаружил небольшую и неказистую шкатулку. В ней была куча всякой ерунды: какие-то щипчики, зеркальце, полупустой флакончик выдохшихся духов, нитки и прочая. Лишь два предмета могли представлять известный интерес для его целей – бусы и браслет. Он долго колебался, чему отдать предпочтение, и выбрал браслет по причине своей врожденной хозяйственности. Дело в том, что браслет как две капли воды напоминал те медные браслетики из-за которых год назад просто сходили с ума все Динкины одноклассницы. Браслетики эти с тремя разноцветными стекляшками торговали несколько внезапно появившихся цыганок. Сначала продавали по трояку, затем по пятерке, но через пару дней партия кончилась и цыганки канули в небытие. Половина Динкиных одноклассниц щеголяла в этих браслетиках, а другая половина была готова на все, чтобы их заполучить. Так Динка, только чтобы поносить, заполучила его на неделю в обмен на свои роскошные телесного цвета чулки.
Так вот, браслет из шкатулки был точно такой же. Ну, разве немного более тяжелый и массивный. И более старинный, оттого выглядел не так празднично, как цыганские браслетики. Ну, и еще одно отличие (и недостаток) заключалось в том, что камешки в нем были не разноцветные, а как обычные стекляшки – прозрачные. Тем не менее, в отсутствие цыганских конкурентов смело можно было рассчитывать на пятерик, а то и червонец. Что, собственно, и требовалось. И, когда спустя несколько дней, очередной друг потребовал срочного вспомоществования, Шмулик достал браслет из шкатулки, а на улице передал 'товар' поджидавшему его другу и они отправились на толкучку. Они подошли к знакомому барыге и показали браслетик. Дальше последовал обычный обмен репликами:
– -Сколько просишь? – спросил барыга, обращаясь исключительно к другу.
– -А сколько даешь? – сглотнул тот, изготовившись к долгому торгу. – Ну-ка дай поближе взглянуть... – барыга заграбастал браслет, недоверчиво и хмуро рассмотрел его, подбросил на руке, полез в задний карман штанов, долго шарил там, а потом вытащил бумажку и положил ее на распахнутую ладошку друга. Это была... пятидесятирублевка. Ладошка, подобно хищным цветам, ощутившим добычу, рефлекторно сжалась в кулак.
'Ошибся! Перепутал!'– эта мысль, видимо, одновременно мелькнула у обоих друзей.
–Пошли, пошли... – зашептал друг, подталкивая совершенно ошалевшего Шмулика. Но не успели они сделать и трех шагов, как услышали голос барыги:
–Эй, пацаны, погодь! Вертухайтесь сюды!
'Ну вот...'-сердца у обоих опустились. Понурив головы и шмыгая носами, они поплелись возвращать только что обретенный клад.
Но тут произошло уже вовсе немыслимое. Барыга снова полез в карман, извлек оттуда червонец и протянул им со словами: 'В другой раз с такими вещицами – сразу ко мне.'
–Конечно, дяденька!– заверили его они и поспешили уйти. Их слегка пошатывало.
Это было невероятно! Это было чудо! Это было настоящее богатство!
Но странное, но столь фантастическое поведение барыги надо было осмыслить. Поскольку версия ошибки отпала сама собой после премиального червонца, оставались лишь две гипотезы. Шмулик считал, что просто у барыги праздник сегодня, из-за этого настроение хорошее. Вот он и решил сделать кому-то подарок. Друг, лучше знавший жизнь, придерживался более простого и приземленного мнения: 'Да он пьяный был. Или обкурился совсем. Помнишь, как у него зенки блестели? То-то же...'. Оба остались при своем.
Но кто бы из них не был прав, это чудесное событие следовало отметить. Немедленно устроили пир – арбузов купили, ситра от пуза, мороженого, конечно, вяленых чебаков, лепешек с творогом, семечек. То есть, расстройство желудка, можно сказать, было обеспечено. Конечно, на пир созвали всех. Явились даже совсем редкие гости – двое братьев Зверьковых. Им было уже 10 лет, они были близнецами, вовсю покуривали, шестерили у окрестной великовозрастной шпаны, а с нами, понятное дело, якшаться брезговали. Но тут и они не удержались. Пришли и терпеливо выслушали восторженный рассказ о невероятном событии. Рассказывал, понятно, друг-напарник. Эту историю он излагал 'по новой' каждому вновь пришедшему, но даже сейчас, пересказанная уже в 8 или 9 раз, она в его устах нисколько не утратила эмоционального накала. Да и слушатели были рассказчику под стать. Каждый очередной пересказ они слушали с неослабевающим вниманием а когда дело подходило к кульминации – обнаружению невероятной щедрости барыги – они замирали, а потом разражались удивленными возгласами и стукали себя кулаком по колену.
Правда, от раза к разу история все больше трансформировалась. Главным героем становился, понятно, рассказчик, а роль Шмулика скукоживалась, как шагреневая кожа. В последней версии, например, происхождение браслета было охарактеризовано крайне бегло и лаконично, а именно – репликой 'мы достали', сопровождавшейся легким кивком в сторону Шмулика. После этого он был явно упомянут лишь однажды – живописуя процесс торга, друг счел возможным произнести: 'Вон он тоже со мной был'. И вновь кивнул на Шмулика. Но тот вовсе не был в обиде. Напротив, он был совершенно счастлив. Впервые он чувствовал себя почти на равных, почти даже хозяином. Как-никак в этом празднестве была и его заслуга. А когда, внимательно выслушав рассказ, один из братьев Зверьковых накопил слюны и исполнил свой коронный плевок (длинная струя вырвалась из его щербатого рта и улетела метра на полтора, ей богу!), а потом одобрительно произнес: 'Ну, еврейчик! Ну, шкет!' и надвинул ему панамку на нос, Шмулик вообще ощутил неземное блаженство. Он впервые понял, как приятно созвать настоящих друзей и широким жестом пригласить их к столу. Мол, 'я угощаю'! Да, это вам не бабушкины пирожки и штрудели, ведь все заработано своим – тяжелым и рискованным – трудом!