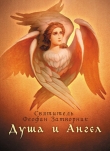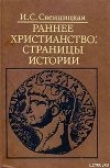Текст книги "Тайные писания первых христиан"
Автор книги: Ирина Свенцицкая
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Чисто гностические идеи выражены в Евангелии Фомы в речении, где говорится о необходимости сделать верхнее нижним. Как и в Евангелии Филиппа, здесь имеется в виду уничтожение присущих миру (космосу) разделений на противоположности: для того, чтобы войти в царство, нужно сделать внешнее внутренним, верхнее – нижним, а мужское и женское – одним. Вообще для Евангелия Фомы, как отмечает исследовательница этого памятника М. К. Трофимова, характерно сочетание речений абстрактного и явно мистического содержания с притчами и примерами, значительно более конкретными, чем аналогичные тексты новозаветных сочинений. Дело в том, что, в отличие, от евангелий Нового завета, которые подвергались неоднократным изменениям и редактированию вплоть до канонизации "священных" книг в IV – V вв., Евангелие Фомы в том виде, в каком оно дошло до нас, представляет собой один из первых опытов объединения идей ранних христианских групп с мистикой египетских гностиков. Далеко не все притчи и слова Иисуса, взятые автором евангелия из устной или только что записанной традиции, он решился или сумел изменить, отредактировать. Но наряду с древними речениями приводятся логии отвлеченного характера, дававшие читателям своего рода ключ, с помощью которого они должны были проникнуть в "истинный" смысл, скрытый за конкретностью этих древних речений.
Более подробно и более образно, чем в Новом завете, дается в Евангелии Фомы описание борьбы, которую должен вызвать приход Иисуса на землю. В первоначальном виде это описание, несомненно, относилось к наступлению страшного суда. Гностики могли толковать его как мистическую борьбу света с силами зла, как отделение избранных от всех остальных: "Может быть, люди думают, что я пришел бросить мир в космос, и они не знают, что я пришел бросить на землю разделение, огонь, меч, войну. Ибо пятеро будут в доме: трое будут против двоих и двое против троих. Отец будет против сына и сын против отца...". Основной текст этого речения имеет аналогии в Новом завете; в Евангелии от Матфея сказано: "...не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее" (10: 34-35). В этом отрывке нет упоминания войны и огня и снято то напряжение, которое вызывает перечисление бед в отрывке у Фомы "разделение, огонь, меч, войну...". В Евангелии от Луки аналогичная фраза еще менее внутренне напряженна: "Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться..." (12: 51-52). Все три текста восходят к представлениям о конце света, свойственным христианам перед первым иудейским восстанием. В целом текст у Фомы отражает, вероятно, более ранний вариант речения. Как и при включении речений, тексты которых дошли до нас на оксиринхских папирусах, составители и редакторы евангелий от Матфея и от Луки смягчали апокалиптические настроения, выраженные в ранней традиции, отходили от представлений о скором наступлении конца света, а значит, и царства божия на земле.
Интересна в Евангелии Фомы притча о пире, которая в разных вариантах приведена в канонических евангелиях. У Фомы рассказывается, как некий человек послал раба позвать гостей на ужин, но все они стали отказываться: один – потому, что вечером должен получить деньги от торговцев; другой потому, что купил дом; третий идет на свадьбу; четвертый купил деревню и должен ехать собирать подать... Тогда господин приказывает рабу пойти на дорогу и привести тех, кого он найдет. Притча эта в Евангелии Фомы кончается грозным предостережением: "Покупатели и торговцы не войдут в места моего Отца". У Луки также господин посылает раба звать гостей, которые, ссылаясь на дела, отказываются от приглашения. Тогда господин велит рабу пригласить "нищих, увечных, хромых и слепых" (опять свойственное раннему христианству обращение ко всем несчастным, отвергнутым существующим обществом), а затем и всех, кого он встретит на дороге. Заключительной фразы о торговцах и покупателях в тексте Луки нет. Там акцент делается на другом. В конце притчи сказано: много званых, но мало избранных, т. е. мало тех, которые последуют за истинным учением и благодаря этому получат награду. В Евангелии от Матфея званые не просто отказываются, но еще убивают рабов пригласившего их царя, за что тут же наказываются. В эту притчу добавлен эпизод с человеком, который пришел на пир одетый "не в те одежды", и за это был по приказу хозяина выброшен вон. Таким образом, согласно этому варианту притчи, наказываются не только те, кто не пожелал присоединиться к учению Иисуса, но и те, кто исповедует его неправильно ("одетые не в те одежды"). Мораль в Евангелии от Матфея совпадает с моралью в Евангелии от Луки. Вариант притчи, приведенный в Евангелии Фомы, воссоздает живую бытовую картину. Причины отказа посетить пир здесь конкретизированы: в трех из четырех случаев такой причиной служит торговая сделка. Вывод, направленный против торговцев и покупателей, кажется поэтому естественным следствием образного строя притчи, в то время как у Луки и Матфея причины отказа к морали притчи непосредственного отношения не имеют. Вполне возможно, что у Фомы приведен первоначальный вариант этой притчи, взятый им из источника, которым пользовался также и автор Евангелия от Луки. Однако последний, как это было свойственно всем раннехристианским авторам, использовал притчу для той морали, которая ему показалась более уместной.
Выпады против богатства и стяжательства содержатся и в других местах Евангелия Фомы. В одной из притч говорится о человеке, который хотел использовать свое добро, чтобы "засеять, собрать, насадить, наполнить... амбары плодами". Он подумал об этом "в сердце своем. И в ту же ночь он умер. Тот, кто имеет уши, да слышит!". Содержится гам и характерное в этом отношении речение, не имеющее аналогий в Новом завете: "Смотрите, ваши цари и ваши знатные люди – это они носят на себе мягкие одежды и они не смогут познать истину". Эти отрывки отражают настроения, которые были присущи первым христианам из низших слоев населения. Но сам факт включения их в гностическое евангелие показывает, что за подобными настроениями не скрывалось никакой конкретной социальной программы. Богатство и накопительство – зло, потому что оно привязывает человека к грешному миру, толкает его на дурные поступки, несовместимые с христианским учением, а с точки зрения гностиков, мешает познать "истину". В гностических сочинениях все эти выпады против богатых, именно в силу их недостаточной конкретности, могли восприниматься как призывы уйти от реального мира в мир духовный, заменить ценности материальные ценностями духовными.
Интерес представляют речения из Евангелия Фомы, где обсуждаются вопросы поведения учеников Иисуса, исполнения ими определенных обрядов. Эти речения связаны со спорами, которые велись в среде христиан на рубеже I-II вв. по поводу различных формальных требований к верующим, сохранившихся от иудаизма или зародившихся уже в христианских экклесиях. Автор Евангелия Фомы резко выступает, например, против обряда обрезания. Ученики задают Иисусу вопрос о пользе обрезания, и тот отвечает на него так: "Если бы оно было полезно, Отец зачал бы их в матери обрезанными. Но истинное обрезание в духе обнаружило полную пользу". Полемизируя со сторонниками соблюдения иудейских обрядов, автор приводит вполне логически построенный аргумент, восходящий к представлениям о разумном устройстве мира (кстати, не свойственным гностическим учениям). Метод полемики здесь заимствован из античной традиции, освободиться от которой людям, выросшим в окружении античной культуры, было трудно. Они могли сознательно отбрасывать античную традицию, обращаться при разработке своего учения к восточной мудрости, но в спорах с другими учениями они возвращались к приемам, разработанным античной логикой и риторикой. Поэтому критика христиан христианами подчас была не менее содержательной, чем критика христианства со стороны его языческих противников.
Евангелие Фомы призывает, вероятно, к разрыву с иудейством и в речении, где говорится о том, что нельзя человеку сесть на двух коней, натянуть два лука, а рабу – служить двум господам. В конце этого речения подчеркивается, что новое вино не наливают в старые мехи и не накладывают старую заплату на новые одежды.
В Евангелии Фомы рассмотрены вопросы о молитве, постах и раздаче милостыни – тех действиях, которые казались многим христианам основным путем достижения спасения на небе. Мы уже не раз говорили о том, какую роль в христианских общинах играла благотворительность: раздача милостыни казалась им единственно возможным способом объединения богатых и бедных в рамках реального мира. Но автор Евангелия Фомы остро ощущал внешний, формальный характер всех этих действий, не связанных с внутренним изменением человека. В одном из приведенных им речений Иисус в ответ на вопрос учеников, нужно ли им поститься, молиться и подавать милостыню, отвечал: "Не лгите и то, что вы ненавидите, не делайте этого". Здесь подчеркивается, что внешнее выполнение моральных и религиозных требований может привести ко лжи и лицемерию. В другом месте евангелия в уста Иисуса вкладываются еще более резкие слова: "Если вы поститесь, вы зародите в себе грех, и если вы молитесь, вы будете осуждены, и если вы подаете милостыню, вы причините зло своему духу". Ученики могут есть любую пищу, какую им дадут. Единственное, что от них требуется, – это лечить больных. В конце этого отрывка приведено речение, имеющееся и в Новом завете: "Ибо то, что войдет в ваши уста, не осквернит вас, но то, что выходит из ваших уст, осквернит вас". У Фомы последняя фраза, будучи заключением ко всему отрывку, имеет более широкий смысл: самое главное– духовное преображение человека, его внутренняя сущность. Автор выступает даже против молитв, ибо молитва – это просьба о помощи, о божественном вмешательстве, а человек, согласно восприятию гностиков, должен обрести "свет" внутри себя и тем спастись. Лечение больных, пожалуй, единственная обязанность учеников по отношению к другим людям, Христианин, даже гностического толка, на том раннем этапе формирования христианства не мог отбросить это требование: ведь в самых древних рассказах об Иисусе основные "чудеса", совершенные им, сводились к исцелению больных. В более поздних произведениях гностиков эта проблема уже не затрагивается.
Отголоском самой древней традиции в христианском учении является речение о необходимости широко распространять новое учение: "То, что ты слышишь ухом, возвещай это другому с ваших кровель. Ибо никто не зажжет светильника и не ставит его под сосуд, и никто не ставит его в тайное место..." Похожие места есть в новозаветных евангелиях. Эта фраза, как мы уже говорили при описании зарождения христианства, представляет собой полемику с замкнутостью кумранских ессеев. В Евангелии Фомы она кажется противоречащей тайности учения, о котором сказано в начале евангелия. По-видимому, в пору создания Евангелия Фомы у его автора, как и у многих других христиан, не сложилось еще ясного представления о том, кому следует проповедовать новое учение: всем ли, независимо от социального и этнического происхождения, или только иудеям, или тем, кто способен воспринять "истину"... Автор Евангелия Фомы склонялся к последнему принципу. Но древнее речение он все-таки включил в свое произведение, поскольку оно, вероятно, было включено в списки логиев, которыми он пользовался.
В Евангелии Фомы сохранился ряд моральных требований, содержащихся и в Нагорной проповеди. В нем есть речение о необходимости любить брата своего, но нет призывов любить врагов своих, так как это не соответствовало представления об избранности "духовных", которые только и были братьями между собой (как были ими иудейские сектанты, к которым первоначально обращались слова этой проповеди).
Евангелие Фомы отражает тот период развития христианства, когда вера первых немногочисленных групп христиан в скорое второе пришествие начала изживать себя; когда одни христиане искали путей приспособления к окружающему миру, другие – к освобождению от него, но не реальному, а духовному; когда стал расширяться этнический состав христиан, повлиявший на отношение их к иудейским обрядам; когда начала вырабатываться христианская этика и появилась необходимость определенных формальных действий, таких, как соблюдение постов и молитв. Евангелие Фомы показывает нам, каким сложным был путь развития христианства, какой неопределенной была христианская традиция. Изучение этого евангелия в сравнении с евангелиями Нового завета приводит к выводу, что расхождения между "священными" книгами, о которых столько написано во всех исследованиях, посвященных Новому завету, не были случайными несовпадениями, неточностями, они были неизбежным следствием самого творческого метода составителей этих книг, составителей, которые весьма свободно обращались с заимствованиями из устных рассказов и первых записей. Они писали свои произведения не для того, чтобы передать информацию, а затем, чтобы дать свое толкование учения. И Евангелие Фомы наглядно показывает, сколь различным по смыслу могло быть толкование одного и того же речения. Мы рассмотрели только три произведения из обширной хенобоскионской библиотеки, но, на наш взгляд, этого достаточно, чтобы показать, какое большое значение для исторической науки имела данная находка. Книги из Хенобоскиона раскрыли целое направление религиозно-философской мысли древности, дали возможность судить о противоречивом развитии раннехристианских верований, сравнить христианские писания, признанные "священными", не с отрывками из ранних апокрифов, приводимыми в произведениях христианских богословов, а с целыми произведениями, авторы которых активно спорили с другими направлениями в христианстве.
VII.
АПОКРИФИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ О ДЕТСТВЕ ИИСУСА И ЕВАНГЕЛЬСКИХ ПЕРСОНАЖАХ
Евангелие детства
В гностических евангелиях происходило абстрагирование образа Иисуса, которое было логическим завершением провозглашенной Павлом "всеобщности" христианства. Превращение Иисуса в "слово", в прачеловека делало его надмировой и надчеловеческой сущностью, полностью лишало его конкретной связи с реальностью. Мы уже говорили о том, что такая трактовка образа основателя нового учения не могла быть близкой широким слоям населения империи, особенно в тех районах, где еще сильна была вера в богов и героев, совершавших конкретные подвиги, помогавших одним людям и наказывавших других. Сказочная струя в христианских произведениях, которая проявлялась в раннем христианстве в рассказах о пшенице выше человеческого роста в царстве божием, не исчезла и в христианском мифотворчестве более позднего времени. Только направленность этого мифотворчества стала иной. Оно тесно связывается теперь с самой личностью основателя нового учения. В соответствии с общей тенденцией развития христианства эта личность постепенно приобретала все более ярко выраженные сверхъестественные черты, превращавшие его из пророка и богочеловека в божество. Если у гностиков главное внимание обращалось на вневременную сущность Христа-логоса, то мифотворчество, о котором мы сейчас говорим, сближало его образ с образами богов из древних античных мифов.
Ранние евангелия (и канонические, и апокрифические) больше внимания уделяли проповедям Иисуса, чем его биографии. В частности, в новозаветных произведениях нет сколько-нибудь подробных рассказов о детстве Иисуса. Это и понятно: о реальной жизни своего учителя авторы евангелий знали очень мало. Конкретные события приводятся в их сочинениях как фон для тех или иных высказываний Иисуса. Только "страсти" Иисуса и его воскресение описаны достаточно подробно, так как это имело первостепенное значение для доказательства того, что именно Иисус был мессией. Но для верующих II-III вв. этого было мало. Греки, италики, галлы, сирийцы стали наделять нового бога чертами своих древних богов, многие из которых, согласно древним мифам, проявляли свой сверхъестественный дар с самого рождения. Так, в мифе о древнегреческом боге Гермесе, покровителе ремесла и торговли, рассказывалось, как новорожденный Гермес сразу же выказал свою невероятную ловкость: украл трезубец у бога морей Посейдона, лук и стрелы – у Аполлона. Любимый герой греческих мифов Геракл, будучи в пеленках, задушил двух огромных змей... Иисус-ребенок также должен был проявлять с детства чудесную силу, иначе он не мог почитаться как божество суеверными, воспитанными на языческих мифах людьми.
Со второй половины II в. начали создаваться апокрифы, которые восполняли пробелы в прежних жизнеописаниях Иисуса. К таким апокрифам относятся различные сказания о детстве Иисуса. В них нет изложения его учения, догматов или этических правил христианства. Это скорее мифы, сказки, сочетающие описания самых невероятных чудес с отдельными вполне реальными бытовыми картинами. Одно из таких сказаний о детстве Иисуса дошло до нас полностью. Автор его называет себя Фомой, как и автор хенобоскионского евангелия, но, как уже указывалось, ничего общего между этими двумя произведениями нет. Полное название апокрифа – "Сказание Фомы, израильского философа, о детстве Христа" (в научной литературе его часто называют Евангелием детства). Он представляет собой рассказ о чудесах, совершенных Иисусом в возрасте от пяти до двенадцати лет. Этот рассказ мало связан с раннехристианской традицией. Он вольная переработка народных сказок и мифов. Сам язык сказания близок к языку фольклора. Проявилось в нем и некоторое, скорее всего внешнее, влияние гностических писаний о магическом значении имен и знаков. Переплетение разных преданий, отголоски различных, далеко не всегда связанных между собой учений вообще свойственны такого рода полусказочным произведениям.
Главная задача сказания о детстве Иисуса – представить его всемогущим божеством с самого рождения. Причем Иисус выступает в нем не как кроткий, милосердный спаситель; подобно древним языческим божествам, Иисус в рассказе Фомы бывает и мстительным, и жестоким, и капризным. Это можно подтвердить несколькими эпизодами. Однажды в субботу маленький Иисус играл с другими детьми на берегу реки. Он сделал на берегу ямки, наполнил их водой и стал лепить из мокрой глины птичек. Один из иудеев, проходя мимо, рассердился на мальчика и воскликнул: "Зачем ты делаешь в субботу то, что не положено?" Тогда Иисус хлопнул в ладоши и закричал: "Летите!" И птицы полетели. На этом чудеса не закончились. Один из мальчиков разбрызгал прутом воду из ямок. Маленький Иисус в гневе сказал мальчику: "Ты высохнешь, как дерево, и не принесешь ни листьев, ни корня, ни плодов". И мальчик сразу высох. В другом эпизоде рассказывается, как Иисус шел по деревне, к нему подбежал мальчик и ударил его. Иисус сказал ему: "Ты не двинешься дальше". И мальчик упал мертвым. Родители погибших детей пошли жаловаться Иосифу. Когда же тот стал выговаривать сыну за содеянное, Иисус ответил: "Ради тебя я буду молчать, но они должны понести наказание". Те, кто жаловался на него, ослепли. Правда, в этом сказании говорится и о том, как Иисус воскресил мальчика, упавшего с крыши. Но он сделал это не из жалости к нему, а потому, что родители погибшего обвинили Иисуса в том, что мальчика столкнул он. Иисус заставил воскресшего ребенка свидетельствовать, что тот упал случайно... Рассказывается и о том, что Иисус вылечил своего брата Иакова, поранившего руку. Однако эти отдельные добрые дела не меняют общего впечатления от образа Иисуса, нарисованного автором Евангелия детства.
Своенравие и жестокость, согласно этому сказанию Фомы, Иисус проявлял и в годы учебы. Отец пригласил к нему учителя, который начал показывать ему буквы греческого алфавита. Но Иисус не хотел заниматься. Он упорно молчал и не желал отвечать на вопросы учителя. Наконец сам задал ему вопрос: "А что такое альфа (название первой буквы греческого алфавита. – И. С.)? Разъясни мне значение альфы, а я разъясню тебе значение беты (вторая буква греческого алфавита. – И. С.)". Учитель, рассердившись, ударил Иисуса по голове. Тогда Иисус проклял его, и учитель упал замертво. Конечно, все эти акты жестокости не вяжутся с образом спасителя человечества, провозгласившего: "Иго мое благо, и бремя мое легко" (Матфей, 11:30). Но для автора сказания о детстве жестокость богов казалась естественной и неизбежной: сколько греческих мифов повествовало о наказании богами людей, осмелившихся противоречить им или равнять себя с ними! Бывшие почитатели античных божеств, став христианами, перенесли их черты на образ Христа. Таков был противоречивый путь христианской религии: привлекая к себе все новых людей обещанием спасения с помощью милосердного Иисуса, отдавшего свою жизнь ради искупления грехов человечества, она впитывала в себя груз укоренившихся суеверий, представлений, привычек.
Автор сказания несколько смягчил жестокость Иисуса-мальчика. Когда второй учитель, послушав Иисуса, признал его исполненным великой благости и мудрости, Иисус рассмеялся и сказал, что ради него будет воскрешен и тот, первый учитель. Но смягчение это лишь подчеркивало необходимость безоговорочного поклонения Иисусу.
Приведенные эпизоды интересны еще и тем, что они показывают среду, в которой создавалось Евангелие детства. По-видимому, это были грекоязычные жители империи, далекие от реальных условий Палестины I в. Мистическое значение букв греческого алфавита, о котором говорит Иисус, наводит на мысль о влиянии в этой среде гностических трактатов. Составитель сказания мог читать эти трактаты и перенести в свое произведение представление о скрытом знании, доступном Иисусу, но не доступном простому смертному.
Не занимаясь с учителями, Иисус, согласно этому сказанию, проявлял тем не менее невероятную ученость. Когда ему было двенадцать лет, родители взяли его с собой в Иерусалим. Он не вернулся с ними домой, а отправился в храм и стал там разъяснять "учителям народа и старшинам" (у автора не было, по-видимому, вполне ясного представления, что это за "учителя и старшины") закон иудейской религии. В основе этого эпизода лежит рассказ из Евангелия от Луки" о том, как двенадцатилетний Иисус отстал от родителей и они нашли его в храме сидящим среди учителей (никаких "старшин" там нет), слушающим их и отвечающим. По словам евангелиста, все дивились разуму и ответам его. Автор сказания о детстве сильно приукрасил этот рассказ: Иисус не слушает учителей и не беседует с ними, а поучает их. "Учителя народа и старшины" не просто дивятся "его разуму", а говорят пришедшей за Иисусом матери: "Такой славы, такой доблести и мудрости мы никогда не видели и никогда о ней не слышали!" Автора этого сказания не интересует вопрос о том, почему позже те же руководители иудеев будут испытывать к Иисусу злобу и ненависть. Как и многие другие создатели христианских писаний, он меньше всего думал о достоверности и логической последовательности своего рассказа. Просто это предание отвечало его представлению об образе Иисуса и он стремился внушить данное представление другим верующим.
Фантастическими рассказами, подобными приведенным, наполнено все сказание о детстве. У героя этого рассказа нет ничего общего с пророком эбионитов. Трудно представить себе, чтобы мстительный божок, став взрослым, добровольно пошел на мученическую смерть ради спасения человечества. Сказание Фомы о детстве Иисуса представляет собой своеобразную смесь народных преданий, сказочных мотивов с вульгаризованным учением гностиков об истинном знании, которое логос помогает открыть людям и которому нельзя научиться обычным путем. Но как перевернута в этом произведении философия гностиков! Непостижимость Иисуса, присущее ему "истинное знание" делают его грозным божеством и снова вносят в сердца людей страх и неуверенность, от которых стремился освободить своих единомышленников автор Евангелия Истины.
Сказания о Марии
Первые христиане мало внимания уделяли матери Иисуса – Марии. Эбиониты, учившие, что святой дух снизошел на человека Иисуса во время крещения, считали его мать обыкновенной женщиной, женой плотника Иосифа. В писаниях гностиков имя Мария упоминается довольно часто, но, как правило, речь идет об ученице Иисуса – Марии Магдалине. Мария – мать Иисуса сама по себе существенного значения в их учениях не имела. У гностиков существовала версия рождения Христа, по которой сам Иисус-логос явился к ней в виде архангела Гавриила. В Евангелии Филиппа обыгрывается тот факт, что мать Иисуса, его сестра и Мария Магдалина носили одно и то же имя: "Ибо Мария его мать, его сестра н его спутница". Здесь Филипп рассматривает это совпадение как выражение гностической идеи о единстве во множестве. Биография Марии, ее земная жизнь гностиков не интересовала.
В Новом завете Мария тоже не занимает сколько-нибудь важного места. Правда, женщина, рождающая в муках дитя, предстает в видениях Откровения Иоанна, но ничего человеческого в ней нет: "Жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения". Женщину эту преследует дракон, который хочет вступить в борьбу "с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди божий и имеющими свидетельство Иисуса Христа". Описание "жены, облеченной в солнце", как и остальных видений в Апокалипсисе, представляет собой аллегорию, которая нуждается в толковании, в постижении ее скрытого смысла; эта "жена" так же далека от реальной женщины, как блудница, сидящая на семиголовом звере, – от реальной столицы империи. Нет следов почитания матери Иисуса и в посланиях Павла.
В самом раннем из канонических евангелий, Евангелии от Марка, описание рождения Иисуса отсутствует; рассказ о нем начинается с прихода Иисуса из Галилеи и крещения его Иоанном. Поскольку автор этого евангелия не интересуется рождением Иисуса, то и о матери его он упоминает редко и вскользь.
В евангелиях от Матфея и от Луки приводятся родословные отца Иисуса Иосифа: его род возводится к царю Давиду. Появление в евангелиях этих генеалогий, отличных одна от другой, было связано с устной традицией, считавшей, что Иисус принадлежит к роду Давида, из которого, согласно иудейским верованиям, и должен происходить помазанник божий – мессия. Когда складывались легенды о предках Иосифа, последний, естестеенно, должен был считаться родным отцом Иисуса и, следовательно, никаких особых заслуг его матери не приписывалось. Однако в тех же евангелиях отражена и начавшая складываться в период их создания легенда о непорочном зачатии Марией Иисуса, об его рождении от духа святого. В связи с появлением этой легенды в христианской традиции начинает выделяться образ матери Иисуса.
В Евангелии от Матфея рассказы о непорочном зачатии менее подробны, чем в Евангелии от Луки, который вводит описание благовещения, т. е. того, как к Марии явился ангел и объявил, что она зачнет от святого духа. Но о дальнейшей жизни Марии – в период проповеди Иисуса, во время суда над ним и после его казни – в первых трех евангелиях Нового завета ничего не сказано. Мать Иисуса даже не названа среди присутствовавших при распятии. Только в Евангелии от Иоанна Мария, мать Иисуса, оказывается у креста и Иисус поручает ее своему любимому ученику (т. е. Иоанну, от имени которого написано четвертое евангелие). В Деяниях апостолов Мария, мать Иисуса, упомянута пребывающей в молитве после казни Христа вместе с учениками и братьями его (1:14). Вот и все сведения о Марии, содержащиеся в каноне. Такое отношение к ней не случайно: ведь в проповедях ранних христиан звучали призывы отречься от родных, заменить братство по крови братством по вере. Достаточно вспомнить эпизод, приведенный в первых трех новозаветных евангелиях. Когда Иисусу сказали, что мать и братья зовут его, он ответил: "Кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои..." (Марк, 3: 33-34; Матфей, 1: 16; Лука, 8: 19). Аналогичное речение содержится и в хенобоскионском Евангелии Фомы.
Отсутствие в раннехристианской традиции четких сведений о матери Иисуса привело к тому, что противники нового учения, прежде всего из иудеев, распространяли свою версию ее биографии. Эта версия приведена у Цельса. Ссылаясь на рассказы иудеев, Цельс пишет, что Мария была пряхой, которая родила сына от беглого римского солдата. Такой рассказ ставил своей целью скомпрометировать и Марию, и ее незаконного сына. Были ли хоть какие-нибудь исторические основания для него, мы сейчас сказать не можем.
Невзирая на скудность сведений о матери Христа в произведениях Нового завета, церковь установила в ее честь целый ряд праздников: рождество богородицы, введение во храм, успение. События, по поводу которых установлены эти церковные праздники, освещены не в канонических текстах, а в произведениях, официально не признанных священными.
В конце II в., когда появились сказания, повествующие о детстве Иисуса, начали распространяться и различные фантастические рассказы о его матери, где она рисовалась существом необыкновенным. Тяга к сверхъестественному, традиция почитания женских божеств, уходящая корнями в глубокую древность, сказались на христианском восприятии образа богородицы.
В сказаниях о Марии, появившихся как дополнение к ранним евангелиям, прежде всего описывались ее детские и девичьи годы. В этих сказаниях Мария с самого начала выступает избранницей божией. Наиболее подробный рассказ о детстве Марии содержится в так называемом Евангелии Иакова, или "Истории Иакова о рождении Марии". Интересно отметить, что Мария, согласно этому сказанию, происходит из рода Давида. Автор его пытался таким путем снять ощущавшееся самими христианами противоречие между верой в непорочное зачатие и верой в происхождение Иисуса от потомков царя Давида, соединить две различные и разновременные традиции. Евангелие (в научной литературе его иногда называют "протоевангелие") Иакова начинается с описания того, как будущие родители Марии, престарелые Иоаким и Анна, скорбят о своей бездетности. Иоаким удаляется в пустыню пасти стада, а жена его молит бога послать ей ребенка. Наконец появляется ангел, возвещающий, что у Анны родится дочь. Родители дают обет посвятить дочь богу. Когда Марии минуло три года, Иоаким во исполнение обета отвел дочь в Иерусалимский храм, чтобы она там воспитывалась. На этом эпизоде и основан праздник введения во храм. В храме Мария оставалась до двенадцати лет. Интересно отметить, что Мария, по этому сказанию, не питалась обычной пищей, ангелы приносили ей пищу небесную. Здесь спять, как и в сказании о детстве Иисуса, мы видим переплетение отголосков гностических учений с древними языческими верованиями. Мы уже говорили о том, что виднейший идеолог гностического христианства Валентин писал о том, что Иисус "ел и пил особым образом". Как здесь не вспомнить, что боги древних греков тоже пили особый напиток нектар и питались особой пищей – амброзией. Низведенные с философских высот доктрины гностиков переосмысливались в традиционно-сказочном духе и способствовали появлению в христианской мифологии новых фантастических деталей.