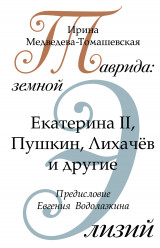
Текст книги "Таврида: земной Элизий"
Автор книги: Ирина Медведева-Томашевская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Там было лучше, – сказала она, – но нельзя… ‹…› Я не люблю этот дом. Здесь и я экспонат музея, как всё, как вот эта накидочка… – засмеялась она, перехватив своей прекрасной рукою кружево висящей на изголовии накидки. ‹…› – Антон Павлович здесь всё думал о смерти, крепился… Вот и я… А там, – она махнула рукой в сторону моря: там, это, конечно, в Гурзуфе, на мыске, за синей калиткой. – Там думал он не о смерти, о жизни.
Соседство с Ольгой Леонардовной положило начало дружбе не только с ней, но и с теми, кто бывал у нее в гостях. А гостей там бывало множество – и актеры, и музыканты, и художники. Там Томашевские познакомились с Олегом Ефремовым, тогда еще студентом, подружились на всю жизнь с известным историком театра, литературоведом, профессором Школы-студии МХАТ Виталием Виленкиным, великим пианистом Святославом Рихтером и его женой, певицей Ниной Дорлиак.
Вот как об этом вспоминала Зоя Борисовна Томашевская:
Дружба с Рихтером завязалась как-то неожиданно и почти по-детски. Ольгин день. Огромный круглый стол накрыт изысканно и вкусно. Всем назначено свое место. Ждем Козловского – весельчака и выдумщика. Тем временем завязался разговор о музыке. Вдруг вижу, что Рихтер поменялся с кем-то местами и оказался рядом с папой. Они говорили о Вагнере. Оба оказались «вагнерианцами». Слышу, как Святослав Теофилович спрашивает: «У вас есть рояль?» «Конечно!» – отвечает папа. «Какой?» – не унимается Рихтер. «У нас дома в Ленинграде стоит Rönisch», – говорит отец. Рихтер начинает сиять и с извинительной интонацией вопрошает: «А можно я к вам приеду? Rönisch – рояль моего отца. Я начинал с него. У него чудный звук и он очень легкий. На нем хорошо учить…» И он приехал к нам в Ленинград и стал заниматься на этом Rönisch.
Договор аренды Томашевских предусматривал двадцатилетний срок, но через пять лет, ссылаясь на необходимость организовать в их доме общежитие для учителей, гурзуфские власти в одностороннем порядке его расторгли. Вполне возможно, свою роль сыграло и то, что незадачливые арендаторы привели развалины без крыши в образцовый порядок. Общежитие действительно располагалось там довольно долго, но в итоге, после множества перипетий, домик на скалах вошел в комплекс чеховского музея, или говоря официальным языком, – Гурзуфского отдела дома-музея А.П. Чехова в Ялте. Надпись на открытках стала, таким образом, частично соответствовать действительности. Сам музей Чехова открылся лишь в 1987 году (Кука – Николай Борисович Томашевский, проживший в домике на берегу пять счастливых лет, – участвовал в его организации и выступал на открытии). Одно время музей использовал домик Томашевских для размещения гостей, приезжавших в Гурзуф на проводившийся там каждый июнь Пушкинский праздник поэзии (сейчас он называется Днем поэзии и музыки и по-прежнему проводится ежегодно). В конце 1990-х – начале 2000-х годов активно прорабатывался вопрос об организации там музея Б.В. Томашевского, на доме была помещена его мемориальная доска. Планы эти вылились пока что в создание (в 2007 году) его мемориального кабинета в гурзуфском музее Пушкина. Позднее домик Томашевских стал сдаваться в аренду состоятельным людям, закрывшим доступ к нему и, соответственно, мемориальной доске даже сотрудникам музея. Доска была сброшена, затем восстановлена, но о нынешней ее судьбе сведений у нас нет. После 2014 года дом больше не сдается в аренду, на его подпорной стене – если судить по фотографиям – красуется огромная вывеска «Дача Чехова».
Расставаться с полюбившимися им местами никому из семьи Томашевских не хотелось. На сей раз решено было не рисковать с арендой, а приобрести что-то в собственность. При этом условие в поиске нового пристанища оставалось прежним – не занимать жилье депортированных. В качестве одного из вариантов рассматривался и дом в Ай-Даниле, рядом с Гурзуфом. В итоге был приобретен домик на восточной окраине поселка, у подножия холма Болгатур, – тот самый, «прижатый к поверхности горы». Эта часть поселка в дореволюционных справочниках именовалась «татарская деревня Гурзуф» – в отличие от западной, где располагались гостиницы и парк (именно там находится музей Пушкина), та носила название «курорт Гурзуф». Условным пограничным пунктом между ними можно считать гурзуфский причал.
Дом в «татарской деревне» был приобретен у русской хозяйки, владевшей им еще до войны и выселения татар. Расположен он высоко над морем. Если на старой даче море было, можно сказать, прямо у ног, то теперь путь от берега был долгим и шел всё время в гору. Впрочем, скоро на «чеховке» стало так многолюдно и шумно, что жалеть о переезде не приходилось. Кроме того все тяготы подъема искупал открывающийся из нового дома изумительный вид. Слева, там уже начинаются владения лагеря Артек, в море выступает скала с так называемым пушкинским гротом, о котором речь была выше. Сама скала получила название Шаляпинской. До революции скала входила в имение Суук-Су, принадлежавшее О.М. Соловьёвой. Шаляпин гостил у нее и – по циркулирующему в Гурзуфе преданию – любил петь, стоя на этой скале. Еще дальше влево видна знаменитая Медведь-гора (Аю-Даг), украшающая бесчисленные видовые открытки. Справа высится «генуэзская» скала, речь о которой была выше, – если прежняя дача была к востоку от «генуэзской», то новая смотрела на нее с запада. А прямо… Прямо – безграничная ширь моря и
…две затонувшие в море скалы,
К которым стремился и Плиний,
Вздымают из влаги тупые углы
Своих переломанных линий.
Так Заболоцкий пишет о скалах Адаларах. Наряду с Медведь-горой они представляют собой один из наиболее частых «открыточных» сюжетов. Иными словами вид из дома и с участка был прямо-таки нереально-картинный.
Интересно, что за годы, прошедшие со времени покупки этого дома, у него сменилось несколько адресов. Первоначально он числился под номером 37 по Виноградной улице, затем стал домом 19, но уже по Крымской. Надо заметить, что улочки в Гурзуфе извиваются столь затейливо, что понять, где одна переходит в другую, чаще всего невозможно. После распада СССР Крымская была переименована в улицу Адама Мицкевича, но номер дома остался прежним. Теперь же, если судить по картам, с ним и вовсе непонятно: то ли Мицкевича, 15, то ли Геологов, 3. Постройки дом типично крымской. В «Синей калитке» Ирина Николаевна вспоминает один из разговоров с Книппер-Чеховой:
Почему-то весь день перед глазами Стамбул ‹…› Привлекает чем-то совсем не тем, известным: мечети, кальяны, гаремы… Нет… Старые деревянные лачуги с нависающими балконами… Холмы. Под ногами камни сыплются и вдруг – вдали море, опять холмы и за ними опять море. Такое синее. Византия?.. Греция?.. Нет?.. – как-то робко спросила Ольга Леонардовна (дескать, так ли, не высоко ли взяла?). А потом, улыбнувшись, сказала:
– Это мы сегодня с Софой[5]5
Бакланова София Ивановна – друг и домоправительница О.Л. Книппер-Чеховой.
[Закрыть] поднимались вон до той площадочки. Там тоже такие дома с подпорками. Похоже.Я подумала: историки Крыма именуют эти старые крымские лачуги – татарскими, а она разглядела, что они греческие.
Так вот, новый дом (домик на берегу в нашей семье так и продолжали называть старой дачей) представляет собой именно такую лачугу с нависающим застекленным балконом. Балкон, как в большинстве старых крымских домов, служит и прихожей: с улицы попадают прямо на него, а уже с него двери ведут в комнаты. Комнат две, их окна также выходят на балкон. Такая планировка для Крыма весьма функциональна: осенью и зимой балконы служат буфером между жилыми помещениями и бушующими ветрами, а летом помогают сохранить в комнатах прохладу, задерживая палящие солнечные лучи. Задней стеной дом упирается в землю, и на уровне его крыши проходит дорога – когда-то это была просто тропинка, со временем расширившаяся и превратившаяся в улицу Крымскую-Мицкевича. Одна комната считалась детской, другая – бабчикиной. Бабчиком мы прозвали нашу бабушку, Ирину Николаевну, а с нашей подачи так стали ее называть и наши родители, и многие друзья. В отличие от большинства гурзуфских домов, наш опирался не на деревянные подпорки, а на крышу козьего хлева, задняя стеной которого также служила земля. Дедушка с бабушкой переоборудовали его в пригодное для людей помещение, одна часть которого звалась ванной и служила в плохую погоду кухней (на участке имелась еще летняя кухня-сарай), другая – столовой. Впрочем, в хорошую погоду семейные трапезы происходили, как правило, перед домом. Летом, если собиралась вся семья, и балкон, и столовая использовались для ночевки. Семья и после смерти Бориса Викторовича, была немаленькой: Ирина Николаевна, дети Зоя и Коля, невестка Катя, внуки – Настя (дочь Зои), Николка и Маша (дети Коли). Да еще почти всегда кто-нибудь из гостей. Когда – в раннем детстве – нам зачем-либо требовалась мама, приходилось уточнять, которая именно, и мы орали через весь участок: «мама Зоя!», «мама Катя!». И настолько привыкли к этому, что потом всю жизнь Маша называла свою тетю мамой Зоей, Настя свою, соответственно, мамой Катей. Более того, как и в случае с бабчиком, так стали называть их и друзья. Обстановка в доме была скромная, как, наверное, в большинстве тогдашних дач. Что-то куплено по случаю, а что-то (письменный стол, шкаф) сделано местным столяром Иваном Никифоровичем. Сейчас эти вещи находятся в мемориальном кабинете Бориса Викторовича в гурзуфском пушкинском музее.
Дом расположен вверху участка, который спускается вниз довольно-таки круто, поэтому пришлось построить на нем множество террас и проложить несколько лестниц. Подпорные стены террас складывали несколько рабочих, а старший над ними, Андрей Иванович Курочкин, был каменщиком потомственным: его отец работал на постройке Ливадийского дворца Николая II. Чуть ниже дома Ирина Николаевна устроила кактусную горку, древовидные опунции, росшие на ней, отлично переносили крымские зимы и выглядели очень красиво, особенно в период цветения и созревания плодов, но представляли собой немалую опасность. Не один подгулявший или просто неловкий гость, да и кое-кто из членов семьи оказывался там и потом мучительно долго боролся с впившимися в тело колючками. Другие кактусы, а Ирина Николаевна была большой их любительницей, росли в кадках, и на зиму их затаскивали в дом, так же как и пышные (и плодоносящие) лимонные кусты. Лимоны эти доставляли нам в детстве немало тягостных минут: по поручению бабчика приходилось брать губку и каким-то специальным раствором протирать каждый листик. Ослушаться же бабчика мы не решались, она была строга. Росли у нас и сирень, и розы, и лавры, и виноград, половину участка закрывал своей тенью огромный грецкий орех со стволом, раздвоенным когда-то, еще при прежних хозяевах, в него попавшей молния. К сожалению, сооружение площадок и лестниц, так украсивших участок, не пошло на пользу росшим на нем деревьям: корневая система была повреждена и мало-помалу они стали чахнуть. К счастью для всех нас процесс этот занял много лет, лишь высоченный миндаль очень быстро. Первые годы за чудо-садом, как называла его в письмах бабушка, следили и садовник Михаил Иванович, и соседка баба Катя («Владимировна», как называла ее бабушка). Главным консультантом Ирины Николаевны был Тимофей Самойлович – старший садовник Никитского ботанического сада. От него она получала различные саженцы и полезные советы. Его дом и участок находились прямо на территории Никитского сада, и мы с бабушкой нередко ездили на катере к нему, а позднее к его вдове, в гости.
Вообще дачная жизнь в 50-е – начале 60-х была отчасти патриархально-барской, вокруг было много, говоря современным языком, «обслуживающего персонала». О садовниках и столяре уже упомянуто, имелись няни для детей, за отсутствием в тогдашнем Гурзуфе прачечных часть стирки отдавалась прачке Марии Федоровне, за обедами с судками (три кастрюльки – для первого, второго и третьего) ходили к поварихе Александре Васильевне.
Завтраки и ужины готовились дома. Денег в нашей семье всегда было немного, из чего можно заключить, насколько дешево стоили все эти услуги. «Писательшу» (так звали местные Ирину Николаевну) и ее семью в Гурзуфе знали почти все. Вспоминаются объяснения, которые давались знакомым, впервые собиравшимся к нам в гости (по почтовому адресу найти дом не представлялось возможным из-за упомянутой запутанности гурзуфской планировки): пройти по главной улице вверх и спросить, как найти дачу Томашевских или дачу «писательши». Не было случая, чтобы это не сработало.
Среди гурзуфских старожилов оставались еще люди, помнившие, как тогда говорили, «раньшее время». Самой колоритной личностью была, пожалуй, бабка Капитолина – та самая, «старуха вида зловещего», что явилась от Книппер-Чеховой с просьбой перекрасить калитку. Жила она по соседству с Ольгой Леонардовной и вместе с мужем-рыбаком Романом Трегубовым присматривала за ее дачкой в отсутствие хозяйки. Вот что рассказывает о ней Зоя Борисовна:
Капитолина называла Ольгу Леонардовну исключительно «барыня», а внучек своих заставляла целовать ей подол. И когда Книппер-Чехова возмущалась и говорила: «Капа, что ты делаешь?!», та отвечала: «Пусть привыкают, барыня». У меня есть замечательное письмо, Капитолинин ответ маме, которая платила ей деньги, за то, что она присматривала и за нашим домом: «Милостивая барыня, деньги получила и покорнейше Вас благодарю. Милой барышне (т. е. мне. – З.Т.) кланяюсь низко. Слуга Капитолина». Письмо 1947 года.
Рядом с Книппер-Чеховой и Трегубовыми жил и племянник Ольги Леонардовны композитор Лев Книппер. Потом дом (точнее домишка) достался его сыну геологу, академику Андрею Книпперу, а присмотр за ним – тоже как бы по наследству – перешел к невестке Трегубовых Валентине. Что же касается самого трегубовского дома, его последней на нашей памяти владелицей стала правнучка Капитолины Лариса.
Упомянутая выше повариха Александра Васильевна с удовольствием передавала нам рассказы матери о том, как она служила горничной в царской резиденции в Ливадии. Попадали к Александре Васильевне, толкнув то ли глухую калиточку, то ли дверцу, спрятавшуюся между стен соседних домиков. Всё это – и калиточка, и узенький каменный коридорчик за ней, выводивший неожиданно в небольшой дворик, – типично для южного берега Крыма. Дворик, несмотря на крошечные размеры, оказывался коммунальным: выходившие в него «крымские лачуги» были поделены на клетушки. Не знаем, когда именно это было сделано – в до– или послевоенные годы, но такие «коммунальные дворы» тоже типичны для Крыма, различались они только размерами. Летом население окружающих их клетушек практически переезжало туда, там и готовили, там зачастую (если позволяли размеры двора) и спали: сами клетушки по возможности сдавались. Александре Васильевне принадлежала небольшая комната и кусочек застекленного балкона. Помимо рассказов о матери – ливадийской горничной нам запомнились еще необыкновенной красоты и размеров розы, неожиданные в крохотном пространстве двора, и вкуснейшие десерты, приготовлявшиеся Александрой Васильевной «на третье».
Имелась в Гурзуфе и другая частная повариха – Надежда Борисовна, или, как ее обычно называли, несмотря на почтенный возраст, Надька. То же самое – клетушка, выходящая в коммунальный двор, и готовка для приезжающих ради заработка. Это называлось тогда «давать обеды». Эта деятельность, да еще сдавание в курортный сезон койки в своей клетушке, была для Надежды по сути единственным средством к существованию, так как пенсии она не получала: муж ее, турок, во время немецкой оккупации Крыма перебрался вместе с дочерью в Турцию. Всем окружающим она рассказывала, что дочь погибла в партизанах, но боялась, что при оформлении пенсии всплывет правда и, несмотря на неоднократные предложения Ирины Николаевны помочь ей в хлопотах, так на них и не решилась. Особо доверенным лицам она описывала прекрасную кофейню, которой владели они с мужем. Предаваться воспоминаниям о дореволюционных временах она тоже очень любила. Фигурировали там обычно дамы: «Все в кружевах, с зонтиками, такое обращение, такой смех… И все как есть чахоточные!» Почему все дамы-курортницы болели чахоткой, так и осталось на совести рассказчицы. Далее – как и в случае с кофейней – всё зависело от аудитории: людям непроверенным повествовалось об ужасах царизма. Для «своих» концовка была такой (дословно!): «Да-а… Советская власть многих погубила… Может, она и что хорошее дала, да только его всё равно нет! Теперь, конечно, власть рабочих, а рабочие все гады, хамы, воры и пьяницы!» Выпалив это на одном дыхании, она деловито переходила к хозяйственным делам.
Помогать Ирина Николаевна была готова не только Надежде. Многочисленные письма, ходатайства, хлопоты по делам местных жителей, которые при жизни разделял с ней Борис Викторович, были важной составляющей ее гурзуфского бытия. Одним из основных бабушкиных подопечных была личность не менее колоритная, чем упоминавшаяся выше бабка Капитолина, – местный могильщик и ассенизатор Костя Инзик. Отчества его, похоже, никто не знал. Был он человеком огромного роста и огромной физической силы, которую применял как обломовский Захар, совершенно не соизмеряя потребных для того или иного действия усилий. Родом он был из Полтавы и в подростковом возрасте попал в заведение Макаренко. «Польстились гопники на его мощный рост и заманили дурака чемоданы на вокзале отбирать!» – сердито говорила бабушка. Что сыграло роль, – макаренковские методы (Костины рассказы о них сильно разнились с официальными) или же врожденная порядочность, – не скажешь, но более честного человека найти было трудно. Кроме того, несмотря на «грязные» занятия Костя отличался патологической чистоплотностью, но о работе своей никогда не забывал и, приходя в гости, ни за что не соглашался сесть за общий стол, ел и пил кофе, до которого был большой охотник, где-нибудь в стороне. Точно также никогда не давал руки нам, детям. Себя он называл «профессором кализации» (канализации). Вообще говорил Костя очень смешно: Черноземное (Средиземное) море, Югославский (Ярославский) вокзал, задавал вопросы типа: «А что Италия – на горе стоит?», коверкал слова (Ловушка вместо Золушка) – пересказ всех его перлов занял бы слишком много места. В качестве могильщика обещал местным бабкам качественные могилы в обмен на мелкие услуги: «Свари, Катечка, борщику, меня угости, я тебе могилку выкопаю». На что получал ответ: «А ну ее к свиньям! Ты раньше меня помрешь». Страшной угрозой в его устах звучало обещание вырыть кривую могилу, что он сулил, например, упомянутой выше Надежде-поварихе за отказ угощать борщиком. Особый его интерес вызывали известные люди, бывавшие в Гурзуфе, при этом требовалось установить степень величия каждого. Невозможно не привести их с бабушкой диалог:
К. (сидит в углу кухни). Ирина Николаевна, а Чехов был великий?
И.Н. (помешивает что-то в кастрюльке). Великий, Костя, великий!
К. (настойчиво). Нет, вы скажите, очень великий или немножко великий?
И.Н. (пауза, мучительные раздумья). Немножко великий.
Единственной личностью, чье величие не вызывало у Кости вопросов, был Шаляпин, и самым большим удовольствием, наряду с кофе, было слушать шаляпинские пластинки, сидя у нас на балконе. А высшей похвалой качеству служил эпитет «николаевский»: «николаевская колбаса», «николаевские стульчики» и т. д. При своем росте голову Костя имел маленькую, почти всегда увенчанную белой панамкой, и говорил тонким голосом, что создавало эффект весьма комический, а для Ирины Николаевны порождало проблемы. Дело в том, что добрейший Костя приходил в бешенство, когда над ним смеялись, и если это случалось (чаще всего ему просто так казалось), мог, что называется, «навтыкать». Последствия, учитывая его силищу, случались достаточно серьезные, и Костю препровождали в симферопольскую психбольницу, откуда с немалыми трудами его вызволяла Ирина Николаевна. Иногда у них случались размолвки, например, когда съев в один присест подаренную ему бабушкой большую банку варенья, Костя заявил местному врачу, что «писательша» его отравила. Переполошившейся при этом известии «писательше» врач со смехом объяснила, что причиной всех Костиных отравлений является обжорство. Костю бабушка нежно любила, это стало очевидно из коротенького письма, извещающего о его смерти: «Дорогие дети, столько утрат я вынесла, владея собой, а тут плачу третий день и не могу остановиться». Тем, кто знал Ирину Николаевну – очень волевую, сильную, суровую даже, эти слова говорят о многом…
Жизнь в Гурзуфе мало-помалу менялась, прежняя патриархальность уходила в прошлое. Конечно, в первую очередь это связано с его популярностью. Наплыв отдыхающих, как называли их местные жители, бывал таков, что сдавались койки даже под кустами в садиках, а чтобы пробраться к морю, приходилось идти на берег не позже шести утра. Отдыхающие в глазах местных были некоей особой кастой: им представлялось, что те всегда бездельничают, не нуждаясь при этом в деньгах. Маленькая внучка нашей соседки на вопрос, кем она хочет стать, так бесхитростно и ответила: «Отдыхающей». Наверное, это свойство любого курорта – отношение к приезжим как к прожигателям жизни, ведь именно такими они видятся в короткие дни своих отпусков. Если для одиноких старушек, которых мы описали выше, этот курортный бум оказался благом, – заработок всё-таки! – то в целом влияние его было скорее развращающим. Ведь если в нормальных условиях владельцам гостиниц, ресторанчиков и т. д. приходится немало потрудиться, чтобы заработать деньги в курортный сезон, то советские курорты с их полным отсутствием какой-либо инфраструктуры деньги приносили легкие, шальные. Зачем что-то делать, если в июле-августе можно напихать в маленькую комнатушку несколько незнакомых друг другу людей или поставить койку в саду, натянув над ней старую клеенку от дождя, а потом жить себе да поживать до следующего сезона? И уже к началу 1970-х в Гурзуфе, как и на других курортах Крыма, почти невозможно было найти садовника, сторожа или рабочего, чтобы починить, например, ступеньки или крышу.
Как бы то ни было, усугубляющиеся сложности – с текущим ремонтом, с уходом, в отсутствие хозяев, за садом и присмотром за домом, в который повадились забираться воришки, не могли заслонить светлых сторон гурзуфской жизни. «Хорошо, – писал Дмитрий Сергеевич Лихачёв Ирине Николаевне в конце 1964 года, – что Вы ощущаете связь с природой, с птицами Вашего сада, с погодой, с видами, открывающимися из Вашего прекрасного дома». Всё, перечисленное Дмитрием Сергеевичем, действительно составляло главную прелесть жизни в Гурзуфе. Но была и другая – замечательные люди, друзья, бывавшие в нашем доме. Кто-то приезжал навестить – на несколько часов, кто-то гостил подолгу. Лихачёв бывал у Ирины Николаевны неоднократно, не останавливаясь, впрочем, на ночевку. Его летний визит с женой Зинаидой Александровной и внучкой Верой запомнился нам, девчонкам, потому, что бабчик назвала ее хорошей девочкой, тогда как нам постоянно доставалось за хулиганские выходки и бесконечные кривляния. Раздражение на бедную Верочку, вызванное этой похвалой, вылилось в дополнительный всплеск кривляний и выволочку от бабчика. Приезжал Дмитрий Сергеевич и один, и с женой.
Солженицын, как уже упоминалось, жил в Гурзуфе – недолго – в конце 1969 года. В письме, написанном в сентябре 1973 года, всего за месяц до смерти Ирины Николаевны, Лихачёв интересуется: «Как Ваша основная работа?», имея в виду работу над «Стременем “Тихого Дона”», идея которой, повторимся, родилась в ходе ее бесед с Солженицыным.
После вручения Нобелевской премии Бродскому, в среде друзей наш дом стали называть «домом Нобелевских лауреатов», ведь Иосиф Александрович тоже гостил у Ирины Николаевны. Знакомству с Бродским наша семья обязана Анне Андреевне Ахматовой. С ней Ирину Николаевну и Бориса Викторовича связывала многолетняя – многодесятилетняя – дружба. Рассказ об их совершенно особых отношениях представляет собой отдельную тему, но здесь хочется привести стихотворение «Август», написанное на смерть Бориса Викторовича и датированное 27 августа 1957 года (через три дня после его смерти):
Он и праведный и лукавый,
И всех месяцев он страшней:
В каждом августе, Боже правый,
Столько праздников и смертей.
Разрешенье вина и елея…
Спас, Успение… Звездный свод!..
Вниз уводит, как та аллея,
Где остаток зари алеет,
В беспредельный туман и лед
Вверх, как лестница, он ведет.
Притворялся лесом волшебным,
Но своих он лишился чар.
Был надежды «напитком целебным»
В тишине заполярных нар…
А теперь! Ты, новое горе,
Душишь грудь мою, как удав…
И грохочет Черное море,
Изголовье мое разыскав.
В своих записных книжках Анна Андреевна называет август траурным гостем, траурным маршем длиною в тридцать дней: «Все ушли под этот марш: Гумилев, Пунин, Томашевский, мой отец, Цветаева…»[6]6
Цит. по: Ардов М. Возвращение на Ордынку. М., 1998. С. 62.
[Закрыть] А в телеграмме, посланной ею в Гурзуф, говорится: «Горько оплакиваю великого ученого, благодарю друга».
Вернемся, впрочем, к Бродскому. Начиная с 1961 года, он часто бывал у Томашевских в ленинградской квартире, даже прожил месяц в кабинете Бориса Викторовича. Насте, Настику (дома нас называли Настик и Машик), тогда еще ребенку, он посвятил небольшую поэму-сказку «Хан Юсуф» и сам ее проиллюстрировал. Ахматову, по воспоминаниям Зои Борисовны, очень веселили строчки:
На столе горит свеча.
Хан зевает бормоча:
«Тря-ля, тpy-ля,
Тру-ля, тру-ля, КИТСАН ЛИМ…
Тру-ля, тру-ля, бре-ке-ке».
Что на хан/м/ском языке
Означает НАСТИК МИЛ.
Месяц звездочки затмил.
Позднее Иосиф Александрович бывал и в Москве у Николая Борисовича, куда тот переехал еще в 1951 году. В Гурзуфе Бродский был дважды. Первый раз поздней осенью, когда там жила одна Ирина Николаевна. Позднее она жаловалась Дмитрию Сергеевичу Лихачёву, что в то время как она носила дрова из сарая в дом, Иосиф возился с кошкой. На упреки Лихачёва Бродский с присущим ему остроумием ответил: «Просто я не хотел лишать Ирину Николаевну нимба». Второй раз он гостил у нас в начале лета 1969 года, когда помимо бабушки там жили и мы. Запомнилось нам его пребывание (помимо того, как страшно он обгорел, катаясь в солнечный день на лодке), удивительно остроумными застольными рассказами – каждая, даже уже известная нам из других источников, история становилась в его устах маленьким шедевров. Иногда он пел: «Когда качаются фонарики ночные» и переведенную им незадолго до этого «Лили Марлен». Уезжая, он оставил Ирине Николаевне стихотворение «Речь о пролитом молоке» и записку, заканчивавшуюся словами: «Благодарный хан Юсуф покидает ваш Гурзуф».
Возвращаясь в более ранние времена, нельзя не сказать о Николае Алексеевиче Заболоцком. Первый раз они с женой Екатериной Васильевной гостили в Гурзуфе в 1949 году, еще на «чеховке». Второй раз, семью годами позже, они жили уже в новом доме. К 1949 году относятся стихи «Гурзуф» и «На рейде», в котором также видятся гурзуфские впечатления:
…На террасах
Горы, сползающей на дно,
Дремал поселок, опоясав
Лазурной бухточки пятно.
Второй приезд его к Томашевским в 1956 году отмечен прекрасными стихотворениями «Гурзуф ночью» и уже цитированным «Над морем». Дружба с Заболоцкими идет с 1930-х годов, когда обе семьи жили в ленинградской «писательской надстройке» (канал Грибоедова, 9). После ареста Заболоцкого в начале 1938 года его сын Никита практически целые дни гостил у Ирины Николаевны, ведь Екатерина Васильевна вынуждена была проводить дни в бесконечных хлопотах за мужа (крошечную дочь Заболоцких Наташу «взяли под крыло» Шварцы). Никита Николаевич не раз вспоминал, что Ирина Николаевна, занимаясь какими-то своими делами, вела с ним постоянные беседы и при этом разговаривала с маленьким еще ребенком как с взрослым. Это общение, эти разговоры оказали на него, по собственным его словам, огромное влияние. Впоследствии, когда разница в возрасте перестала быть заметной, Никита стал одним из ближайших друзей Николая Борисовича (Николай Борисович старше Никиты Николаевича на восемь лет). Дружили они до самой смерти Николая Борисовича в 1992 году, а продолжилась эта эстафета дружбой с Машей. Никита гостил в Гурзуфе многократно, так же как его мать. Екатерина Васильевна Заболоцкая навещала Ирину Николаевну и буквально в последние ее дни, Никита приехал уже на похороны…
Запись о визите Заболоцкого зафиксирована в домовой книге, которую Ирина Николаевна, а впоследствии Николай Борисович обязаны были вести согласно тогдашним законам. Такие книги проверялись достаточно строго, поэтому сначала в них скрупулезно отмечали всех приезжающих в гости. Так, книга хранит, например, записи о пребывании в гостях у Томашевских Елены Сергеевны Булгаковой, Нины Львовны Дорлиак. Строгости, впрочем, со временем ослабли, и в домовую книгу стали заносить лишь тех, кто приезжал надолго, – членов семьи.
Постоянное наше летнее общество составляла совершенно замечательная семья Букреевых. Евгений Борисович, глава семьи, был известнейшим в Киеве врачом, учившимся в свое время вместе с Булгаковым. В Гурзуфе он с женой Еленой Ивановной, дочерью Наташей, зятем Осей и внучкой Аленой ежегодно снимал жилье. Алена была моложе нас года на два, и пока взрослые проводили время перед домом за ужином или картами, мы втроем резвились в детской. Доносящиеся до нас громкие голоса и взрывы смеха мы бесцеремонно перебивали требованиями принести нам чего-нибудь вкусного. В сентябре 1964 года Ирина Николаевна тяжело заболела (инсульт), и внимание и помощь Евгения Борисовича оказались бесценными. А для перепуганной одиннадцатилетней Маши, которая до прилета Николая Борисовича и Зои Борисовны оказалась наедине с больной бабушкой, еще и огромной моральной поддержкой.
Не обходились летние сезоны и без Виталия Яковлевича Виленкина, милейшего и образованнейшего человека. С ним, об этом уже упоминалось, Томашевские познакомились у Книппер-Чеховой, где он бывал постоянно. Когда Ольга Леонардовна перестала бывать в Гурзуфе, Виталий Яковлевич не бросил его. Жил он иногда в Доме творчества художников, но чаще снимал комнату – у него, равно как и у Букреевых, была постоянная хозяйка. У нас Виталий Яковлевич проводил много времени – в разговорах, неизменно задушевных и умных, за чашкой чая, а нередко просто приходил отдохнуть в саду, лежал и читал под огромным орехом. В Москве общение продолжалось – менее интенсивное в силу общей занятости, но постоянное.
Если говорить о литераторах, то помимо живших у нас Заболоцкого, Солженицына и Бродского, навещавшего Ирину Николаевну Лихачёва, в гости приезжали еще и крупнейший переводчик Николай Любимов, старинный друг нашей семьи, и Виктор Шкловский, и Вениамин Каверин, и Евгений Рейн. Последний бывал как у Ирины Николаевны, так и у Маши – в 1995–1996 годах, когда был гостем Пушкинского праздника поэзии. Круг общения литераторами, впрочем, не ограничивался. Посещали нас и художники – Натан Альтман, Дмитрий Бисти. С Альтманом Томашевские состояли в каком-то смысле в родстве: он был приемным отцом жены Николая Борисовича Екатерины Брониславовны Малаховской. Ее родители, художник Бронислав Малаховский и его жена Мария Валентиновна были репрессированы и погибли, первый был расстрелян, вторая умерла в тюрьме. Натан Исаевич и его жена Ирина Валентиновна Щёголева (сестра Марии Валентиновны) усыновили их детей – поступок столь же благородный, сколь по тем временам и отважный.








