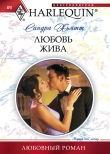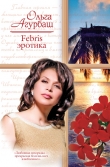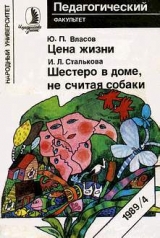
Текст книги "Шестеро в доме, не считая собаки"
Автор книги: Ирина Сталькова
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Учимся друг у друга
Каждый следующий ребенок приносит в семью гораздо меньше трудностей и больше радости, чем предыдущий. Когда Саня, мой первенец, был маленький, мне часто казалось, что двое детей – это немыслимо, и когда родилась Настя, стало вдвое труднее. Зато третий как будто ничего и не изменил, никаких забот не прибавил, а уж пятая, Аська, принесла в нашу уже общую жизнь одну радость. Я учила детей ходить и есть ложкой, не вертеть ручки у газовой плиты и мыть посуду, а они меня – не ныть и не паниковать, когда происходит что-то экстренное, и делать по крайней мере 4 дела сразу, и ответственности, и умению реагировать на сущность, а не на форму. Вчера звоню домой: «Настя, ставь варить вермишель!» Она: «Ой, да отстань, мы все без тебя знаем, что есть – из того и сделаем. Занимайся своим делом». Ну, можно полезть в бутылку: «Как ты разговариваешь с матерью!» А можно – я так и делаю – улыбнуться: выросли мои ребята. Ведь они и вправду все сами сделают, они уже частично сняли с меня эту заботу: что готовить, как готовить – это уже «не мое дело».
Маня приходит из школы с подружкой Машей, я с ними здороваюсь и спрашиваю у Маняшки: «Что ты получила?» Она отвечает, я хвалю, а Маша мне и говорит: «А я пятерку по чтению». Это мне урок вовсе от чужого ребенка: подруга дочери не приложение к ней, а сама по себе человек. Теперь я всегда спрашиваю: «Как ваши дела?» Надеюсь, что это поможет мне, когда дети вырастут, женятся, замуж выйдут. Их будущие мужья и жены (сейчас об этом странно и думать) – может быть, наши отношения с ними зависят, хоть и немножко, от того, что мне объяснила девчонка – третьеклассница по прозвищу Батончик.
То, чему я их научила, возвращается ко мне, они помогают мне не только мытьем посуды, а поддерживают меня. Недавно я забыла дома кошелек, а в магазине хватилась – нет денег. И я решила, что потеряла всю зарплату. Мне стало дурно. Пришла домой с пустой сумкой, белая, села в пальто на стул, не могу слова сказать. Дети бросились ко мне: «Что с тобой?» Говорю – деньги потеряла. А они: «Да вот кошелек!» А старший сын принес воды и говорит осуждающе: «Ну разве можно так волноваться из-за денег?» Это я так учила, нет денег – экая беда, выкрутимся. Он бы так же сказал, если б я и вправду все потеряла. Вот он и опора мне, мой мальчик.
Что бы я изменила? Себя вряд ли удастся, а дети не дают мне зазнаться. Мы летом ездили все вместе на юг. А потом сын и говорит мне: «Мама, тебе за наш отдых надо поставить памятник!» Я и расцвела, уши развесила. А он продолжает: «С рулоном туалетной бумаги в руках и надписью на пьедестале: „Дети, кто хочет в туалет?“» Точно, моя коронная фраза, чаще всего звучавшая над берегами Кавказа.
Может быть, неприлично в этом признаваться, но мне мои дети очень нравятся, я имею в виду – нравятся как люди. Они разные, но у них есть те качества, которые я в людях вообще очень уважаю. И я не могу представить, как это – они были бы другие? Вот Саня на днях прочитал «Фауста» и честно признался: «Было тяжело». Вдруг бы у Сани не хватило самолюбия дочитать, раз взялся? Или вдруг бы он покривил душой: «Ах, „Фауст“!» Ну, это уже не Саня был бы, кто-то другой.
Бывают ли уцененные собаки?
Мне нравится говорить о том, что мне нравится: какие разные мои дети, все пятеро, как мы с ними живем, работаем, ссоримся и миримся, о наших семейных и единоличных тайнах.
В послеотпускную трудную минуту жизни шарю в шкафу – не завалялась ли где мелочь. И вдруг нахожу в пустой сахарнице трешку с копейками: «Чье?» И хоровой ответ: «Это Настя на собаку копит. Она хочет водолаза». – «Ну, Настюш, я их пока экспроприирую, а потом добавлю, ладно?» И дочка соглашается: «Давай я молока и муки куплю и сделаю блины».
Девятиклассник Саня получил письмо из МФТИ с приглашением заниматься на вечерних либо заочных курсах. Комментирует: «Ну, вечерние – 60 рублей в год – это не для нас, а на заочные обязательно запишусь».
Мне кажется, что человек имеет право на тот образ жизни, который считает хорошим, если, конечно, это не воровство, не пьянство и т. д. Никому не навязываю наш – без цветного телевизора и ковров, с мечтой о водолазе, а не об импортных «Made in Malachovka» штанах. Милосердие и благотворительность – хорошая вещь, если человек их дарит кому-то. Но вот каково быть, так сказать, потребителями этих благ и милостей? И поэтому я терпеть не могу говорить о льготах для многодетных семей, а о них обязательно рано или поздно заходит речь почти в любой беседе. Попробую все же суммировать все льготы, положенные моей семье, состоящей из меня и моих пятерых детей от 6 до 14 лет, «проживающих совместно со мной», как пишут в соответствующих справках. Во-первых, я плачу квартплату на рубль меньше, чем мне положено (квартплату, а не свет, газ – это как у всех). Во-вторых, подоходный налог с меня берут не полностью, а 70 %. Эти льготы я получаю, так сказать, автоматически, без усилий с моей стороны, без справок и хождения по инстанциям. Впрочем, вру, насчет подоходного налога я ежегодно представляю справку из ДЭЗа, что никто из нас не умер, не переведен на полное государственное обеспечение и т. д.
В-третьих, у меня есть удостоверение, дающее мне право внеочередного обслуживания в службе быта, а также спецобслуживания в продовольственном и промтоварном магазинах.

Со стыдом сознаюсь, что я широко пользуюсь этими льготами, потому что не имею возможности стоять в очередях в парикмахерской и химчистке, за сливой и школьной формой, за мылом и сахаром, и зубной пастой, и стиральным порошком, и еще за чем-то, за чем стоят в очередях. Самые страшные, неподвижные, самые постыдные очереди – очереди за так называемыми праздничными заказами, где мы, многодетные, стоим вместе с ВОВ и ИОВ – такие вот аббревиатуры украшают нашу жизнь в условиях демократии и гласности. Если мне еще позволяют совесть и здоровье (прихожу из магазина и, как правило, пью валокордин и валерьянку) проситься без очереди и выслушивать «народное мнение» о многодетных вообще и обо мне в частности, то здесь я стою за безногим инвалидом и перед старухой на костылях и молча слушаю, как продавщица кричит в ухо глуховатому мужчине: «Тушенку берете? Сгущенку берете?», а он, неловко улыбаясь, трясет головой: «Да, да, да». А вот другой идет, глядя прямо перед собой выцветшими, слезящимися глазами, прижимая к груди, к праздничному черному костюму, к орденам эти самые банки, эту полукопченую колбасу, и его толкают те, кто тоже плохо видит, кому тоже трудно обойти, кто тоже хочет полукопченой колбасы. Господи, сколько раз я зарекалась не ходить за этими заказами, тем более что мне-то эти пресловутые заказы не подходят: одна банка сгущенки – мне мало, а две не дают. Даже если человеку впереди меня сгущенка не нужна, эту банку отложат, а мне не впишут – не по-ло-же-но. Хорошо, что стоять долго: пока стоишь, со всеми познакомишься, поговоришь и договоришься, чем с кем меняешься, кто кому что берет. Так что вот такая у меня льгота: четыре раза в год, стыдясь себя за радость и все-таки радуясь, волочу домой сумку с положенным, а также неположенным по статусу «мнд».
Хорошо и то, что эта льгота не требует справок, разве что ежегодно ездить в исполком и там ставить штамп в своем удостоверении.
Есть и еще льгота, недавняя, которую я смогла в прошлом году получить, только обратись непосредственно в ВЦСПС: бесплатная школьная, спортивная и пионерская форма. Ходишь и собираешь чеки, складываешь их аккуратно, пишешь заявление на имя директора школы, а если он ничего об этой льготе не слышал, то идешь в РУНО, а там говорят: «В первый раз слышим про такую благотворительность». Тогда идешь выше и через каких-нибудь полгода получаешь за форму, которая куплена в июле, а тут кончается зима, и можно уже думать о следующем учебном годе с новыми формами и старыми проблемами. Согласно тому же постановлению Совета Министров СССР и ВЦСПС «О дополнительных мерах помощи малообеспеченным семьям, имеющим трех и более детей, воспитываемых одним родителем», мне положена и бесплатная путевка в санатории и семейные дома отдыха. Говорю об этом в горкоме профсоюза – нет, вам положен только бесплатный пионерский лагерь. Так и не договорились в этом году ни до чего: отдыхали мы, конечно, всей семьей и за свой счет. Приехали загорелые, довольные и без копейки денег. Кого-то это злит. «Она еще улыбается!» – сказала мне как-то строгая дама, выдавая очередную справку. Кто-то удивляется: «Как это ты не боишься с ними ездить?» Нет, не боюсь. Я боюсь, что разговор о многодетных семьях сведется к ярмаркам подержанных вещей и благотворительным концертам, как будто это изменит существо дела. Я вот приготовила детские платьица, хочу послать знакомой для ее дочки, а соседка принесла мне кофточку, из которой выросла ее дочь. Сейчас я не плачу и мне не платят, а на ярмарке я продам, но и покупать придется – так где же выгода? А о благотворительных мероприятиях, где билет стоит 10 рублей, я читала о них у Чехова, например, ну хоть «Анна на шее» – перечитайте, кто не помнит.
Что мне удивительно – люди, которые должны по долгу службы знать все о льготах для нас, не знают ничего. Хожу с газетой, даю ее читать – читают, пожимают плечами. И еще мне удивительно, что льготы эти как-то лишены здравого смысла. Ну вот хоть единовременные пособия по случаю рождения ребенка. На первого – 50 рублей, на второго и третьего – по 100 рублей, зато на четвертого – 65 рублей, а на пятого – 85. Или материальная помощь из фонда Всеобуча – только на покупку одежды, ни в коем случае не еды, не письменного стола, не кровати. Или, например, бесплатное питание детям в школе – обязательно завтрак и обед. А мне обед не нужен, мне нужны только бесплатные завтраки. Ну, если учительница хорошо ко мне относится и опытная, она выкрутится, поделит: одно моему ребенку, другое – другому, а нет – ну, как говорится, на нет и суда нет. Если мне не нужна одна из положенных мне школьных форм, то я должна добыть чек, а просто так деньги мне не положены. Как будто все мы вместе играем в какую-то странную игру, салочки, что ли: то я убегаю, а меня догоняют, то наоборот. И все это вокруг материальных проблем, как будто духовных запросов в многодетных семьях и нет, они, так сказать, нам «не положены». А мы хотим в театр! В Большой. На «Щелкунчика» – у меня трое детей в музыкальной школе учатся, да и вообще дети музыку любят, и классику, и современную. Нет, шесть билетов в Большой театр – это невозможно. Мы хотим на выставки. Мы хотим… на Ключевского мы подписаться хотим. Я читала, что подписчики недовольны – тома разного оттенка, так мы согласны на разные оттенки, потому что мы это будем читать. Я один раз написала личное письмо С. А. Образцову, так что мы один раз были в Театре кукол, а второй раз мне неловко писать, так мы и не были там больше ни разу. Вот подумываю, не написать ли Наталии Сац, но ведь это не метод.
Детский музыкальный театр совсем рядом с нами, и наверняка среди его работников много комсомольцев, так, может быть, им стоит взять шефство над многодетными семьями, приглашать нас время от времени к себе? Если так трудно попасть в театр нашей семье, то как же быть тем, кто живет далеко от культурных центров? И с одним-то ребенком ехать сложно, а с тремя, с пятью? И все-таки мне кажется, что если подумать, то придумать можно.
Человек будущего – не просто сытый и одетый, а прежде всего человек думающий, читающий, знающий. Всегда и у всех народов мать с ребенком на руках вызывала чувство восхищения, так тем более должен быть высок престиж матери, вырастившей много детей. Пора уже избавляться от взгляда на многодетную мать как на женщину, утонувшую в бытовых хлопотах, немытую и нечесанную, озабоченную тем, где бы перехватить рубль до получки.
Мы тоже хотим ходить в кино и в театр и даже на выставки вместе с детьми, а может быть, и для себя, – что в этом странного?
Уже рождение первого ребенка надолго, на несколько лет, отрывает его мать от всего, что входит в понятие «культура». Моя знакомая из Липецка, у которой двое, ничего за последние три года о походе хотя бы в кино не писала. Вчера письмо пришло из Гомеля, там у моей подруги четверо, но среди кучи семейных новостей ни слова о посещении театра – как и год, и два назад. Моя соседка, мама пятерых дошколят, в кино была в прошлом году, когда я забрала всю компанию к себе на два часа.
Не только и не столько материально трудно с ребенком: как воздуха не хватает того, что поднимает человека над бытом, – искусства во всех его видах. Не потому ли и не хотят рожать второго молоденькие мамы, что видят они только ежедневные авгиевы конюшни материнства, а его света, его крыльев, полета не замечают, не умеют замечать? То, что есть в «Мадонне» Рафаэля, может объяснить маме только она и только при личном свидании. Час, потраченный матерью «на себя», сторицей вернется детям, а значит, завтрашнему обществу. До сих пор вспоминаю, как первый и последний раз за 14 лет своего материнства попыталась пройти в «Изобразилку» на выставку. Хвост очереди терялся в утреннем тумане, и было ясно, что двух часов, на которые меня отпустила подруга, согласившаяся посидеть с детьми, не хватит даже на то, чтоб подойти к двери. Так было жалко несостоявшегося праздника, что я решилась попросить пропустить меня, мол, у меня пятеро ребятишек, вот и удостоверение. «А у меня две собачки, они тоже требуют заботы, и к тому же я член Союза художников», – отрезала молодая женщина, а мужчины вокруг согласно закивали головами. Честное слово, в очереди за бычьими хвостами, где стоят «девочки тридцатых годов», как назвала их одна читательница, в платках и с сумками, такой ответ был бы невозможен. «Бери, дочка, бери, – говорят они, – ох, хороши хвосты, наваришь своим супа, ох, и суп будет!»
Мне иногда кажется, что мы все стоим в длинной-длинной очереди за счастьем, которое, может быть, вовсе и не того цвета и размера, какой мне нужен. Стоим так долго, что уйти вроде и жалко: столько стояли. Конечно, впереди еще много народу, но и сзади порядочно, кто-то мне определенно завидует, что я уже скоро получу это самое, чего мне не нужно.
Можно экономить на тряпках и колбасе – нельзя экономить на книгах. Ребенок должен расти с ощущением доступности «всех тех богатств, которые выработало человечество», и, честное слово, это не тушенка по госцене. В моей семье детей много – это наша общая гордость и общая радость, это не увечье, вызывающее жалость и взывающее к чувству милосердия общества.
Я ращу детей, чтоб было кому обеспечить пенсией ту даму с собачками. Многодетные семьи – не нахлебники у государства, которое обеспечивает их различными льготами за счет кого-то. На единственного ребенка в семье одна книжка, один велосипед, один телевизор, но и на пятерых этого всего по одному. Потребительство в принципе невозможно в большой семье, даже очень обеспеченный и неумный человек не купит каждому из своих пяти детей по магнитофону, а значит, вещь остается всего-навсего вещью, да притом и коллективного пользования. Большая семья – коммуна по своему духу и, следовательно, зернышко будущего в нашем обществе. Так и надо на нее смотреть – с уважением и обязательно с улыбкой, без раздражения. Не надо думать, что, как мне одна женщина сказала, «эти дети выдышали весь наш воздух». Это вчерашний, даже позавчерашний взгляд – все мое: воздух и вода, заграничные джинсы и русское сало. Не может государство помочь нам материально – ну что ж, проживем, не требую же я финансовой помощи от своей матери-пенсионерки. Но уж если идет разговор, и притом публичный, о льготах и привилегиях, может, есть смысл спросить самих многодетных, что им нужно – не всем скопом, а индивидуально – кому садовый участок, а кому билет в театр, и помочь тоже индивидуально: выделить этот участок тем, кто хочет (я вот не хочу), дать ссуду тем, кто просит (я не прошу – мне нечем ее отдавать), позволить подписаться на еженедельник «Семья» – кому же и подписываться на него, как не мне? Пока же мы мыслим по привычке массово: всем все одинаково, вот и получается, что общегосударственные выплаты большие, а помощь конкретной семье мизерная. И еще одна просьба: помогать так, чтобы можно было принять эту помощь. «Бедненьких сироток» у нас нет – мы богаче тех, у кого в трехкомнатной квартире четыре хрустальные люстры и два югославских унитаза, а что касается денег, так моя Настя говорит: «Я буду хорошо работать, я буду стараться». И Ваня, Маня и Ася в один голос продолжают ее невысказанную мысль: «И мы купим водолаза». А разумный Саня спускает эту небесную мечту на грешную землю: «Бывают же какие-нибудь уцененные собаки».
Мы не ходим в детский сад
Я уже говорила о наших семейных принципах и о том, что первый из них – равенство. Детей в семье много, значит, вопрос о воспитании коллективизма, о том, как все разделить на всех, решается ежедневно в рабочем порядке, без помощи яслей и детского сада. И вот почему. Хорошо, что нам не дано слышать того, что происходит за соседней дверью, а тем более в соседнем подъезде, а то утро мы все проводили бы под оглушающий рев, под тихий скулеж, под горькое рыдание, под выматывающий душу плач детей, собираемых в их сад. Да, кому-то повезло больше – и садик ничего, и воспитательница неплохая, так что иногда начинает казаться, что в целом-то все поправимо: вот наступит светлое завтра, воспитателям прибавят двадцатку, все обрадуются и повеселеют – и в садике будут цвести цветочки.
Можно еще хозрасчет ввести, можно сделать все детсады ведомственными или, наоборот, заменить все ведомственные на кооперативные, можно разрешить родителям и детям выбирать воспитателя, все это, конечно, хорошие вещи, хотя боюсь, что придется нам тогда не только воспитателя выбирать, но и заведующую садом, а также РУНО, ГУНО и т. д.
Но может быть, есть смысл посмотреть на детский сад как на явление, не зависящее от хорошей Марьи Петровны или обыкновенной Татьяны Павловны. Давайте посмотрим на детский сад с точки зрения ребенка. Что это такое для нашего сына или дочери? Работа? Но в нашей стране 8-часовой рабочий день, а не с семи утра до семи вечера. Отдых? Пробовали ли уважаемые родители отдыхать хотя бы месяц в одной комнате с тридцатью соседями? А не хотите попробовать? Так весело, интересно, и с вами будет массовик-затейник, он научит вас плести макраме, вязать, ходить парами на прогулке, петь, танцевать, любить животных. А дети – и год, и два, и три, да еще и без отпуска, потому что летом они едут с детским садом на дачу, где отдыхают и вовсе круглосуточно. Человек – животное общественное, но не стадное, нельзя ему все время быть на людях, он должен быть и один. Сейчас наконец-то заговорили о том, что воспитанники детских домов отстают в развитии, в частности, потому, что не имеют возможности для уединенной душевной работы. Но чем так уж принципиально отличается жизнь родительского ребенка, живущего по маршруту ясли – сад – продленка, от сиротской? И стоит ли удивляться родителям шестнадцатилетнего подростка, что они не понимают друг друга, он какой-то чужой? Весной – зимой – осенью он воспитывался общественно, а летом давал маме-папе отдыхать – ездил в лагерь, так они и в самом деле слабо знакомы – родители и их акселератное дитя: ни старшие не умеют поговорить с ребенком (не научились за 16 прожитых врозь лет), ни он не умеет общаться со взрослыми – воспитатель, если очень постарается, успеет вытереть нос, но не поговорить «по душам» с четырехлеткой – да и какая там у него душа, есть ли она?
Итак, первое – совместное постоянное проживание 30 с лишним детей – тяжелая психологическая нагрузка на ребенка, и никакой воспитатель, хоть бы и гениальный, тут не спасет.
Второе – раздельное постоянное проживание ребенка и родителей создает серьезные трудности для их взаимопонимания, для возникновения душевной близости. «Облегчая» жизнь семьи сейчас, «отдельность» отзовется новыми острыми проблемами в будущем, которое обещало быть счастливым: «вот вырастет…»
Сейчас много говорится и пишется о милосердии, вернее, о его отсутствии в отношении к старикам. И мне всегда хочется спросить: не ходила ли та бывшая девочка, которая сейчас отправляет свою маму в Дом престарелых, в детский сад? А если ходила, то какой с нее спрос? Тогда у мамы было много важных дел, ребенок ей мешал, а нынче у дочки работа, то да се, а тут еще старуха под ногами путается. Да разве плохо в Деддоме? Там уход, там ее ровесники, а мы будем навещать. Причины и следствия не обязательно стоят рядом, бывает, они разделены долгими годами, но ведь дети действительно наше будущее, это не простая фраза.
Мне рассказала одна женщина, как утром пятилетний малыш плакал: «Мама, побей меня, чтоб я захотел идти в садик». И ведь она его все равно туда отвела, не разорвалось сердце. Он привыкнет – но хорошо ли, что привыкнет осуществлять задуманное невзирая на слезы близкого человека?
Третье – постоянно общаясь только со сверстниками, ребенок испытывает трудности при разновозрастном общении. Он может обидеть младшего (второго ребенка в семье), так как не понимает, что в нем хорошего – такой глупый, ничего не умеет, а лезет! – его не научили. При этом сам легко поддается влиянию старшего – он привык, что им командовали: «Иванов, не отставай!» Уверены ли вы, что диктат старших будет всегда со знаком плюс?
Четвертое – садовский ребенок выключен из семейной жизни, он не знает ее радостей и забот, он привык, что его обслуживают – кто-то купил еду, кто-то приготовил, кто-то убрал – ребенка это не касается. В семье, особенно в большой семье, проблема трудового воспитания решается принципиально по-другому. Мои дети знают: колбаса растет не в холодильнике, и у батонов нет ножек, они сами домой не приходят. Не успели купить хлеба, стало быть, будем есть без него. Я ушла на работу – они и сготовят, и посуду помоют, и малыша переоденут. Не знаю, считать ли это производительным трудом или общественно полезным, но убеждена, что и мальчикам и девочкам пригодится в жизни умение сварить кашу и испечь пирог, выстирать детские штанишки и сменить кошке песок. Любовь к животным, как и любовь к людям, включает в себя не только поэтическое сюсюканье, но и вполне прозаическую «грязную» работу. Шестилетняя Маня прибегает с улицы: «Мама, у нас есть деньги? Там вишню дают, я очередь заняла». Она уже мне подспорье: и инициативу и предусмотрительность проявила – очередь заняла, и о деньгах подумала, и о том, что вишни – это общее удовольствие, и меня от стояния в очереди освободила.
Четырнадцатилетний сын всерьез увлекается техникой и с удовольствием взбивает миксером яйца для торта, который тринадцатилетняя Настя печет по книжке. Ничего необыкновенного – мы так живем всегда, заботы общие, я даже не делюсь этими заботами с ребятами, а мы делаем одно дело, вот и все.
О пятом – болезнях – я говорить не буду, так как об этом говорится в 90 % писем и статей. Когда-то я сделала едва не ставшую трагической попытку отдать годовалого сына в ясли, он проходил два полдня, а ночью вызвали «скорую». Тогда я и решила: «Лучше я буду сидеть со здоровым, чем с больным». Все мамы сидят время от времени с больным малышом, и все знают, что с ним труднее: и жалко его, и капризничает-то он, и плачет, и не ест, и не спит – намучаешься. И у меня дети, конечно, болеют, но все же не так часто, хотя есть и свои трудности – болеют оптом.
Что касается «полноценного» воспитания в детских садах, даваемого профессиональными воспитателями, то сводится оно к рисованию картинок, заучиванию жутких по художественным достоинствам стишков и абсолютному отсутствию реакции на слова взрослого человека. Последнее естественно: если ребенок и может сохранить душевное здоровье в той жизни, которой он живет до школы, то только постоянным сопротивлением среде. Когда старший сын пошел в школу, он был поражен: «Мама, учительница сказала, что надо после звонка встать возле своей парты, почему же они все бегают и кричат?» А потому, что, с одной стороны, ребенок привык пропускать слова взрослого мимо ушей, а с другой стороны, привык слушаться окрика.
Может быть, давайте теперь признаемся себе – детский сад плохо в принципе, и никакие повышения зарплат проблему целиком не решат. Так что ж, не отдавать туда своих детей? Да, не отдавать, если есть хоть малейшая возможность оставить ребенка дома, в семье. Надо, мне кажется, создавать такое общественное мнение: детский сад – крайний случай. Крайний! А сейчас бытует совершенно другой взгляд: детский сад – норма, притом обязательная, там ребенку хорошо. Меня, бывает, спрашивают, не отстают ли мои дети в развитии, ведь они не посещают сад. Этот взгляд – мол, рожать в роддоме, а воспитывать в саду – отражен даже в розово-голубом фильме «Однажды 20 лет спустя». Уж там и мать – идеал, и дети в сад ходят, значит, так и должно быть. Но ведь она не работает! Почему же тогда отдавать куда-то малышей?! Зачем?! А ни зачем – все отдают.
Обычная ситуация: в семье второй ребенок, мать полтора года дома, а старший – в саду. «Но мне будет трудно с двумя!» У меня – пятеро, из которых никто и никогда не ходил в детсад, причем ни бабушек, ни тем более нянь у нас сроду не было, так что я, мне кажется, имею право сказать: не очень трудно, гораздо легче, чем с одним, а если и чуть труднее, то не человечнее ли взять эту трудность на себя, а не спихнуть ее на старшего ребенка – но ведь маленького же! Напротив меня, через площадку, живет тоже семья, где пятеро малышей, и тоже никто в сад не ходит, а оба родителя работают, и бабушек нет, они выкручиваются по-другому – работают в разные смены, зато помощников у них, как и у меня, – пятеро.
В группе 30 человек – по крайней мере 10 из них могли бы не ходить в сад. Так оставшимся было бы легче, и воспитателю было бы легче, пусть проблема и не решилась бы полностью, но все же хоть остроту потеряла, к тому же без дополнительных затрат. Женщина меняет профессию и идет воспитателем в сад, чтоб туда взяли ее ребенка, – какой-то странный, фантастически нелепый выход из положения. Все равно меняет профессию, так не лучше ли сменить ее на такую, чтоб быть самой весь день со своим личным ребенком, а работать, например, вечером, когда муж приходит с работы? Или утром, как моя соседка, пока муж еще не ушел? Или надомно, или по договору, или еще как-то. Мне постоянно твердят: «Как вам трудно!», так у меня всего-то пятеро и своих, а у воспитателя 30 и чужих! Хоть тысячу рублей в месяц заплати – материнского тепла дети недополучат. Да еще если свой среди этих 30 – это вообще безнравственно: приласкать его чуть больше на глазах у неласканных – плохо, а не приласкать, отпихнуть, как чужого, – за что?
И первое, и второе, и пятое – это все минусы, а плюс у детского сада один – мама спокойно работает, пока дитя то ли работает, то ли отдыхает, то ли воспитывается, то ли наблюдается, в общем, живет-поживает.
Но так ли уж спокойно работают все мамы, «сдавшие детей», по какой графе подсчитаем их раздражение, срываемое на коллегах по КБ и клиентах прачечных, пассажирах автобусов и соратниках-соседях по стоянию в очередях?
Альтернатива, которую я вижу нынешнему детскому саду, – семья: мама, папа, братья и сестры, занимающиеся общим делом – воспитанием друг друга, связанные крепче крепкого общей жизнью, общей работой, общей любовью.