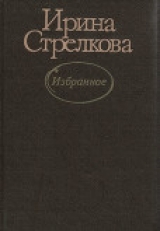
Текст книги "Такие пироги"
Автор книги: Ирина Стрелкова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Ирина Стрелкова
Такие пироги
Как-то утром Алексей Александрович услышал за окном легкое приятельское постукивание. По крытому железом подоконью скакала и тюкала клювом чистенькая синичка, заглядывала в комнату черными бусинками глаз. Алексей Александрович шевельнулся и спугнул синичку. Ничего, опять прилетит. Он пошел на кухню, отрезал кусочек мяса, отворил окошко и привязал мясо бечевкой к кольцу. У него там специально было прилажено кольцо для такой надобности. Как и большинство москвичей, Алексей Александрович не уважал разжиревших голубей, сочувствовал чумазым воробьям и каждую осень заботился привадить к своему окошку синиц. К синицам он испытывал суеверные чувства и потерял бы покой, если бы они перестали к нему летать.
Появление первой синички означало, что в Москве глубокая осень, Алексею Александровичу пора в привычную дорогу. В тот же день он поехал на Савеловский вокзал. Старый его приятель Савелий в отличие от других московских вокзалов не рос ни вширь, ни вверх, ни вглубь. Зеленое с белым здание классической железнодорожной постройки с каждым годом мельчало и приплющивалось к земле, Савелию худо жилось между домами-башнями и многоярусной ревущей эстакадой, и казалось, что он в конце концов вовсе уйдет под асфальт, в исторические слои Москвы.
В кассовом зале, тесном и неуютном, Алексей Александрович увидел длинную терпеливую очередь на сегодняшние поезда. Женщины в платочках с золотой искрой и мужчины в основательных костюмах не суетились, не склочничали, не пытались пролезть наперед других. Северная глубинка за день крепко уработалась в очередях за дефицитом, на вокзале она отдыхала и чувствовала себя уже дома, а не в бегущей как на пожар нервной Москве. Разговор шел о покупках, без брюзжания на торговлю, с деревенской похвальбой – у каждого и деньги есть, и дом полная чаша, а если чего нету – долго ли съездить в Москву.
У кассы предварительной продажи очередь всего в несколько человек разобщенно помалкивала, поглядывала на часы. «Тоже поди провинциалы, а хотят выглядеть москвичами», – решил Алексей Александрович. Его почему-то раздражали все стоявшие впереди. Наконец он добрался до окошечка и потребовал вагон непременно купированный и место непременно нижнее. Кассирша посчитала его запросы личным для себя оскорблением, однако разглядела, кто перед ней, и решила не связываться. Швырнула ему билет и по-дамски фыркнула. Нижнее или верхнее – все равно поезд задрипанный, ночной, почтовый, с остановками на каждом разъезде. Но другие поезда – повыше рангом – не ходили в ту сторону, где Алексей Александрович родился и рос.
Дома – едва он взялся за чемоданы – начались обычные разговоры.
– Я бы на твоем месте поехал только на машине, – посоветовал сын. – Хочешь, я возьму два дня за свой счет и сам тебя отвезу, для чего, в конце концов, своя машина! – Сын хотел этим сказать, что всегда готов отблагодарить отца за подаренные «Жигули», однако настаивать на своих услугах не собирался. Он знал, что Алексей Александрович все равно поступит по-своему, поедет в родную глухомань непременно с Савеловского, идиотским ночным поездом.
Жена относилась к осенним поездкам Алексея Александровича далеко не так равнодушно, как сын.
– Опять Савеловский! Опять ночью! Там и днем не найдешь носильщика! – Несмотря на все неудобства, жена горит желанием поехать с Алексеем Александровичем в его родной город. Получив категорический отказ, она ходит с видом смертельно обиженной и несчастной, что ей, впрочем, не мешает предлагать свою помощь в укладке чемоданов. Однако Алексей Александрович всегда укладывается в эту поездку сам, запершись на ключ в кабинете. Жене остается неизвестным, чем он набивает два чемодана из превосходной черной кожи. Она готова заподозрить бог весть что, ее небогатая фантазия рисует какую-то прежнюю любовь или позднюю страсть к сдобной провинциалке. Жена молчит и дуется, ссора назревает и наконец прорывается в тот момент, когда чемоданы вынесены в прихожую.
– Я провожу! – жена самоотверженно хватается за один из чемоданов и не может оторвать от пола.
– Ни в коем случае! – Алексей Александрович снимает с вешалки кожаное пальто, нахлобучивает финскую кепку с наушниками и берется за чемоданы. Жена закатывает истерику, он выносит чемоданы к лифту и захлопывает дверь, толсто обитую дерматином, выстеганным, как ватное одеяло. Внизу его ждет заказанное такси.
Савелий залит мертвенным зеленым светом. Столичная публика течет направо, к автоматическим кассам и пригородным электричкам. Алексей Александрович, согнувшись под тяжестью чемоданов, бредет, тормозя поток глубинки, вечно боящейся опоздать на поезд. Его обгоняют с обеих сторон. Только обремененные огромными рюкзаками пассажиры в болотных сапогах и непромокаемых куртках движутся, как и он, не спеша. Увы, путешествие к истокам сделалось за последнее время повальной модой. Алексей Александрович неприязненно косится на раздутые рюкзаки, прорисованные округлостями консервных банок, на удочки и ружья, зачехленные в брезент. У него нет ничего общего с искателями простоты и тишины, его возмущают их зеленые болотные доспехи и неопрятные рюкзаки. Все это ненатурально, напоказ, без должного уважения к своим родным деревням, к отцам и дедам, не имевшим возможности покупать и носить приличную одежду. Сам Алексей Александрович не позволил бы себе одеться в эту поездку иначе хоть на йоту, чем он одевался в Москве.
Купированный вагон снаружи ничем не отличается от других вагонов. Те же изношенные стенки, те же на окнах полосы грязи от давно прошедших дождей. Только посадка тут не заполошная, вполне чинная. Проводница даже помогает Алексею Александровичу впихнуть на площадку чемоданы.
– Господи! – удивляется она. – Что у вас там?
– Книги! – отвечает он, ставя ногу на ступеньку. Это его обычный ответ. На самом деле в одном из чемоданов у него валюта, сотни и тысячи в денежных единицах разных стран.
В своем купе Алексей Александрович обнаруживает троих бородачей в болотных доспехах. Сухо здоровается и убирает валютный чемодан под нижнюю полку. Другой чемодан он вдвигает под столик, снимает и вешает на плечики кожаное пальто, цепляет на крючок финскую кепку с ушами. На бородачей Алексей Александрович сразу же произвел самое отрицательное впечатление, как и они на него. Но надо ужиться, и бородачи делают первый шаг.
– Давайте закинем ваш чемоданчик наверх, – и уже тянутся к чемодану под столиком, в порядке услуги пожилому соседу.
– Благодарю, мне удобней, чтобы он стоял здесь, – сухо отвечает Алексей Александрович.
«Ну и тип! – написано на лицах бородачей. – Впрочем, черт с ним». Они лезут в рюкзаки, выставляют на столик батарею темных бутылок, выкладывают замасленные пакеты.
– С нами пивка?
– Благодарю, – Алексей Александрович подкрепляет свой отказ соответствующей мимикой. И конечно, не отодвигается от столика, чтобы дать им посидеть с комфортом. А то они и всю ночь просидят, проболтают. Алексей Александрович достает свою толстую записную книжку, вытаскивает из петельки золотую ручку. Бородачи косят глазами на шикарную ручку, однако им и в голову не придет, что она не позолоченная, а на самом деле золотая, высшей пробы, подарок от человека, для которого это совершенный пустяк, мелочь.
В Москве Алексей Александрович был по горло занят до последнего часа и не успел составить четкое расписание на неделю вперед, а без расписания он жить не привык. Time is money, говорят капиталисты, умеющие делать деньги. Значит, завтра в 12 часов он отправится на кладбище, в 2 часа обед с Анатолием Ивановичем, затем обстоятельная беседа.
Поезд вырвался из московских теснин, потянулись убранные почернелые поля под осенним хмурым небом, северное мелколесье, поселки из одинаковых домиков, новые фермы из сборного железобетона, брошенная в полях техника. Алексей Александрович рассчитал по часам всю следующую неделю, аккуратно завинтил колпачок золотой ручки, спрятал в карман записную книжку. Соседям он, конечно, задал неразрешимую загадку. Кожаное импортное пальто, роскошные чемоданы, добротный костюм, белая рубашка с безукоризненным галстуком. Ломают головы, кто он. Моряк-китобой, едущий на побывку в родимую деревню? Председатель передового колхоза, гостивший за рубежом для обмена опытом? Подпольный миллионер? Алексея Александровича слегка забавляют их недоуменные взгляды. Сам-то он видит соседей насквозь. Интеллигенты в первом поколении, работают в каком-то НИИ, едут в деревню, где у одного из них живет мать, под пиво загрустили об оскудении земли, оплакали гибнущие малые деревеньки. Все давно известно, ничего нового.
С грохотом откидывается дверь купе, давешняя проводница расшвыривает по полкам комплекты запломбированного белья. Отечественный сервис. У нас, слава богу, нет прислуги, у нас каждый на своем месте начальник. Белье серое, дурно пахнет и, разумеется, влажное. Алексей Александрович ни разу не получал в этом ночном поезде сухие простыни. Поэтому он без лишних разговоров отдает проводнице рубль и начинает стелить постель. Бородачи вступают в полемику с проводницей, требуют другое белье.
– Вот народ! – удивляется проводница. – Не хотите, унесу. Одну ночь можно и без постели. – И вместо того чтобы, оставив за собой последнее слово, хлопнуть дверью, она приходит на помощь Алексею Александровичу, неловко запихивающему комкастую грязно-голубую подушку в мокрую наволочку. – До чего безрукие стали мужики! – проводница ловко и аккуратно расстилает простыню, подтыкает под тощий матрац, даже умудряется взбить комкастую подушку. Взяла вот и пожалела скромного человека, а нахалов тем самым поставила на место.
Бородачам подброшена еще одна дежурная тема. Трясут мокрыми простынями и рассуждают о преимуществах западного сервиса. Уж там-то в поездах!.. А в самолетах!.. Алексея Александровича забавляет их осведомленность в том, что подают на завтрак в американских лайнерах и что в японских, какую еду и какие напитки. Принесут даже таблетку от головной боли, а в японском самолете и специальную повязку, если кому-то мешает свет. Все это выкладывается вкусно и с апломбом бывалых путешественников, а ведь собрано по крохам, из вторых рук, из кино, из статей о контрастах капитализма. Ездили бы сами – право, меньше бы знали.
Ночью поезд идет черепашьим шагом, останавливается у каждого столба. Дерматиновая штора сломана и отвисла, фонари засвечивают в окно, блики мокрые и дрожат. По коридору беспрестанно топочут, чемоданы стукаются о стенки и двери. Кому-то сходить в ночь и слякоть, куда-то ехать по российскому бездорожью или маяться до утра на маленькой станции, на жесткой лавке, вспоминая уют и тепло вагона. Какие-то люди с криком бегают вдоль состава. Слышно, что тут нет перрона, под ногами гремит насыпь из гравия. Российская железнодорожная паника. Поезд толкнулся, покатил, в коридоре вагона шаги новых пассажиров, проводница дубасит в двери купе по соседству.
В такой обстановке не уснешь, тем более на сырых простынях, но Алексей Александрович не мается, как при бессоннице, не вертится с боку на бок. Ночной задрипанный почтовый поезд врачует его душу, снимает накопившуюся раздражительность, гонит прочь все мелочное и суетное. Он видит себя студентом, возвращающимся из дома в Москву. От города до станции тридцать километров с гаком, ему повезло, он забрался в кузов попутного грузовика, скорчился за кабиной, укрылся брезентом. На станции он поспал с часок на скамейке, потом пришел поезд, билетов нет и никогда не было, он привычно бегает от вагона к вагону, вот поезд тронулся, теперь надо дать ему разогнаться и тогда уж вскочить на вагонную ступеньку. На ходу не столкнут, повисишь, и пожалеют, пустят в вагон, в благословенное густое тепло, на верхнюю багажную полку, где растянешься и уснешь, положив под голову чемодан, пахнущий мамиными пирожками. Господи, как сладко он спал в молодые годы в этом самом поезде, не поддающемся никаким переменам. А сегодня можно и не поспать, можно полежать, подумать о жизни.
Алексей Александрович отправляется в свою юность, в отчий дом, где честно прожили свой век несколько поколений Кашиных. Каменный домишко в три окошка на улицу. Русские классики в черном от времени книжном шкафу с резными колонками, стулья с высокими спинками, часы с боем, фисгармония. Все вещи в доме прочны и вечны, правила заведены однажды и навсегда, ни о чем не надо просить, а уж тем более напоминать – все делается само собой с полным пониманием привычек и вкусов каждого. Отец Алексея Александровича восторженно преподавал литературу, копировал маслом – и вполне недурно – портреты великих писателей – в подарок друзьям, играл на любительской сцене Сатина и профессора Полежаева. Мама ходила на службу в райпотребсоюз, надевала синие нарукавники, щелкала на счетах. Ее страстью были цветы: пионы и георгины, крупные и яркие, быть может, несколько тяжеловесные, в провинциальном вкусе, но сколько в них чувствовалось живой жизни и земной силы.
В детстве и юности Алексей Александрович не знал, что в семьях могут быть ссоры, обиды, злопамятные счеты. Это он увидел, только когда сам завел семью. А родители прожили всю свою жизнь в полном согласии, никогда и никому не завидовали, верили, что каждому воздается по труду – если не сразу, не сейчас, то потом. «Терпенье и труд все перетрут» – наследственный девиз Кашиных. О скромности в доме даже не говорилось, она присутствовала во всем обиходе. Школьные успехи сына не возбуждали в семье тщеславных проектов. Считалось, что ему самой жизнью уготовано стать таким же тружеником-интеллигентом, как его родители, учителем или врачом.
Мальчишкой он сочинил втайне совсем иное будущее. Когда-нибудь, скажем через двадцать лет, он вернется в свой родной город из героической экспедиции. На площади перед райисполкомом будет греметь духовой оркестр, героя пригласят на трибуну, он непременно настоит, чтобы вместе с ним поднялись и родители, с трибуны будут звучать хвалебные речи, а потом дадут слово ему, и он ответит на все похвалы с изумительной простотой. В мечтах он особо упивался тем, как просто он будет держаться в своем родном городе. Сегодня не произойдет ничего, хотя бы отдаленно похожего на встречу героя из старого кино. Однако если бы родители были живы и ждали его сегодня в своем скромном домишке, они бы убедились в его верности семейному девизу. Все, чего он достиг, достигнуто трудом.
Утром Алексей Александрович освобождает себя от умывания в грязном туалете, брезгливо облачается в несвежую рубашку. Потом он загодя выносит чемоданы в тамбур, как и положено пассажиру, слезающему на крохотной станции. Поезд плетется в плотном тумане, не видать даже придорожных столбов, ступени вагона и поручни усеяны крупными каплями. Холодно. Алексей Александрович поднял воротник кожаного пальто, опустил теплые наушники. На площадку выходит проводница в теплом бушлате и тапочках на босу ногу. Она позевывает, почесывает ногу об ногу, от нее пахнет крепким здоровым телом.
– Не волнуйтесь, – покровительственно говорит она. – Слезете, успеете. Лишь бы встретили.
Закричал впереди гудок, вагоны ударились буферами, из тумана розово проступило здание станции, перед ним три фигуры: железнодорожник в красной фуражке, шофер Саша в куцей курточке и Анатолий Иванович в клетчатом пальтеце и всепогодной шляпчонке, весь нахохленный то ли от сырой погоды, то ли от того, что ему уже известно, каким образом поломалась его командировка в Африку.
– Сроду дальше проезжаем, – удивилась проводница. – Вас, что ли, так встречают?
Алексей Александрович молча улыбается, подбежавший Саша принимает его увесистые чемоданы и помогает сойти на мокрый хрустящий гравий.
Поезд исчез в тумане, УАЗ с красным крестом на ветровом стекле скачет по ухабам в облаке брызг.
– Нам, Алексей Александрович, райкомовские завидуют, – говорит Саша, лихо выкручивая руль. – Они завязнут, а мы прем хоть бы что. – Вездеход УАЗ у больницы появился два года назад, по Сашиным понятиям, уже неприлично напоминать Алексею Александровичу о сделанном им щедром подарке, но в то же время надо, чтобы он знал, как ценится его забота.
Алексей Александрович сидит впереди рядом с Сашей, глядит на дорогу и думает, что вездеход при здешних хлябях, конечно, необходим. Анатолий Иванович нахохлился у него за спиной и молчит. Он хирург божьей милостью, работает смело и с завидной удачей, сегодня он оперирует аппендицит, завтра ему привозят человека с проломленной головой. Ну а послезавтра его вызывает районное начальство и требует отчета по каким-нибудь санитарным мероприятиям. Они тут не понимают, какая цена хирургу Анатолию Ивановичу Сизову. Зато Алексей Александрович понимает. Никаким дальним странам он Анатолия Ивановича не отдаст. Сельские врачи из российской глубинки считаются в Минздраве самыми подходящими кандидатами на работу в развивающиеся страны. И Анатолию Ивановичу хотелось подзаработать, приодеться, купить «Ладу». Алексей Александрович не стал его отговаривать: «А вы подумали, кто вас заменит в районе?» Он просто связался с кем надо, и командировку Анатолия Ивановича Сизова на три года в жаркую Африку отложили на неопределенный срок.
Туман редел, уплывал ввысь, по обе стороны дороги открывались знакомые Алексею Александровичу дали. Могучие медные сосны заповедного леса, именуемого Казенным. Барское поместье, дом с белыми колоннами, старые липы. Здесь теперь сельская восьмилетка с интернатом, а когда-то Липки будто бы принадлежали декабристу, блестящему гвардейскому офицеру, разжалованному и сосланному на Кавказ. Отец Алексея Александровича и в книгах искал и переписывался с историками, но так и не добился причисления владельца Липок к списку героев 14 декабря. По преданию, хранившемуся в семье, разжалованный в солдаты погиб на Кавказе от пули горца, завещав вольную всем своим крепостным. Это завещание будто бы привез в Липки сопровождавший барина в ссылку слуга по фамилии Кашин. Но наследники сожгли бумагу и завладели Липками. Сын того Кашина служил у новых бар камердинером, а его сын уже получил какое-то образование и выбился в конторщики. В семейном архиве Кашиных хранилась карточка на плотном картоне. Крахмальный воротничок, тараканьи усы, пуговичные глаза. Лицо предка не выражало ни ума, ни достоинства, однако с детей этого конторщика начались Кашины-интеллигенты.
После Липок на дороге стали чаще встречаться машины. Пассажиры кургузого автобуса полезли к заляпанным окнам, стали указывать друг другу на УАЗ с красным крестом.
– Они вас узнали, – Саша включил мигалку и обогнал автобус, оттуда улыбались и махали руками, приветствуя Алексея Александровича. В детстве не придумаешь такого возвращения в родные места. Надо прожить долгую жизнь и ощутить вкус настоящей известности, она начинается тогда, когда тебе надо всеми способами от нее защищаться.
Саша знает, какими улицами везти Алексея Александровича по родному городу. Они проезжают по Советской площади, мимо здания райисполкома с железным балконом, с которого в революцию кричали свои речи уездные Мараты, мимо старинных торговых рядов с полукружьями арок, мимо деревянной трибунки, с которой, как всегда, лоскутами сходит краска, наложенная к Первому мая наспех, на сырое дерево. Запущенный вид трибунки умиляет Алексея Александровича. Саша сворачивает на Пушкинскую, получившую свое имя в 1899 году в честь столетия русского гения, о чем успешно хлопотал прадед Алексея Александровича, директор уездного училища. Оно помещалось здесь, на Пушкинской, в здании земской архитектуры из красного кирпича, где теперь средняя школа, в ней Алексей Александрович проучился десять лет, и в ней его отец директорствовал последние годы. Сразу за школой он видит родные три окошка на улицу и палисадник, но вместо маминых праздничных и ярких пионов с георгинами под окошками торчат неприхотливые золотые шары. Ни в один свой приезд Алексей Александрович не заглядывал в этот дом и нынче тоже не зайдет. Нынешний дом его родителей на кладбище.
Больница поставлена была сто лет назад очень красиво, на пригорок. К ней ведет аллея старых берез. По установленному Алексеем Александровичем правилу ему не устраивают парадной встречи. Две дородные санитарки подхватили его увесистые чемоданы, играючи понесли наверх в одноместную палату, узкую комнату-келью с белеными стенами и единственным окошком в глубоком проеме, показывающем метровую толщину стены. Здесь стоит железная больничная койка старого образца, белая тумбочка деревенской работы, такой же стол с одним выдвижным ящиком и деревянный умывальник с фаянсовой чашей в синих старинных цветочках. Несколько лет назад рядом с этим старым зданием земской больницы был построен хлопотами Алексея Александровича новый корпус со всеми современными удобствами, но он по-прежнему приезжает в эту палату.
Его оставляют одного, он подходит к окну с массивными рамами, любуется больничным парком, вековыми дубами, посаженными еще первым Глаголевым. Какие люди были! Жили обыкновенно, провинциально, а действовали, памятуя истово о будущем, не имели привычки торопиться с итогами своих трудов и потому сажали не быстрорастущие тополя, как делают нынешние озеленители, а выбирали долговечные благородные породы деревьев, дуб, березу, липу. Мы уйдем, а труды наши останутся. Этим жили несколько поколений русских медиков Глаголевых. Одного из них Алексей Александрович часто видел в отчем доме. Сначала за окнами слышался густой бас, что-то из оперного репертуара или классический романс, затем доносилось постукивание трости, известной всему городу, тяжелой и суковатой, свет заслоняла крупная фигура в просторной одежде, в разбойничьей широкополой шляпе на седых буйных кудрях. Глаголев тростью ударял в ставень, извещая о своем приходе. Алексею Александровичу было лет четырнадцать, когда отец однажды послал его к Глаголеву за нотами: готовился какой-то спектакль, в те времена вся городская интеллигенция музицировала и играла на любительской сцене. Он прибежал в дом главного врача за больничной оградой, Глаголев провел его в кабинет, обставленный темной старинной мебелью, увешанный старыми фотографиями, среди которых он сразу заметил в старой рамке новую, светлее других. Офицер в погонах военного врача сфотографировался возле палатки. Он и был последним в роду Глаголевых, а старый Глаголев, которого знавал Алексей Александрович, был в их славном роду предпоследним. Снимок, поразивший тогда мальчишку и, быть может, определивший его жизнь, сейчас хранится в больничном музее. Военврач Глаголев погиб при бомбежке госпиталя.
Легкий стук в дверь – Алексея Александровича извещают, что истоплена больничная банька. Он шествует со сверточком через больничный двор к почернелому от времени, вросшему в землю срубу. Потом, смыв с себя дорожную усталость, с влажными волосами, с банными морщинами на побелевших кончиках пальцев он завтракает у себя в палате. Овсянка, яйцо всмятку, чай с молоком. И вновь легкий стук в дверь. Принесли цветы, поздние бледно-лиловые астры. Все его правила здесь известны и все для него делается само собой, как прежде в родительском доме и как никогда не делается в Москве, где все устраивают напоказ, чтобы он видел и ценил.
Ровно в двенадцать Алексей Александрович выходит из больницы, с букетом бледно-лиловых астр. В дальнем углу больничного, спускающегося под гору парка есть калитка и ветхий деревянный мостик через овраг. Тропка огибает бетонный забор новой птицефабрики и выводит к заброшенной церквушке. На облупленной церковной стене Алексей Александрович обнаруживает нечто новое. Чья-то рука вывела красной краской крест и слова: «Спаси и сохрани». На кладбище все по-прежнему, к осени лопухи достигли гигантского роста и походят на заморские экзотические заросли. Пробираясь меж крестов и сварных пирамидок, Алексей Александрович привычно отмечает знакомые имена и фамилии. Его родители и здесь окружены друзьями.
Мама и отец умерли в одночасье. У отца начался сердечный приступ, мама позвонила по телефону в больницу. Врач выехал без промедления, но ему никто не открыл, пришлось будить соседей и взламывать дверь. Алексею Александровичу рассказывали, что маму нашли лежащей в коридорчике, где телефон. Она успела позвонить в больницу и упала мертвой. Отец умер в постели, в ногах у него нашли грелку, еще теплую. Значит, мама сначала приготовила грелку, а потом пошла к телефону. Весь город говорил, какой прекрасный конец судьба подарила Кашиным. Умерли как жили – душа в душу. За год до смерти родителей Алексей Александрович приезжал к ним с твердым намерением забрать их в Москву, но они заявили, что никуда не поедут, и оказались правы – лежат теперь в родной земле.
Алексей Александрович заходит в ограду, кладет цветы на двойную могилу. Холмик обложен дерном, в головах – куст сирени, вдоль ограды георгины, мамина память. И врыта в землю скамеечка. Несколько лет после смерти родителей Алексей Александрович не наведывался в родной город, каждый год собирался, но не отпускали дела. Потом он вдруг спохватился, заспешил, но застал на кладбище все уже устроенным чьими-то руками. Сначала ему захотелось поставить родителям дорогой памятник, договориться с хорошим скульптором, ведь есть возможность, есть деньги. Нехорошо оставлять тут дешевенькую плиту из местного камня, обработанного грубо и некрасиво. Но Алексей Александрович побоялся тревожить тихую могилу.
Он опускается на скамью, произносит негромко и явственно:
– Это я, пришел с вами поговорить. – И действительно начинает говорить с мамой и отцом так, словно бы они не лежат глубоко под землей, а глядят на него из выси, откуда им видно все, чего он добился. И его Кашинка, и триумфальные поездки по всему миру с «операцией Кашина», и многое другое, чем они могут гордиться. Ощущая их близкое присутствие и внимание, Алексей Александрович говорит долго, выговаривается до конца, в чем-то кается… Мерно звучит в кладбищенской тишине его негромкий голос. Он, конечно, вспоминает и о прошлом, о детстве, но немного, потому что о том было говорено с ними вживе, а здесь надо сказать о новом, недавнем, чем еще не делился, что накопилось за год. С кладбища он уходит с просветленным лицом, у него словно бы прибавилось сил для того дела, ради которого он ездит каждый год в родной город.
Ровно в два Алексей Александрович обедает с Анатолием Ивановичем в кабинете главного врача на втором этаже нового корпуса. Обед больничный – перловый супчик, котлета, компот из сушеных яблок. За таким меню хозяину не приходится потчевать, а гостю хвалить. Обед проходит в молчании. Одна из стен кабинета служит больничным музеем. Фотографии Глаголевых, врачебные дипломы, стетоскопы, потрепанный кожаный саквояж, суковатая трость, памятная Алексею Александровичу фотография военврача, фронтовая медаль, старинные врачебные справочники, книжка Чехова с дарственной надписью, медаль в память войны 1853–1856 годов, полученная первым Глаголевым…
Анатолий Иванович перед самым обедом получил письмо от однокашника по медицинскому институту, не стал его распечатывать, заведомо зная, что там написано, и поспешил убрать в сейф. У него и без этого неприятного письма настроение прескверное. Минздрав темнит, командировка в Африку отложена, и причина тут может быть только одна – вмешательство Алексея Александровича Кашина, открывающего ногой все высокие двери. Кто ему дал право распоряжаться судьбой другого человека? Надо объясниться напрямую, но сейчас не время, Анатолию Ивановичу прекрасно известно, что произойдет сейчас и сделает невозможным полное выяснение истины.
Санитарка уносит поднос с посудой и возвращается торжественно с одним из чемоданов Алексея Александровича, с тем самым, который он в вагоне упрятывал под свою полку. Чемодан водружается на письменный стол, Алексей Александрович достает из кармана блестящий ключик, прицеливается к чемоданному замочку. Анатолий Иванович нервно облизывает губы. Столько раз виденный, знакомый до последней мелочи спектакль, а равнодушно глядеть нельзя. Алексей Александрович не торопится, напряжение растет. Он вспомнил, что сначала надо расстегнуть ремни, один, другой… Наконец ключик вставлен в замок, легонечко прокручен. Теперь другой замок. Алексей Александрович прячет ключик в карман и взглядывает на Анатолия Ивановича, до какого напряжения он доведен. Посеревшее от волнения лицо Анатолия Ивановича начинает дергаться. Алексей Александрович этим чрезвычайно доволен, он широким жестом опускает свои большие белые руки на замки чемодана, одновременно выщелкивает замки и эффектно откидывает крышку.
Вот она, его валюта, доллары, фунты, марки, иены. Его поездки за границу, его известность, его воловий труд в операционной. Чемодан набит заграничными броскими упаковками. Дорогие лекарства, инструменты, приборы… Алексей Александрович подсучивает крахмальные манжеты и начинает выставлять на стол коробки и коробочки, поясняя их назначение.
В завершение из чемодана извлекаются простенькие футляры, оклеенные дерматином. У Алексея Александровича есть в Москве мастер-виртуоз, они вместе создают уникальные инструменты.
– Вот эта штучка, – Алексей Александрович раскрывает один из футляров, – есть пока только у меня и теперь, значит, у вас.
Анатолий Иванович со священным трепетом разглядывает нехитрую на вид «штучку». Все обиды забыты, он счастлив, он влюблен в Алексея Александровича, как мальчишка. Кидается к письменному столу, выгребает из ящиков свои записи.
– На «операцию Кашина» у нас только один, – Анатолий Иванович подает Алексею Александровичу историю болезни, рентгеновские снимки. – Тракторист. Лежит у нас с весны.
– Вот вы и сделаете операцию, – объявляет Алексей Александрович. – И не спорьте, прекрасно справитесь. Я буду у вас ассистентом. – Анатолий Иванович пытается что-то возразить, но Кашин и слышать не хочет. – Вы же знаете! Не первый раз нам вместе работать. Здесь я такой же сельский хирург, как и вы. Наше дело такое, кого привезут, мы, сельские хирурги, должны уметь все.
Ради этого Алексей Александрович и ездит в родной город каждую осень, никому в Москве не признаваясь, чем он занимается ненастными днями в своем заповедном краю. А он тут не рыбачит, не охотится, не философствует за бутылкой о гибнущих малых деревеньках и неубранных льнах, сгорающих мгновенно от одной спички. Он тут работает, оперирует. Все подряд. Аппендицит, прободение язвы желудка, черепная травма. И никакого барства, премьерства. Он и Анатолий Иванович – хирурги равной величины, в чем-то Анатолий Иванович даже повыше. После операции – крепкий чай, долгий разговор о медицине, о жизни, обо всем. В свободное время Алексей Александрович навещает уютных старичков, обитающих в уютных мещанских домиках, его угощают домашними пирогами и вареньем, вспоминают маму и отца. Несмотря на ненастье, Алексей Александрович обзавелся здоровым деревенским загаром, несмотря на напряженную работу, чувствует себя отдохнувшим. По больничному парку и городским улицам он прогуливается с самодельной суковатой тростью, сшибает репьи, ворошит палую листву, с наслаждением вдыхая запах прели, иной раз сидит подолгу на скамейке в парке, опустив голову на трость, словно бы выслушивает стетоскопом осеннюю отдыхающую землю.








