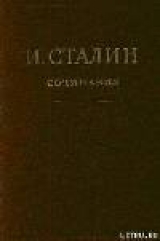
Текст книги "Том 16"
Автор книги: Иосиф Сталин (Джугашвили)
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
Я не торопился с ответом, так как поставленные Вами вопросы не считаю срочными. Тем более, что есть другие вопросы, имеющие срочный характер, которые, естественно, отвлекают внимание в сторону от Вашего письма.
Отвечаю по пунктам.
По пункту первому.
В “Замечаниях” имеется известное положение о том, что общество не бессильно перед лицом законов науки, что люди могут, познав экономические законы, использовать их в интересах общества. Вы утверждаете, что это положение не может быть распространено на другие формации общества, что оно может иметь силу лишь при социализме и коммунизме, что стихийный характер экономических процессов, например, при капитализме не дает обществу возможности использовать экономические законы в интересах общества.
Это неверно. В эпоху буржуазной революции, например, во Франции буржуазия использовала против феодализма известный закон об обязательном соответствии производственных отношений характеру производительных сил, низвергла феодальные производственные отношения, создала новые, буржуазные производственные отношения и привела эти производственные отношения в соответствие с характером производительных сил, выросших в недрах феодального строя. Буржуазия сделала это не в силу особых своих способностей, а потому, что она кровно была заинтересована в этом. Феодалы сопротивлялись этому делу не в силу своей тупости, а потому, что они кровно были заинтересованы помешать осуществлению этого закона.
То же самое надо сказать о социалистической революции в нашей стране. Рабочий класс использовал закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил, ниспроверг буржуазные производственные отношения, создал новые, социалистические производственные отношения и привел их в соответствие с характером производительных сил. Он мог это сделать не в силу особых своих способностей, а потому, что он кровно был заинтересован в этом деле. Буржуазия, которая из передовой силы на заре буржуазной революции успела уже превратиться в контрреволюционную силу, всячески сопротивлялась проведению этого закона в жизнь, сопротивлялась не в силу своей неорганизованности и не потому, что стихийный характер экономических процессов толкал ее на сопротивление, а главным образом потому, что она была кровно заинтересована против проведения этого закона в жизнь.
Следовательно:
1. Использование экономических процессов, экономических законов в интересах общества происходит в той или иной мере не только при социализме и коммунизме, но и при других формациях;
2. Использование экономических законов всегда и везде при классовом обществе имеет классовую подоплеку, причем знаменосцем использования экономических законов в интересах общества всегда и везде является передовой класс, тогда как отживающие классы сопротивляются этому делу.
Разница в этом деле между пролетариатом, с одной стороны, и другими классами, когда-либо совершившими на протяжении истории перевороты в производственных отношениях, с другой стороны, состоит в том, что классовые интересы пролетариата сливаются с интересами подавляющего большинства общества, ибо революция пролетариата означает не уничтожение той или иной формы эксплуатации, а уничтожение всякой эксплуатации, тогда как революции других классов, уничтожая лишь ту или иную форму эксплуатации, ограничивались рамками их узкоклассовых интересов, находящихся в противоречии с интересами большинства общества.
В “Замечаниях” говорится о классовой подоплеке дела использования экономических законов в интересах общества. Там сказано, что “в отличие от законов естествознания, где открытие и применение нового закона проходит более или менее гладко, в экономической области открытие и применение нового закона, задевающего интересы отживающих сил общества, встречают сильнейшее сопротивление со стороны этих сил”. Однако Вы не обратили на это внимания.
По пункту второму.
Вы утверждаете, что полное соответствие производственных отношений характеру производительных сил может быть достигнуто лишь при социализме и коммунизме, а при других формациях может быть осуществлено лишь неполное соответствие.
Это неверно. В эпоху после буржуазной революции, когда буржуазия разрушила феодальные производственные отношения и установила буржуазные производственные отношения, безусловно были периоды, когда буржуазные производственные отношения полностью соответствовали характеру производительных сил. В противном случае капитализм не мог бы развиться с такой быстротой, с какой он развивался после буржуазной революции.
Далее, нельзя понимать в абсолютном смысле слова “полное соответствие”. Их нельзя понимать так, что будто бы при социализме не существует никакого отставания производственных отношений от роста производительных сил. Производительные силы являются наиболее подвижными и революционными силами производства. Они бесспорно идут впереди производственных отношений и при социализме. Производственные отношения спустя лишь некоторое время преобразуются применительно к характеру производительных сил.
Как же в таком случае следует понимать слова “полное соответствие”? Их следует понимать так, что при социализме дело обычно не доходит до конфликта между производственными отношениями и производительными силами, что общество имеет возможность своевременно привести в соответствие отстающие производственные отношения с характером производительных сил. Социалистическое общество имеет возможность сделать это, потому что оно не имеет в своем составе отживающих классов, могущих организовать сопротивление. Конечно, и при социализме будут отстающие инертные силы, не понимающие необходимости изменения в производственных отношениях, но их, конечно, нетрудно будет преодолеть, не доводя дело до конфликта.
По пункту третьему.
Из Ваших рассуждений вытекает, что средства производства и прежде всего орудия производства, производимые нашими национализированными предприятиями, Вы рассматриваете как товар.
Можно ли рассматривать средства производства при нашем социалистическом строе, как товар? По-моему, никак нельзя.
Товар есть такой продукт производства, который продается любому покупателю, причем при продаже товара товаровладелец теряет право собственности на него, а покупатель становится собственником товара, который может перепродать, заложить, сгноить его. Подходят ли средства производства под такое определение? Ясно, что не подходят. Во-первых, средства производства “продаются” не всякому покупателю, они не “продаются” даже колхозам, они только распределяются государством среди своих предприятий. Во-вторых, владелец средств производства – государство при передаче их тому или иному предприятию ни в какой мере не теряет права собственности на средства производства, а наоборот, полностью сохраняет его. В-третьих, директора предприятий, получившие от государства средства производства, не только не становятся их собственниками, а наоборот, утверждаются, как уполномоченные советского государства по использованию средств производства, согласно планов, преподанных государством.
Как видно, средства производства при нашем строе никак нельзя подвести под категорию товаров.
Почему же в таком случае говорят о стоимости средств производства, об их себестоимости, об их цене и т. п.?
По двум причинам.
Во-первых, это необходимо для калькуляции, для расчетов, для определения доходности и убыточности предприятий, для проверки и контроля предприятий. Но это всего лишь формальная сторона дела.
Во-вторых, это необходимо для того, чтобы в интересах внешней торговли осуществлять дело продажи средств производства иностранным государствам. Здесь, в области внешней торговли, но только в этой области, наши средства производства действительно являются товарами и они действительно продаются (без кавычек).
Выходит таким образом, что в области внешнеторгового оборота средства производства, производимые нашими предприятиями, сохраняют свойства товаров как по существу, так и формально, тогда как в области экономического оборота внутри страны средства производства теряют свойства товаров, перестают быть товарами и выходят за пределы сферы действия закона стоимости, сохраняя лишь внешнюю оболочку товаров (калькуляция и пр.).
Чем объяснить это своеобразие?
Дело в том, что в наших социалистических условиях экономическое развитие происходит не в порядке переворотов, а в порядке постепенных изменений, когда старое не просто отменяется начисто, а меняет свою природу применительно к новому, сохраняя лишь свою форму, а новое не просто уничтожает старое, а проникает в старое, меняет его природу, его функции, не ломая его форму, а используя ее для развития нового. Так обстоит дело не только с товарами, но и с деньгами в нашем экономическом обороте, так же как и с банками, которые, теряя свои старые функции и приобретая новые, сохраняют старую форму, используемую социалистическим строем.
Если подойти к делу с точки зрения формальной, с точки зрения процессов, происходящих по поверхности явлений, можно прийти к неправильному выводу о том, что категории капитализма сохраняют будто бы силу в нашей экономике. Если же подойти к делу с марксистским анализом, делающим строгое различие между содержанием экономического процесса и его формой, между глубинными процессами развития и поверхностными явлениями, – то можно прийти к единственно правильному выводу о том, что от старых категорий капитализма сохранилась у нас главным образом форма, внешний облик, по существу же они изменились у нас коренным образом применительно к потребностям развития социалистического народного хозяйства.
По пункту четвертому.
Вы утверждаете, что закон стоимости оказывает регулирующее воздействие на цены “средств производства”, изготовляемых в сельском хозяйстве и сдаваемых государству по заготовительным ценам. Вы имеете при этом в виду такие “средства производства”, как сырье, например, хлопок. Вы могли бы добавить к этому также лен, шерсть и прочее сельскохозяйственное сырье.
Следует прежде всего отметить, что в данном случае сельское хозяйство производит не “средства производства”, а одно из средств производства – сырье. Нельзя играть словами “средства производства”. Когда марксисты говорят о производстве средств производства, они имеют в виду прежде всего производство орудий производства, – то, что Маркс называет “механическими средствами труда, совокупность которых можно назвать костной и мускульной системой производства”, составляющей “характерные отличительные признаки определенной эпохи общественного производства”. Ставить на одну доску часть средств производства (сырье) и средства производства, в том числе орудия производства, – значит грешить против марксизма, ибо марксизм исходит из определяющей роли орудий производства в сравнении со всеми другими средствами производства. Всякому известно, что сырье само по себе не может производить орудий производства, хотя некоторые виды сырья и необходимы, как материал для производства орудий производства, тогда как никакое сырье не может быть произведено без орудий производства.
Далее. Является ли воздействие закона стоимости на цену сырья, производимого в сельском хозяйстве, регулирующим воздействием, как это утверждаете Вы, товарищ Ноткин? Оно было бы регулирующим, если бы у нас существовала “свободная” игра цен на сельскохозяйственное сырье, если бы у нас действовал закон конкуренции и анархии производства, если бы у нас не было планового хозяйства, если бы производство сырья не регулировалось планом. Но так как все эти “если” отсутствуют в системе нашего народного хозяйства, то воздействие закона стоимости на цену сельскохозяйственного сырья никак не может быть регулирующим. Во-первых, цены у нас на сельскохозяйственное сырье твердые, установленные планом, а не “свободные”. Во-вторых, размеры производства сельскохозяйственного сырья определяются не стихией и не какими-либо случайными элементами, а планом. В-третьих, орудия производства, необходимые для производства сельскохозяйственного сырья, сосредоточены не в руках отдельных лиц, или групп лиц, а в руках государства. Что же остается после этого от регулирующей роли закона стоимости? Выходит, что сам закон стоимости регулируется указанными выше фактами, свойственными социалистическому производству.
Следовательно, нельзя отрицать того, что закон стоимости воздействует на образование цен сельскохозяйственного сырья, что он является одним из факторов этого дела. Но тем более нельзя отрицать и того, что это воздействие не является и не может быть регулирующим.
По пункту пятому.
Говоря о рентабельности социалистического народного хозяйства, я возражал в своих “Замечаниях” некоторым товарищам, которые утверждают, что поскольку наше плановое народное хозяйство не дает большого предпочтения рентабельным предприятиям и допускает существование наряду с этими предприятиями также и нерентабельных предприятий, – оно убивает будто бы самый принцип рентабельности в хозяйстве. В “Замечаниях” сказано, что рентабельность с точки зрения отдельных предприятий и отраслей производства не идет ни в какое сравнение с той высшей рентабельностью, которую дает нам социалистическое производство, избавляя нас от кризисов перепроизводства и обеспечивая нам непрерывный рост производства.
Но было бы неправильно делать из этого вывод, что рентабельность отдельных предприятий и отраслей производства не имеет особой ценности и не заслуживает того, чтобы обратить на нее серьезное внимание. Это, конечно, неверно. Рентабельность отдельных предприятий и отраслей производства имеет громадное значение с точки зрения развития нашего производства. Она должна быть учитываема как при планировании строительства, так и при планировании производства. Это – азбука нашей хозяйственной деятельности на нынешнем этапе развития.
По пункту шестому.
Неясно, как нужно понимать Ваши слова, касающиеся капитализма: “расширенное производство в сильно деформированном виде”. Нужно сказать, что таких производств, да еще расширенных, не бывает на свете.
Очевидно, что после того, как мировой рынок раскололся и сфера приложения сил главных капиталистических стран (США, Англия, Франция) к мировым ресурсам стала сокращаться, циклический характер развития капитализма – рост и сокращение производства – должен все же сохраниться. Однако рост производства в этих странах будет происходить на суженной базе, ибо объем производства в этих странах будет сокращаться.
По пункту седьмому.
Общий кризис мировой капиталистической системы начался в период первой мировой войны, особенно в результате отпадения Советского Союза от капиталистической системы. Это был первый этап общего кризиса. В период второй мировой войны развернулся второй этап общего кризиса, особенно после отпадения от капиталистической системы народно-демократических стран в Европе и в Азии. Первый кризис в период первой мировой войны и второй кризис в период второй мировой войны нужно рассматривать не как отдельные, оторванные друг от друга самостоятельные кризисы, а как этапы развития общего кризиса мировой капиталистической системы.
Является ли общий кризис мирового капитализма только политическим или только экономическим кризисом? Ни то, ни другое. Он является общим, то есть всесторонним кризисом мировой системы капитализма, охватывающим как экономику, так и политику. При этом понятно, что в основе его лежит все более усиливающееся разложение мировой экономической системы капитализма, с одной стороны, и растущая экономическая мощь отпавших от капитализма стран – СССР, Китая и других народно-демократических стран, с другой стороны.
И. СТАЛИН
21 апреля 1952 года.
Правда. 3 октября 1952 года.
Об ошибках товарища Ярошенко Л.ДЧленам Политбюро ЦК ВКП(б) недавно было разослано товарищем Ярошенко письмо от 20 марта сего года по ряду экономических вопросов, обсуждавшихся на известной ноябрьской дискуссии, В письме имеется жалоба его автора на то, что в основных обобщающих документах по дискуссии, так же как и в “Замечаниях” товарища Сталина, “не нашла никакого отражения точка зрения” товарища Ярошенко. В записке имеется кроме того предложение товарища Ярошенко о том, чтобы разрешить ему составить “Политическую экономию социализма” в течение одного года или полутора лет, дав ему для этого двух помощников.
Я думаю, что придется рассмотреть по существу как жалобу товарища Ярошенко, так и его предложение. Начнем с жалобы.
Итак, в чем состоит “точка зрения” товарища Ярошенко, которая не получила никакого отражения в названных выше документах?
I. Главная ошибка товарища Ярошенко
Если охарактеризовать точку зрения товарища Ярошенко в двух словах, то следует сказать, что она является немарксистской, – следовательно, глубоко ошибочной.
Главная ошибка товарища Ярошенко состоит в том, что он отходит от марксизма в вопросе о роли производительных сил и производственных отношений в развитии общества, чрезмерно преувеличивает роль производительных сил, также чрезмерно преуменьшает роль производственных отношений и кончает дело тем, что объявляет производственные отношения при социализме частью производительных сил.
Товарищ Ярошенко согласен признать некоторую роль за производственными отношениями в условиях “антагонистических классовых противоречий”, поскольку здесь производственные отношения “противоречат развитию производительных сил”. Но эту роль он ограничивает отрицательной ролью, ролью фактора, тормозящего развитие производительных сил, сковывающего их развитие. Других функций, каких-либо положительных функций производственных отношений товарищ Ярошенко не видит.
Что касается социалистического строя, где уже нет “антагонистических классовых противоречий” и где производственные отношения “больше не противоречат развитию производительных сил”, – то товарищ Ярошенко считает, что здесь какая бы то ни было самостоятельная роль производственных отношений исчезает, производственные отношения перестают быть серьезным фактором развития и они поглощаются производительными силами, как часть целым. При социализме “производственные отношения людей, говорит товарищ Ярошенко, входят в организацию производительных сил, как средство, как момент этой организации” (см. письмо товарища Ярошенко в Политбюро ЦК).
Какова же в таком случае главная задача Политической экономии социализма? Тов. Ярошенко отвечает: “Главная проблема Политической экономии социализма поэтому не в том, чтобы изучать производственные отношения людей социалистического общества, а в том, чтобы разрабатывать и развивать научную теорию организации производительных сил в общественном производстве, теорию планирования развития народного хозяйства” (см. речь товарища Ярошенко на Пленуме дискуссии).
Этим, собственно, и объясняется, что товарищ Ярошенко не интересуется такими экономическими вопросами социалистического строя, как наличие различных форм собственности в нашей экономике, товарное обращение, закон стоимости и проч., считая их второстепенными вопросами, вызывающими лишь схоластические споры. Он прямо заявляет, что в его Политической экономии социализма “споры о роли той или другой категории политической экономии социализма – стоимость, товар, деньги, кредит и др., – принимающие зачастую у нас схоластический характер, заменяются здравыми рассуждениями о рациональной организации производительных сил в общественном производстве, научном обосновании такой организации” (см. речь товарища Ярошенко на Секции Пленума дискуссии).
Следовательно, политическая экономия без экономических проблем.
Товарищ Ярошенко думает, что достаточно наладить “рациональную организацию производительных сил”, чтобы переход от социализма к коммунизму произошел без особых трудностей. Он считает, что этого вполне достаточно для перехода к коммунизму. Он прямо заявляет, что “при социализме основная борьба за построение коммунистического общества сводится к борьбе за правильную организацию производительных сил и рациональное их использование в общественном производстве” (см. речь на Пленуме дискуссии). Товарищ Ярошенко торжественно провозглашает, что “Коммунизм – это высшая научная организация производительных сил в общественном производстве”.
Выходит, оказывается, что существо коммунистического строя исчерпывается “рациональной организацией производительных сил”.
Из всего этого товарищ Ярошенко делает вывод, что не может быть единой Политической экономии для всех общественных формаций, что должны быть две политические экономии: одна – для досоциалистических общественных формаций, предметом которой является изучение производственных отношений людей, другая – для социалистического строя, предметом которой должно являться не изучение производственных, то есть экономических, отношений, а изучение вопросов рациональной организации производительных сил.
Такова точка зрения товарища Ярошенко.
Что можно сказать об этой точке зрения?
Неверно, во-первых, что роль производственных отношений в истории общества ограничивается ролью тормоза, сковывающего развитие производительных сил. Когда марксисты говорят о тормозящей роли производственных отношений, то они имеют в виду не всякие производственные отношения, а только старые производственные отношения, которые уже не соответствуют росту производительных сил и, следовательно, тормозят их развитие. Но кроме старых производственных отношений существуют, как известно, новые производственные отношения, заменяющие собой старые. Можно ли сказать, что роль новых производственных отношений сводится к роли тормоза производительных сил? Нет, нельзя. Наоборот, новые производственные отношения являются той главной и решающей силой, которая собственно и определяет дальнейшее, притом мощное развитие производительных сил и без которых производительные силы обречены на прозябание, как это имеет место в настоящее время в капиталистических странах.
Никто не может отрицать колоссального развития производительных сил нашей советской промышленности в течение пятилеток. Но это развитие не имело бы места, если бы мы не заменили старые, капиталистические производственные отношения в октябре 1917 года новыми социалистическими производственными отношениями. Без этого переворота в производственных, экономических отношениях нашей страны производительные силы прозябали бы у нас так же, как они прозябают теперь в капиталистических странах.
Никто не может отрицать колоссального развития производительных сил нашего сельского хозяйства за последние 20–25 лет. Но это развитие не имело бы места, если бы мы не заменили в тридцатых годах старые производственные капиталистические отношения в деревне, новыми, коллективистическими производственными отношениями. Без этого производственного переворота производительные силы нашего сельского хозяйства прозябали бы так же, как они прозябают теперь в капиталистических странах.
Конечно, новые производственные отношения не могут остаться и не остаются вечно новыми, они – начинают стареть и впадать в противоречие с дальнейшим развитием производительных сил, они начинают терять роль главного двигателя производительных сиди превращаются в их тормоз. Тогда на место таких производственных отношений, ставших уже старыми, появляются новые производственные отношения, роль которых состоит в том, чтобы быть главным двигателем дальнейшего развития производительных сил.
Это своеобразие развития производственных отношений от роли тормоза производительных сил к роли главного их двигателя вперед и от роли главного двигателя к роли тормоза производительных сил, – составляет один из главных элементов марксистской материалистической диалектики. Это знают теперь все приготовишки от марксизма. Этого не знает, оказывается, товарищ Ярошенко.
Неверно, во-вторых, что самостоятельная роль производственных, то есть экономических, отношений исчезает при социализме, что производственные отношения поглощаются производительными силами, что общественное производство при социализме сводится к организации производительных сил. Марксизм рассматривает общественное производство, как целое, имеющее две неразрывные стороны: производительные силы общества (отношения общества к природным силам, в борьбе с которыми оно добывает необходимые материальные блага) и производственные отношения (отношения людей друг к другу в процессе производства). Это – две различные стороны общественного производства, хотя они связаны друг с другом неразрывно. И именно потому, что они являются различными сторонами общественного производства, они могут воздействовать друг на друга. Утверждать, что одна из этих сторон может быть поглощена другой и превращена в ее составную часть, – значит серьезнейшим образом согрешить против марксизма.
Маркс говорит:
“В производстве люди воздействуют не только на природу, но и друг на друга. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только через посредство этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство” (см. “К. Маркс и Ф. Энгельс”, т. V, стр. 429).
Следовательно, общественное производство состоит из двух сторон, которые при всем том, что они неразрывно связаны друг с другом, отражают все же два ряда различных отношений: отношения людей к природе (производительные силы) и отношения людей друг к другу в процессе производства (производственные отношения). Только наличие обеих сторон производства дает нам общественное производство, все равно, идет ли речь о социалистическом строе или о других общественных формациях.
Товарищ Ярошенко, очевидно, не вполне согласен с Марксом. Он считает, что это положение Маркса не применимо к социалистическому строю. Именно поэтому он сводит проблему Политической экономии социализма к задаче рациональной организации производительных сил, отбрасывая прочь производственные, экономические отношения и отрывая от них производительные силы.
Следовательно, вместо марксистской Политической экономии у товарища Ярошенко получается что-то вроде “Всеобщей организационной науки” Богданова.
Таким образом, взяв правильную мысль о том, что производительные силы являются наиболее подвижными и революционными силами производства, товарищ Ярошенко доводит эту мысль до абсурда, до отрицания роли производственных, экономических отношений при социализме, причем вместо полнокровного общественного производства у него получается однобокая и тощая технология производства, – что-то вроде бухаринской “общественно-организационной техники”.
Маркс говорит:
“В общественном производстве своей жизни (то есть в производстве материальных благ, необходимых для жизни людей – И.Ст.) люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания” (см. предисловие “К критике политической экономии”).
Это значит, что каждая общественная формация, в том числе и социалистическое общество, имеет свой экономический базис, состоящий из совокупности производственных отношений людей. Встает вопрос, как обстоит дело у товарища Ярошенко с экономическим базисом социалистического строя? Как известно, товарищ Ярошенко уже ликвидировал производственные отношения при социализме, как более или менее самостоятельную область, включив то малое, чти осталось от них, в состав организации производительных сил. Спрашивается, имеет ли социалистический, строй свой собственный экономический базис? Очевидно, что, поскольку производственные отношения исчезли при социализме, как более или менее самостоятельная сила, социалистический строй остается без своего экономического базиса.
Следовательно, социалистический строй без своего экономического базиса. Получается довольно веселая история…
Возможен ли вообще общественный строй без своего экономического базиса? Товарищ Ярошенко, очевидно, считает, что возможен. Ну, а марксизм считает, что таких общественных строев не бывает на свете.
Неверно, наконец, что коммунизм есть рациональная организация производительных сил, что рациональная организация производительных сил исчерпывает существо коммунистического строя, что стоит рационально организовать производительные силы, чтобы перейти к коммунизму без особых трудностей. В нашей литературе имеется другое определение, другая формула коммунизма, а именно ленинская формула: “Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны”. Товарищу Ярошенко, очевидно, не нравится ленинская формула, и он заменяет ее своей собственной самодельной формулой: “Коммунизм – это высшая научная организация производительных сил в общественном производстве”.
Во-первых, никому не известно, что из себя представляет эта, рекламируемая товарищем Ярошенко, “высшая научная”, или “рациональная” организация производительных сил, каково ее конкретное содержание? Товарищ Ярошенко десятки раз повторяет эту мифическую формулу в своих речах на Пленуме, секциях дискуссии, в своем письме на имя членов Политбюро, но он нигде ни единым словом не пытается разъяснить, как собственно следует понимать “рациональную организацию” производительных сил, которая якобы исчерпывает собой сущность коммунистического строя.
Во-вторых, если уж сделать выбор между двумя формулами, то следует отбросить не ленинскую формулу, являющуюся единственно правильной, а так называемую формулу товарища Ярошенко, явно надуманную и немарксистскую, взятую из богдановского арсенала – “Всеобщей организационной науки”.
Товарищ Ярошенко думает, что стоит добиться рациональной организации производительных сил, чтобы получить изобилие продуктов и перейти к коммунизму, перейти от формулы: “каждому по труду” к формуле: “каждому по потребностям”. Это большое заблуждение, изобличающее полное непонимание законов экономического развития социализма. Товарищ Ярошенко слишком просто, по-детски просто представляет условия перехода от социализма к коммунизму. Товарищ Ярошенко не понимает, что нельзя добиться ни изобилия продуктов, могущего покрыть все потребности общества, ни перехода к формуле “каждому по потребностям”, оставляя в силе такие экономические факты, как колхозно-групповая собственность, товарное обращение и т. п. Товарищ Ярошенко не понимает, что раньше, чем перейти к формуле “каждому по потребностям”, нужно пройти ряд этапов экономического и культурного перевоспитания общества, в течение которых труд из средства только лишь поддержания жизни будет превращен в глазах общества в первую жизненную потребность, а общественная собственность – в незыблемую и неприкосновенную основу существования общества.







