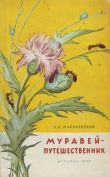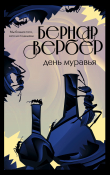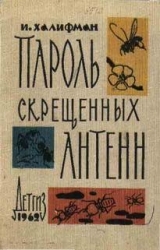
Текст книги "Пароль скрещенных антенн"
Автор книги: Иосиф Халифман
Жанры:
Биология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Мало того, летом муравьи укрывают тлей в специальных сооружениях. Вот молочайник, у которого на середине стебля словно небольшой шарообразный нарост. Нарост этот полый. Он склеен из комочков земли и песка. Внизу оставлено узкое отверстие, которое служит для муравьев ходом. Спустившись по стеблю наземь, муравьи пробираются от молочайника к своему гнезду.
Если вскрыть построенный муравьями шар-нарост, взору представятся гладкие стены маленькой сводчатой землянки, под защитой которой ютится многочисленная колония тлей Афис эуфорбиа.
Землянки, выстраиваемые муравьями для тлей, относятся к числу тех явлений, которые часто остаются незамеченными. Обязательно надо хоть однажды увидеть это сооружение, надо хоть раз самому сделать это маленькое открытие, и тогда обнаружится, что оно даже и не такая уж редкость.
Покрытый песком кусочек травинки совсем невелик и ничем на вид не примечателен... В комочке земли на веточке дерева тоже, сдается, нет ничего особенного. Но если не полениться проследить за всем происходящим вокруг песчаного чехлика или земляного комочка, то вскоре становится понятно, что это не что иное, как «коровники» для тлей.
На подорожнике тля живет с весны под колосоносной частью стебля, а позже переходит под прикорневые листья. Муравьи часто используют листовые пластинки для укрытия тлей. Заземляя края широких листьев, муравьи увеличивают полость под ними, прокладывают к ним ходы извне...
На цикории муравьи сооружают для тлей небольшие песчаные трубки, охватывающие стебель и основание ветвлений.
Для тех тлей, что обитают на стволах деревьев, муравьи возводят своды из растительной трухи и древесной пыли.
Вокруг веток тополя довольно высоко над землей можно видеть склеенные из гнилой древесины полые колечки с отверстиями-ходами.
Стоит разрушить укрытие – и застигнутые врасплох тли пробуют бежать. Но длинные хоботки так глубоко впились в ткань растения, что сразу их не вытащить. Бросившиеся к своим тлям муравьи помогают им изо всех сил, и хоботок натягивается, как струна.
Итак, муравьи обороняют тлю не только от божьей коровки и других хищных видов. Землянки, навесы, сооружаемые над скоплениями тлей,– это тоже защита: защита от прямых лучей солнца, от ливня, от яйцеклада паразитов-наездников. И разумеется, хорошая защита от муравьев других видов.
Если разрушить сооружение, муравьи сразу уносят тлей в гнездо и возвращают их на место лишь после того, как землянка восстановлена.
Во многих отношениях интересны эти строения, но, пожалуй, самое любопытное в них то, что они разные, возводятся не по шаблону. Даже когда такие земляные укрытия для тлей сделаны муравьями одной семьи, рядом, на стеблях одного растения, и то они неодинаковы.
Связи муравьев с тлями не единственные в своем роде. Уже знакомые нам муравьи Экофилла смарагдина кормятся выделениями щитовок, сосущих листья. То же можно видеть у муравьев и гусениц чешуекрылых.
Одну такую недавно прослеженную австралийскими натуралистами и весьма живописную историю о муравьях и бабочке-голубянке стоит пересказать подробнее.
В начале лета самка голубянки откладывает в углубление у основания листового черешка акации десятка полтора-два яиц. Она перелетает затем на другое, на третье, на четвертое место, чтобы отложить яйца и здесь.
В это время сотни муравьев из ближайшего гнезда уже суетятся вокруг свежеотложенных яиц, бегут вверх и вниз по ветке. Они несут в челюстях песчинки и выкладывают из них над яйцами свод, который далее превращают в целое помещение. У входа, закрывая его головой, стоит муравей-страж.
Деревца акации покрываются иной раз сотнями таких сооружений.
Минует положенный срок – и из яиц вылупляются личинки.
По черешку листа сторожа выводят их на прогулку и охраняют, пока те грызут жировые тельца прилистников. К вечеру их гонят с пастбища обратно в землянку, а тех, что сбиваются с дороги, ударами усиков наставляют на верный путь.
Проходит несколько времени – и гусеницы подрастают, но, прежде чем они успевают стать завидной и заметной добычей для насекомоядных, выход из землянки оказывается для них настолько тесен, что они вовсе перестают выходить. Заботу об их кормлении берут на себя муравьи. Они выгрызают с нижней стороны листьев акации самые нежные участки ткани и этот корм доставляют в землянки. Правда, теперь уже муравьи не только кормят гусеничек, но и сами начинают лакомиться их выделениями. Они поглаживают усиками наросты и волоски на теле узниц, и те в ответ выделяют жадно слизываемые муравьями капельки. Вскоре за этими выделениями начинают приходить уже целые вереницы фуражиров. Но тут гусеницы окукливаются и, закутавшись в коконы, засыпают.
Казалось, дальнейшее уже не должно бы представлять интереса для муравьев, но они все-таки продолжают опекать куколок и снимают свою охрану только после того, как из коконов выйдут бабочки.
Подробности сожительства бабочки-голубянки с австралийскими муравьями довольно сходны с теми, которые обнаружены в биологии африканских бабочек того же семейства. Их серые с черными пятнами гусеницы, живущие в наростах на листьях акаций, тоже кормят муравьев сладкими выделениями своих желез.
Открыты и более сложные примеры. Муравьи опекают, например, гусениц некоторых видов бабочек Псекадина, непосредственно от которых ничем не пользуются. Но гусеницы бабочки питаются листьями воробейника: повреждая их, они вызывают «плач растения», а муравьи, не способные сами прокусывать листья, слизывают изливающийся сок...
Во всех изложенных в этой главе историях муравьи так или иначе связаны с разными растениями только через каких-нибудь насекомых, которые на этих растениях кормятся.
Не менее занятные истории открыты и в тех случаях, где посредником между муравьями и питающими их растениями служат грибы. Но с рассказом о них придется повременить.
Крокодиловы слезы, лебединая песнь, муравьиное скопидомство
Еще в начале книги было дано обещание рассмотреть басню о Стрекозе и Муравье. Этот классический сюжет начиная со времен Езопа не раз использован в произведениях баснописцев чуть ли не всех народов мира.
Приходится, однако, в конце концов заметить, что басни, по сути дела, ни за что ни про что ославили муравья, без всякого основания обвинив его в скаредности.
Немало повинен в этом и Иван Андреевич Крылов.
Почему стрекоза названа в знаменитой басне попрыгуньей, которая лето красное все пела? Разве может стрекоза петь? Да и какая она попрыгунья?
Поющая попрыгунья – это, если разобраться, скорее стрекочущий кузнечик.
У Эзопа речь и идет о кузнечике, обратившемся за помощью к муравьям, которые, как сказано в басне, «в ясный зимний день просушивали зерна, собранные летом...».
Муравьи, собирающие летом зерна, действительно существуют. Примером могут служить муравьи-жнецы, о которых дальше рассказывается подробнее. Вполне возможно также, чтобы на юге, а в жаркой Греции и зимой в муравьином гнезде еще имелись запасы зерна, требующего подсушки. Но И. А. Крылов писал не о Греции; в условиях же русской равнины ни о просушивании корма на зиму, ни о зимнем просушивании корма и речи быть не может. Кроме того, муравьи в средних широтах ни растительного, ни животного корма на зиму вообще не запасают, так что и стрекозам, и кузнечикам здесь одинаково нечем поживиться.
Получается, что в природе не существует муравьев, которых можно было бы рассматривать как героев знаменитой басни.
Алчность, скопидомство, расчетливую запасливость муравьев можно, видимо, поставить в один ряд с мрачным карканьем-вещаньем черного ворона, последней лебединой песней или лицемерными крокодиловыми слезами.
Если бы беззаботной хищнице стрекозе или кузнечику имело смысл напрашиваться на иждивение к муравьям, то, во-первых, не на зиму, когда в их гнездах не бывает запасов, и, во-вторых, конечно, не к собирающим зерно муравьям-жнецам. Уж если и идти в гости, то летом – перед дождями, например, на время которых многие южные виды создают запасы корма; и идти, конечно, к муравьям, собирающим мед: он одинаково привлекателен и для вегетарианцев, и для хищников.
В муравейниках, как известно, нет тех ячеистых сотов, из которых состоит пчелиное гнездо, нет здесь и восковых горшков для меда: ни таких, какие имеются у американских пчел мелипон, ни таких, какие строят наши шмели, У муравьев в гнезде вообще не водится никакой посуды для жидкого корма. И однако же мед здесь бывает.
Осторожно разрывая летом муравейники некоторых видов, относящихся к родам Кампонотус или Формика, удается обнаружить хорошо запрятанные, уютные камеры, в которых рядами висят рабочие с нормальной головой и грудью, но чудовищно раздувшимся брюшком. Это живые муравьи.
Зобик, полный сладкого сока растений и сладких выделений тлей и кокцид, так распирает брюшко, что оно становится похоже на зрелую, почти прозрачную, просвечивающую между сегментами ягоду, иногда с крупную смородину величиной.
Сладкий корм, слитый в живой бурдюк, и называют муравьиным медом.
Если скормить семье, имеющей таких муравьев, цветной сироп, то брюшко хранителей корма становится – по цвету сиропа – розовым, голубым, желтым. Достаточно угостить ту же семью парочкой мух – и прозрачное содержимое брюшка живых бидонов замутится. Видимо, рецепты изготовления муравьиного меда не слишком строги.
Конечно, муравьиный мед отличается от пчелиного и бывает его в гнезде не так много, чтобы им можно было пользоваться до вешних дней, но все же это настоящий запас корма, которым семья может какое-то время поддерживать свое существование.
В Австралии, например, где в прошлом не было медоносных пчел, медовые муравьи до сих пор считаются у коренных обитателей страны лакомством.
Муравьиные гнезда тут зря не разоряют. У местных племен сохранились древние обряды, смысл которых сводится к охране муравейников. Зато в сезон сбора муравьиного меда на промысел выходят тысячи охотников с коробами или дублеными шкурами кенгуру, в которые складываются собираемые из многих гнезд съедобные медовые муравьи.
Муравьиный мед кисловат; возможно, это объясняется тем, что в нем есть легкая примесь муравьиной кислоты. Потребляют его в натуральном виде и изготовляют из него разные целебные и прохладительные напитки.
Медовых муравьев по сию пору собирают, и напитки из муравьиного меда делают не только в Австралии, но и в странах Центральной Америки. Что же, это лакомство не менее изысканное, чем сушеная саранча или те сухие отбросы обитающего на тамариске крохотного синайского червеца Трабутина маннипара, которые, согласно известным легендам, были когда-то объявлены манной небесной. Маннипара и значит «приготовляющая манну». Как видим, у народов некоторых зависимых стран питание даже с библейских времен не слишком усовершенствовалось.
Но вернемся к медовым муравьям.
Чтобы проследить, откуда они появляются, в стеклянное гнездо были в середине мая поселены примерно сто неразличимо похожих друг на друга рабочих уже известного нам отчасти вида Проформика назута и с ними двенадцать личинок. Матки в гнезде не было, не было и медовых муравьев.
Через сутки обитателей искусственного гнезда подкормили сладким сиропом. Насытившись до отказа, муравьи принялись обмениваться кормом. Взаимное кормление продолжалось весь день, и к вечеру стало заметно, что некоторые рабочие изрядно увеличились в размерах, брюшко их начало явно округляться. Назавтра это стало еще очевиднее: у одних рабочих муравьев брюшко продолжало расти, а у других даже уменьшилось.
Прошел еще день – и десяток или дюжина муравьев из взятой в опыт сотни сделались неповоротливыми, малоподвижными. Они были теперь раза в полтора крупнее самых крупных рабочих.
Когда, применив подкрашенный сироп, стали наблюдать сразу за несколькими медовыми муравьями, удалрсь подметить, что подкормка сливается не во все хранилища поровну: содержимое некоторых бурдюков оставалось по-прежнему бесцветным.
Но, как обильно ни кормили целое лето муравьев сахаром и белком, ни одного рабочего с разбухшим брюшком в искусственных гнездах к осени не осталось. Оно и понятно: ведь в природе муравьи только летом получают сладкий корм, а осенью, когда тли исчезают, приток углеводов в гнездо кончается. Видимо, у муравьев и выработалась сезонная способность накапливать жидкий корм.
Весной в гнездах появляются первые живые бурдюки, а в разгар лета в глубине муравейников можно найти уже ряды уцепившихся ножками за потолок, висящих, как окорока в коптильне, круглобрюхих медовых муравьев. Если какой-нибудь из них оборвется, он так и будет лежать; рабочие муравьи выпьют его и сложат корм в висящих.
Фуражир, вернувшись в гнездо, пробирается к голове медового муравья и, скрестив с ним антенны, передает ему принесенную порцию. Корм до тех пор сливается в утробу медового муравья, пока тот не перестанет его принимать.
В то время как фуражиры продолжают сносить пищу в гнездо и передавать ее на хранение своим разбухшим собратьям, остальные пользуются запасом. Подбегая то к одному, то к другому хранителю меда, они протягивают к нему усики и слизывают отрыгиваемую в ответ каплю.
Многие обитатели гнезда, как видим, скрещивают с медовым муравьем антенны, но значение этих прикосновений различно. В ответ на одни – корм принимается, заглатывается, в ответ на другие – отдается, отрыгивается.
Чего стоит медовый муравей как запас корма? Говорилось, что у Проформика назута такие муравьи невелики; но есть виды, у которых медом, содержащимся в зобике, можно прокормить по крайней мере сотню рабочих в течение чуть ли не десяти—пятнадцати дней. А в одном гнезде даже в средних широтах бывает и по нескольку десятков медовых муравьев.
Расстанемся теперь с гнездами, в которых живые муравьи хранят в зобиках углеводы, постепенно расходуемые в трудную пору, и заглянем в такие, где муравьи не просто хранят запасы, собранные вне дома, а постоянно выращивают у себя под землей концентрированный корм...
Но это уже тема следующей главы, в которой речь и идет об отношениях, связывающих муравьев с растительными видами не через насекомых, а через посредство растений же, в данном случае через грибы.
Муравьи-листорезы
Все исследователи муравьев так или иначе отмечают, что только неистребимо буйная растительность тропических стран способна пропитать ненасытную породу муравьев-листорезов из рода Аттин.
Достаточно выразительна уже одна величина гнезд, сооружаемых этими муравьями: ходы и камеры охватывают иной раз десятки кубометров грунта.
Трехмерная паутина подземных сооружений бесконечно запутана, но внешние ее очертания, в общем, почти всегда напоминают яйцо, поставленное тупой вершиной кверху. Примерно в центре яйца находится надежнее всего защищенная камера с маткой. Во все стороны от нее прорыты ходы к устроенным вокруг камерам с пакетами яиц и личинок, а также к складам куколок. От этой части гнезда, заполненной подрастающими поколениями, разбегаются новые ходы, ведущие к еще более многочисленным и более просторным камерам, в которых зреет пища, потребляемая всей семьей. Сердцевина с маткой и ее потомством окружена внешней кормовой оболочкой, подобно желтку, облегаемому в яйце белком.
Еще более сложен план наземных сооружений гнезда Аттин.
От высоких (нередко метровых) и массивных (иной раз они достигают и десятка метров в диаметре) насыпей, сооружаемых листорезами, разбегаются в разные стороны не широкие, но отчетливо заметные в траве тропинки.
Время, говорит венгерская пословица, и муравьиный след на камне отпечатает. От зари до зари – у части видов преимущественно ночью – движутся по своим трассам цепи рыжеватых голенастых муравьев с обрезками листьев в жвалах. Навстречу из гнезда беспрерывно выбегают другие, уже, видимо, оставившие свой груз дома.
Дороги, по которым движутся цепи листорезов, ведут от подножия насыпей, окружающих ходы в гнездо, к разбросанным вокруг деревьям.
Поднявшись на дерево, фуражиры – крупные муравьи с сильными, как у солдат, челюстями – добираются до листьев и всеми шестью ножками вцепляются в край пластинки. Постепенно описывая круг от места прикрепления, муравей жвалами, словно ножницами, выстригает кусок луста. Зажав вырезанную пластинку в челюстях, листорез спешит с грузом вниз, на дорогу, по которой движутся другие фуражиры. И вот уже к горловинам ходов в гнездо текут живые зеленые ручейки из тысяч муравьев.
Парагвайские, бразильские, аргентинские листорезы начио кроны, принимаются перепиливать черешки листьев. Зеленый дождь проливается с дерева, сплошной слой листвы устилает землю,
К упавшим листьям подбегают чуть меньшие муравьи, которые острыми челюстями располосовывают зеленые пластинки на части. Другие листорезы из того же гнезда, уступающие в размерах и тем, что орудуют на дереве, и тем, что кромсают лист на земле, подхватывают обрезки и выбираются с ними на дорогу, включаясь в вереницу бегущих к гнезду носильщиков-тягачей.
Отрезок листа может весить больше, чем сам фуражир. Такой груз был бы для муравья в других условиях непосилен, но в русле тропки, выровненной и утоптанной ножками тысяч и тысяч листорезов, он быстро доставляется к цели.
Зажав в челюстях зеленый обрезок, листоносы бегут почти невидимые сверху: пластинка листка прикрывает каждого грузчика наподобие зонтика.
Недаром Аттины именуются также зонтичными муравьями.
Нешуточное это дело, когда такие муравьи нападают на плодовый сад. Огромные деревья с густыми кронами за одну ночь превращаются в черные, догола раздетые скелеты. И только наиболее чуткие сторожевые псы жалобно скулят, когда мимо них бесшумно скользят в темноте фуражиры, уносящие снятое с дерева зеленое одеяние.
Не просто было установить, куда поступают в подземном лабиринте Аттин свежие листья и что там с ними происходит.
Теперь все это уже известно.
Обрезки листьев, принесенные в гнездо и сданные здесь муравьям-приемщикам, сильно ими измельчаются.
Муравьи Акромирмекс, например, разрезают куски листьев на узкие полоски, а потом с поразительной сноровкой скребут, обдирают, разглаживают, укладывают, взбивают зеленую массу, очень ловко проделывая все операции челюстями и шестью ножками.
Измельченная зелень складывается по окраинным камерам гнезда. Влага, испаряющаяся из этой массы, и тепло, выделяемое ею, превращают темные подземные полости в подобие теплиц. В этих теплицах Аттины разводят грибы для собс¬венного пропитания, обильно удобряя грядки, сложенные из листовой зелени.
Что значит «обильно удобряя»? Как это ни удивительно, сказанное следует понимать буквально: в камере муравей, держа передними ножками кусочек зеленой массы или комочек грибка, подносит его к концу брюшка, изгибающегося вперед, и при этом выделяет капельку, поглощаемую комочком. Этот момент известен теперь уже не только из рассказов и зарисовок наблюдателей, но удостоверен и четкими фотографиями, сделанными в искусственных гнездах.
Проходит немного времени – и удобренная почва подземной грядки в камере-парничке уже вся оплетена густой сетью гриба.
В одних муравейниках растут плесневые грибы, в других – шляпочные. Кстати, крохотный шляпочный гриб Розитес гон-гилофора – дальний родич мухоморов – нигде, кроме как в гнездах листорезов, и не обнаружен.
Итак, зеленый поток, всасываемый гнездом листорезов и исчезающий в его чреве, представляет собой не корм и даже не сырье для изготовления корма, а лишь массу, на которой может быть выращен гриб. Впрочем, не сам по себе гриб, вырастающий на грядке, служит пищей муравьям. Они его подрезают и обгрызают у основания, а отрезанные частицы бросают, так что те идут, в общем, только на удобрение грибницы. Выступающие же на срезах прозрачные капли жадно слизываются. Со временем на этих местах образуются наплывы – затвердения. Вскоре они покрывают грядку густой щеткой прозрачных булавообразных, похожих на крохотные ампулы, телец, богатых белком.
Подобные тельца называют (и название это прочно за ними закрепилось) муравьиными кольраби. Именно кольраби и есть главная пища листорезов и как бы конечная цель культуры гриба в муравейнике.
Так листовая зелень, еще недавно поглощавшая энергиюс олнечных лучей, преображается во мраке гнезда и, сливаясь с сыростью и теплом подземных ниш, порождает питательную массу, на которой вырастают новые поколения листорезов.
Уже говорилось, что зелень для набивки парниковых камер заготовляют муравьи самых больших размеров, а те, что помельче, разделывают зеленую массу внутри гнезда. Непосредственно с культурой гриба на грядке связаны самые мелкие муравьи. В густых зарослях грибницы, заполняющих камеры-чуланы, орудуют именно они. Прищипка грибницы, предотвра¬щающая образование спороносцев, – их дело.
Самки муравьев Аттин чрезвычайно неспокойны и раздражительны. Помещенные в пробирку, они пробуют грызть стекло. Когда через пробирку, вынесенную из темноты, пропускают тонкий луч, они, проявляя крайнюю нетерпимость к свету, делают попытку атаковать луч, схватить и перепилить его жвалами.
Все это, однако, не помешало провести наблюдения, объяснившие, что происходит в новом чистеньком гнезде с грибковой закваской, которую принесла с собой молодая основательница гнезда.
Незадолго до ухода из родительского муравейника самка прячет кусочек грибницы в защечный мешок, как называют иногда подротовую сумку. Вернувшись после брачного полета, она устраивается в зародышевой камере, с которой начинается новая колония. Уже через день, выплюнув грибок и окропив его своими экскрементами (это тоже удалось впервые увидеть именно в искусственном гнезде с молодыми Аттинами), она принимается выхаживать грибницу.
К исходу второго месяца матка успевает отложить в зародышевой камере какое-то количество яиц, большинство которых, правда, сама же поедает. Но в конце концов какая-то часть яиц сохраняется и даже превращается в личинок.
Удобряемая грибная грядка в гнезде начинает разрастаться. Самка прищипывает гриб жвалами, и к концу второго месяца по периферии грибницы появляются первые кольраби, которые матка ест сама, а частично скармливает личинкам: это существенное подспорье в трудном деле выхаживания членов будущей семьи. Вскоре они появляются на свет.
Первые поколения рабочих муравьев в гнезде, как всегда, представлены крошечными формами, лилипутами, но они как раз лучше всех приспособлены для ухода за грибницей. Муравьи-крошки свободно движутся в зарослях, удобрения наносят непосредственно на грядки, прищипку производят не только по краю, как самка, но и в центре. Гриб разрастается все быстрее, но сами муравьи-лилипуты еще не едят созревающие на местах прищипки кольраби, а довольствуются вытекающим из надкусов соком. Они как бы приурочивают появление кольраби ко времени выхода из коконов своих молодых собратьев, значительно более крупных, обладающих более совершенным ротовым аппаратом, более сильными челюстями. Эти муравьи, подкрепив свои силы грибом, начинают прокладывать выход на волю.
В одном опыте первым фуражирам, вышедшим из гнезда, подбросили лепестки белой и желтой розы. Благодаря светлой окраске лепестков нетрудно было проследить за их судьбой и увидеть, как муравьи разрезали и перенесли лепестки в глубь гнезда, а здесь, разделав на мельчайшие кусочки, в конце концов уложили под грибницу.
Таким образом, выяснилось, что рабочие, впервые выходящие из гнезда, которое столько времени жило за счет собственных запасов, ищут не корм, не поживу... Нет, первая добыча первых фуражиров предназначена, оказывается, только для того, чтобы поддержать процесс, идущий в грядке. Добыча кладется как питание для грибницы. Это свежая порция органического удобрения.
Со временем вылазки фуражиров делаются все более регулярными. Грибной сад становится все пышнее, население муравейника растет, и самка мало-помалу освобождается от старых занятий. Она перестает обращать внимание на куколок, которых еще недавно переносила с места на место, затем отказывается от ухода и за старшими личинками. Вскоре все личинки полностью переходят на иждивение молодых рабочих муравьев. Справиться с выкормкой молодняка им помогает грибница, которая дает теперь столько корма, что вся колония быстро набирает силу.
Описываемые здесь особенности поведения муравьев, выращивающих корм в подземных грибоводнях, могут показаться диковинной сказкой. Но в конце концов это только еще один случай симбиоза, взаимопомощи двух видов.
В отношениях муравьев с тлями, со щитовками или с бабочками оба связанных взаимопомощью вида – насекомые. В отношениях муравьев-листорезов с родичем мухоморов взаимопомощь объединяет вид насекомого с видом гриба. В этом случае, как и в прежних, не одна, а обе стороны пользуются преимуществами сожительства.
Межвидовая взаимопомощь бывает иногда настолько многосторонней, что может, насквозь пронизав образ жизни двух видов, слить их как бы в один, и тогда двойственная природа подобного образования скрывается от прямого наблюдения. Немало пришлось потрудиться ученым, прежде чем они установили, что лишайник, например,– это не единый организм, а сожительство двух различных растительных созданий: гриба и водоросли.
На этом примере обоюдная польза сожительства особенно наглядна: зеленая водоросль питает гриб за счет углекислоты, усвоенной при содействии солнечного света, гриб доставляет водоросли минеральные соли, которые добывает, постепенно разрушая древесину и горные породы. В сухих условиях, когда водоросль обречена на гибель, ее поддерживает гриб. Когда нет органической пищи и гриб сам по себе был бы обречен, его кормит водоросль. И гриб и водоросль способны жить врозь, размножаться раздельно. Но на коре дерева или на гладкой скале, где не прожить ни грибу, ни водоросли, они могут процветать лишь в виде лишайника, который растет, развивается и размножается, как двуединое живое образование.
Итак, симбиоз взаимовыгоден. Существует ли такая обоюдная выгода и в отношениях муравьев с грибом?
Муравьям гриб, как мы видели, явно необходим. Но грибу какая польза от муравьев?
Обдумывая ответ на этот вопрос, вспомним, что Розитес гонгилофора, например, водится только в муравейниках листорезов и больше нигде не встречается. Видимо, именно здесь, в муравьином гнезде, гриб находит все необходимое ему для жизни.
Муравьи кормятся кольраби. Но разве муравьи не скармливают грибу массу сочной зелени, разве не удобряют для него почву, разве не берегут от губительного холода, не обеспечивают необходимой влагой? И даже то, что муравьи, сгрызая спороносцы, не дают грибу размножаться спорами, не меняет дела, потому что молодые самки, улетая из родного гнезда в брачный полет, как мы знаем, уносят с собой в защечном мешке несколько клеток грибницы...
Так что и самый процесс расселения муравьев и гриба уже как бы слился воедино.
Несколько выше были приведены слова К. А. Тимирязева, заметившего, что в прошлом в биологии все прожужжали уши словом «борьба», к тому же понимаемым совершенно превратно в самом грубом и узком смысле...
Действительно, в прошлом (теперь хорошо известно, чем это объяснялось) в жизни природы видели сплошь одну только борьбу, грызню, конкуренцию, уничтожение, угнетение слабого сильным и даже, как мы недавно убедились, войны, грабежи, рабов, рабовладельцев.
Если говорить о борьбе и конкуренции, то эта сторона в природе есть, но в ней далеко не вся природа. В жизни живого переплетены борьба и взаимопомощь, взаимоистребление и симбиоз. А между тем и до сих пор еще чуть ли не во всех учебниках и пособиях, едва заходит речь о явлении симбиоза, немедленно приводятся со школьной скамьи набивающие оскомину примеры лишайника да еще рака-отшельника с актинией. Эти случаи так настойчиво повторяются, как если бы они были единственными в своем роде.
Но как мы можем видеть из всего, о чем выше шла речь, уже один мир муравьев, в котором пример сожительства листорезов с питающим их грибом – это только капля в море, убеждает нас, что симбиоз, взаимопомощь видов распространены в природе несравненно шире, чем принято было думать.